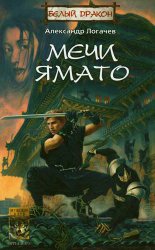Лекарство против страха Вайнер Аркадий
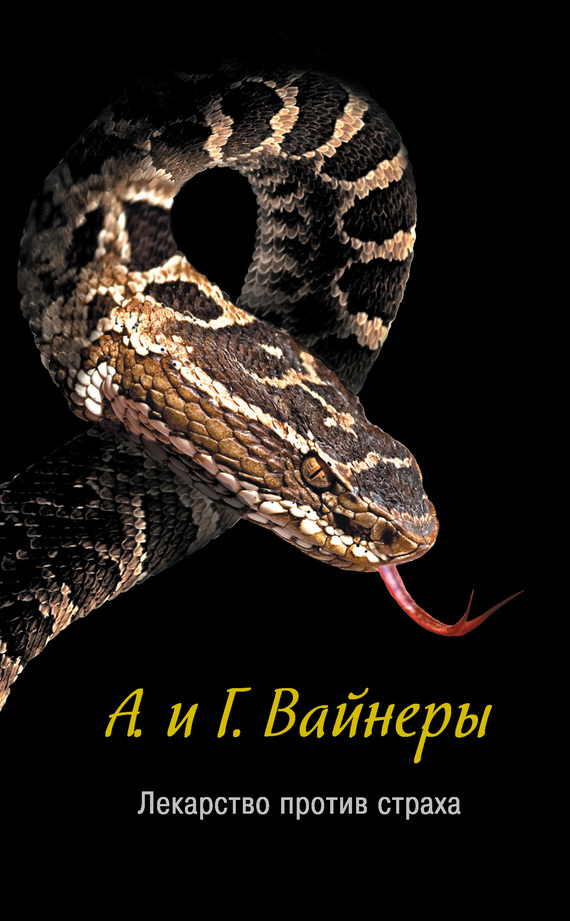
И от всего этого человеческого монолита, свободно расположившегося в удобном кресле за сверкающей крышкой пустого письменного стола, веяло такой железной уверенностью, таким благополучием, такой несокрушимой решимостью сделать весь мир удобным для потребления, что я немного растерялся и сказал как-то неуверенно:
— Вам должны были звонить обо мне. Я инспектор МУРа Тихонов…
— Очень приятно. Профессор Панафидин. Прошу садиться.
И я сразу обрел утраченную на мгновение уверенность, потому что из этого сгустка целенаправленной человеческой воли тоненьким голосом пропищала обычная людская слабость — рядовое маленькое тщеславие, ибо в традиционной формуле приветствия и знакомства я уловил горделиво-радостное удовольствие от произнесенного вслух своего титула — символа принадлежности к особому кругу отмеченных божьим даром людей. И еще я понял, что профессорское звание Панафидин носит недавно.
Я уселся в кресло, протянул Панафидину криминалистическое заключение и отдельный листок с вычерченной экспертами формулой вещества, извлеченного из пивной пробки.
— Нам нужна ваша консультация по поводу этого вещества. Кем производится, где применяется, для чего предназначено.
Панафидин бегло прочитал заключение, придвинул листок с формулой и внимательно рассматривал ее; при этом он шевелил верхней губой и указательным пальцем двигал по переносице очки. Я разглядывал пока кабинет. На подоконнике лежала прекрасная финская теннисная ракетка, а в углу, рядом с вешалкой, белая спортивная сумка с надписью «Adidas» — предмет вожделения всех пижонов. Панафидин поднял на меня сине-серые, чуть мерцающие, как влажный асфальт, глаза, спросил:
— А у вас что, есть такое вещество? — и мне показалось, что он взволнован.
— У меня — нет, — сказал я.
Я готов был поклясться, что Панафидин облегченно вздохнул. Отодвинув листок, сказал с холодной усмешкой:
— Ваши эксперты ошиблись. Это артефакт. — И снисходительно пояснил: — Искусственный факт, научная ошибка, небыль.
— Почему? — настороженно спросил я, совершенно отчетливо заметив растянутый на несколько мгновений перепад настроения Панафидина.
— Потому что такого вещества, к сожалению, еще не существует. — Панафидин кивнул на листок с эскизом формулы. — Эта штука называется «Пять-шесть диметиламинопропилидендесять-семнадцать-дигидрооксибен-зоциклогептан гидрохлората». Похоже на сильнодействующее лекарство триптизол, но, видимо, во много раз сильнее за счет аминовых групп…
— Как же вы можете запомнить такое? — с искренним недоумением спросил я.
— Во-первых, я читаю по формуле, — усмехнулся Панафидин. — Во-вторых, мы сами занимаемся этим. Довольно давно. И, к сожалению, пока безрезультатно.
— То есть вы хотите сказать, что науке неизвестно это вещество?
Видимо, я сказал что-то не так, потому что Панафидин снова — еле заметно — усмехнулся и пояснил:
— Химикам известно это соединение, но только на бумаге. Получить его, хотя бы лабораторно, «ин витро», нам пока не удается.
— Чем же объясняется ваш интерес к этому соединению?
— По нашим представлениям, это транквилизатор гигантского диапазона действия. Существование такого лекарства могло бы произвести революцию в психотерапии…
— В чем отличие его от существующих транквилизаторов?
Панафидин задумчиво покрутил пальцем на столе зажигалку — красивую обтекаемую вещицу, похожую на кораблик, — внимательно посмотрел на меня:
— По-видимому, вы в этих вопросах не совсем компетентны, поэтому я постараюсь упростить все до схемы. Суть состоит в том, что двадцать лет назад доктор Бергер выпустил из бутылки джина, которому ученые присвоили название «транквилизатор», то есть «успокаивающий». Началась эра прямого воздействия химии на психическое состояние человека. В целом это было исключительно своевременное открытие, потому что неизбежные вредные последствия научно-технического прогресса — умственные перегрузки, бешеный поток информации, уровень шума, общий темп жизни — все стало обгонять способность нашей психики прилаживаться к переменам в мире.
Зазвонил телефон.
— Извините, — сказал профессор и снял трубку: — Панафидин у телефона. А-а! Сколько лет, сколько зим! В наше время, чтобы дружить, надо или жить рядом, или вместе работать… Если хочешь, приезжай сегодня на стадион «Шахтер», там прекрасный корт… Нет, я на «Химик» не езжу — неинтересно. Ну и отлично! До вечера, обнимаю. — Панафидин опустил трубку на рычаг и без малейшей паузы продолжил: — Результатом отставания нашей психики от прогресса явились нервные перегрузки, депрессии, необъяснимые страхи. И тут появились транквилизаторы, снимающие подобные явления. Естественно, что они стали широко применяться во всем мире…
Я перебил Панафидина:
— На какие органы воздействуют транквилизаторы?
Панафидин чиркнул зажигалкой, закурил сигарету, подул, отгоняя от себя синее облако дыма, затем не спеша сказал:
— На лимбическую систему — есть такая между большими полушариями мозга и его стволом. Грубо говоря, именно здесь рождаются человеческие эмоции. Так вот, после открытия Бергера химики, психиатры и психологи стали искать во всех направлениях аналогичные лекарства.
— Вы сказали: «химики стали искать». Что, подбирать на ощупь? — спросил я.
— Ну, не совсем так. Скорее, даже совсем не так. Конечно, элемент слепого поиска присутствует в любом эксперименте, но мы выбираем вещества одного класса и группы. И препарат мы ищем с заранее запрограммированными свойствами.
— И вот это, — я кивнул на листок с формулой, — должно реагировать по заданному механизму?
— Да, мы твердо рассчитываем на это. Но, к сожалению, вещество сие пребывает пока только в области наших научных планов и пожеланий. Интерес химиков и врачей к нему таков, что еще не полученное соединение уже окрестили — мы называем его метапроптизол. Вот только получить его еще никому не удалось, во всяком случае, по моим сведениям, а мы следим за всей мировой литературой по этому вопросу.
Я спросил:
— А почему вы считаете, что такое лекарство произвело бы революцию?
— Хм! Постараюсь объяснить популярно. Вы помните сказку про царевну Несмеяну?
— Ну?
— Царевна была печальна, удручена, несчастна. И никогда не смеялась. Потом явился Иван-царевич, дал ей что-то, волшебную ягоду, что ли, не помню. И Несмеяна засмеялась. Улавливаете?
— Нет пока…
— Мифы основаны на важных истинах. Девочка Несмеяна была психически больна. Иван-царевич дал ей какой-то неведомый транквилизатор — и она выздоровела. Так возник миф. А действительность… ну что вам сказать? С помощью большого транквилизатора можно было бы побороть гипертонию, язвы, депрессии, неврозы. Шизофрению, наконец. Главный же смысл лекарства в том, что оно снимало бы полностью человеческие нервные перегрузки. Человек был бы избавлен от таких состояний, как страх, испуг, подавленность.
— Вот, оказывается, как это просто, — сказал я. — Науке остается только получить лекарство — и порядок. Раскрыть, так сказать, секрет Ивана-царевича…
— К сожалению, это не так просто. Дело в том, что мы пока что самого-то Ивана плохо знаем. Человечество зазналось от своих микроскопических научных побед. Человека распирает гордость от того, что он топает по Луне, спустился на дно океана, поймал чуть ли не в ладонь нейтрино. Но о самом себе человек не знает почти ничего. Почти ничего или катастрофически мало.
Я поднял руки:
— Не разочаровывайте меня. Я был лучшего мнения о достижениях медицины.
— Не надо понимать меня слишком буквально. Современная наука не разделяет точки зрения Заратустры, который считал печень местопребыванием всех страстей и огорчений. У нас другая позиция. Однако, если оценивать мир достаточно трезво, не больно-то далеко мы ушли от этих представлений.
Я ухмыльнулся:
— У вас отношение к человеческому существу еще проще, чем у патологоанатома.
Панафидин пожал плечами:
— Откуда ему взяться, другому отношению?..
Зазвонил телефон. Панафидин извинился и снял трубку:
— Владимир Петрович! Я вас приветствую. Разумеется, помню обо всем и подтверждаю: долг платежом красен. Да, да, да, это я понимаю. Но вы и меня поймите — мне тоже надо лавировать. Лично быть оппонентом я готов хоть завтра, а обещать свою контору в качестве оппонирующей организации — не могу… А я вам и говорю прямо и честно: так за мои труды мне и хула и почести, а так — на дядю работа. У меня и без того со временем туго, не хватало еще, чтобы кто-то на моем хребте в рай въезжал… Это пожалуйста — думайте. Обнимаю вас, мой дорогой… — Он положил трубку и хмыкнул: — Ишь, деятели, дурачков ищут. Ну ладно, вы сетовали на упрощенность…
— Не будем спорить, — сказал я примирительно, потому что понял, что дискуссия может завести нас слишком далеко. Я взял в руки листок с нарисованной чудовищной формулой, посмотрел на него, и было мне это совершенно непонятно. — Александр Николаевич, вы сказали, что по формуле вещество похоже на триптизол. Какая, по вашим наблюдениям, доза триптизола понадобилась бы, чтобы здоровый человек, приняв ее, через десять — пятнадцать минут потерял сознание?
Панафидин удивленно посмотрел на меня:
— Странный вопрос, мне никогда не приходилось с ним сталкиваться. Ну, прикинем, — он взял ручку, написал что-то на листе бумаги, что-то перемножил. — Думаю, что таблеток тридцать в обычной расфасовке по ноль двадцать пять миллиграмма на порцию. А что? Почему у вас возник такой вопрос ко мне, если не секрет?
Я подумал и решил, что ему можно сказать.
— Дело в том, что вот этим веществом, которого, как вы полагаете, еще не существует даже в лабораторных количествах, был отравлен человек. Нам очень интересно, откуда преступник мог его взять.
Панафидин вскинул на меня глаза, и мне показалось, что он побледнел.
— Отравлен? — переспросил он каким-то осевшим голосом. — Минуточку… Минутку… А почему вы думаете, что именно метапроптизолом?
— Не я так думаю, эксперты наши говорят…
— Понятно, что не вы думаете!.. — с неожиданной для меня злой досадой перебил Панафидин. — На каком основании они пришли к такому выводу? Труп исследовали?
— Не-ет, до этого дело не дошло, — сказал я, и мгновенный испуг окатил меня холодной волной, когда я представил себе Позднякова мертвым. — Человек-то выжил…
— Так что же они исследовали, черт возьми?! — закричал Панафидин, и тут же зазвонил телефон. Он рывком схватил трубку, не слушая, рявкнул: «Я занят. Позже!» — и шваркнул трубку с такой силой, будто хотел выместить на ней злость на мою непонятливость. — Что? Откуда они пришли к этой формуле? Какое вещество они исследовали?!
Я сказал спокойно:
— Пробку от пивной бутылки. В бутылке был растворен яд…
— Пробку? Но там же ничтожно малые следы… Разве могут ваши эксперты…
— Могут, — авторитетно сказал я и вспомнил Халецкого. — Наши эксперты все могут.
Панафидин резко поднялся:
— В таком случае я хотел бы сейчас же поговорить с ними. И посмотреть протоколы анализов… если можно.
— К сожалению, экспертов нет сегодня, — сказал я на всякий случай. — У них республиканское совещание. Через день-два — пожалуйста.
Панафидин сел.
— Черт побери все совещания… — сказал он почти механически и надолго задумался, энергично растирая лоб холеными длинными сильными пальцами. — Нет, не может быть. Артефакт. Артефакт… Ошибка…
Я пожал плечами, а Панафидин продолжал бормотать себе под нос:
— Ну, хорошо, отравили, допустим. Но почему, зачем метапроптизолом?! Чушь какая! Сколько ядов существует! Так или нет, инспектор? Я вас спрашиваю!
— Вам виднее, — сказал я нейтрально.
Тут, вероятно, новая мысль промелькнула у Панафидина, и он спросил быстро:
— Преступник задержан?
— Мы с этим разбираемся, — ответил я уклончиво. — Факт тот, что, если эксперты не ошиблись и вещество все-таки открыто, первой же дозой его преступник распорядился совсем не по назначению.
— А кого отравили? Опять же, если не секрет?
— Был отравлен работник милиции, — сказал я. — Преступник похитил у него пистолет и служебное удостоверение.
— Азия какая, дикость, — пробурчал Панафидин, взяв наконец себя в руки. — Сотни людей ищут соединение, чтобы исцелить страждущих, а какой-то дикарь травит им здорового человека.
И снова зазвонил телефон. Уже не извиняясь, Панафидин снял трубку:
— Да, я. Здравствуйте. Всеволод Сергеевич… Что Соколов? Три года его аспирантского срока истекли, эксперимент он закончил, пусть теперь уходит и пишет на покое диссертацию. Нет, я его на этот срок к себе не возьму. Мне это неприятно вам говорить, но вы знаете мою прямоту и принципиальность в научных вопросах. Ваш Соколов — парень хоть и неглупый, но неорганизованный и полностью лишенный интуиции синтетика. Он работы не понимает, не имеет к ней вкуса и интереса, он не любит химию. А за прекрасные анекдоты и шутки, которыми он три года развлекал лабораторию, я держать у себя захребетника не стану. Вы уж простите меня, но я лучше в глаза всегда скажу. Пусть сам побарахтается. Нам ведь с вами никто диссертаций не писал, а защищались мы досрочно потому, что свое дело любили и кушать хотели. Ну, этого я не знаю, решайте по своему усмотрению. — И закончил злобно: — Всего вам доброго…
Он помолчал, потом, повернувшись ко мне, сказал:
— И все-таки я думаю, здесь недоразумение. Я не верю, что какой-то химик получил это соединение и не понимает, что у него в руках.
— Вы не верите в возможность случайного открытия этого соединения?
Панафидин раздавил окурок в пепельнице, усмехнулся:
— Ваш вопрос прекрасно иллюстрирует общие представления людей о характере нашей работы. Бродим все впотьмах, вдруг одному повезло: бац! — великое открытие. И как клад извлечено на всеобщее обозрение. Так сейчас не бывает…
— А как бывает? — смирно спросил я, хотя он мне уже прилично надоел своей ученой гоношливостью, но мне не хотелось, захлопнув его дверь, ставить на деле точку. И кроме того, еле заметное и все-таки уловленное мною волнение Панафидина будоражило мой сыскной нюх. Что-то он знал, или догадывался о чем-то, или имел какое-то дельное предположение, но говорить не хотел.
— Наука очень специализировалась. И в каждой ее области масса прекрасных специалистов занимается тончайшими проблемами. И когда совокупность их знаний достигает необходимого уровня, кто-то из них кладет последний кирпичик — часто совсем крошечный кирпичик, — и великое здание открытия завершено.
— Может быть, кто-то и положил уже этот кирпичик в здание метапроптизола?
— Нет, — покачал он головой. — Я ведь сам прораб на сей стройке и знаю, что у кого сделано: мы этот дом еще под крышу не подвели.
— А вдруг, пока вы тут свой храм из кирпичей складываете, вот тот самый отгрохал коробку из бетонных блоков — и привет?
— Все возможно. Но для этого надо быть в математике — Лобачевским, в физике — Эйнштейном, а в химии — Либихом. У вас есть на примете Либих? — спросил Панафидин, поднялся и сказал: — Я часто задумываюсь над удивительным смыслом своей профессии. Я химик, может быть, это объясняет некоторую мою тенденциозность, но постепенно в моем мировоззрении возник этакий химикоцентризм. Действительно, химия проникает повсюду: страх — адреналин в крови, радость — норадреналин в крови. Кофточки, резиновые покрышки, любовь, платья, костюмы, деторождение, заводы, удобрения, урожай — все становится зависимым от химии. Химия впереди всей человеческой науки…
— Ну а если считать, что все новое — лекарства, идеи, теории, машины, моды — все исходит от науки, то вы — впереди всего человечества! — Я усмехнулся и, не давая возможности Панафидину ответить, спросил: — Не могли бы вы показать мне вашу лабораторию? — И на всякий случай уточнил: — Ту, где вы работаете над метапроптизолом.
— Почему не могу? Пожалуйста…
Панафидин достал из стенного шкафа белый халат, подсиненный, накрахмаленный, выглаженный до хруста, натянул на широкие плечищи.
— Пошли? Вам халат дадут в лаборатории…
Но мы не успели выйти, потому что еще раз позвонил телефон.
— Панафидин. А-а, здравствуй, здравствуй. Да, у меня люди. Я убегаю, позвони через час… Ну, тогда давай договоримся: в субботу без четверти семь у входа в Дом кино. Да, да, мне Гавриловский билеты оставит. Ну, не знаю я — надень что хочешь… Да — во всем. И всегда. И больше никто. И никогда. Всего доброго…
Аквариум с желтоволосой тропической рыбкой, стеклянная дверь, пластиковый бесконечный коридор с неживым дневным светом, поворот налево, переход направо, темный холл, разломленный столбом дымящегося солнца, лестница — два марша вверх, коридор, выкрашенная белилами дверь с табличкой «Лаборатория № 2».
В большой комнате с многостворчатым окном работало четверо.
— Здравствуйте, друзья, — сказал Панафидин.
Люди рассеянно оглянулись, разноголосо прокатилось по комнате:
— Здрас-те, Алексан-Никола-ич…
Ни на мгновение не отрываясь, все продолжали заниматься своим делом. Одна из сотрудниц собирала на длинном столе у торцовой стены грандиозный прибор: в нем было штук пятьдесят колб, разнокалиберных пробирок, стеклянных соединительных трубок, краны, нагреватели. В различные узлы этого хрупкого и очень гармоничного сооружения были вмонтированы электрические датчики, подключены приборы, сигнальные лампы, в овальный герметический баллон литров на десять впаяны похожие на игрушечные лопатки электроды, соединенные с индукционным генератором.
За столом у окна коренастый паренек с модной прической колдовал над прибором.
— Как дела, Сережа? — обратился к нему Панафидин.
Парень помотал головой из стороны в сторону:
— Разваливается продукт, Александр Николаевич.
— Я тебе достал молекулярные сита на три ангстрема, зайди ко мне.
В приборе булькала, закипая, какая-то жидкость. Центром прибора, видимо его главной частью, была крупная трехгорлая колба, под которой курилась паром водяная банька. В среднее, широкое горло опускался гибкий привод от моторчика — двухлопастная мешалка беспрерывно взбалтывала содержимое сосуда. Через правый ввод в колбу спускалась капельница, раздельно сочившая желтые тяжелые бусинки. В левое горло был введен радиационный охладитель — стремительно взлетавшие по трубке пары оседали каплями на омываемом циркулирующей водой стекле и медленно стекали снова в колбу.
Панафидин, остановившийся за моим плечом, сказал:
— Так называемая реакция Гриньяра. Но главная наша надежда там, — он махнул рукой в сторону системы у стены. — Она должна сработать…
И мне послышались в его голосе горечь, усталость, почти отчаяние.
— В чем у вас главная трудность? — спросил я.
— Молекула не держится. В схеме она состоит из нескольких очень больших блоков. Но чтобы устойчиво соединить их, в колбе нужен определенный режим — температура, давление, свет, катализаторы. Для каждой отдельной связи в молекуле мы параметры определили. А все вместе — никак… Это очень трудно.
Да, наверное, это действительно трудно — быть впереди всего человечества.
К нам подошла женщина, которая собирала огромный прибор, поразивший мое воображение. Она сухо кивнула мне и сказала Панафидину:
— У меня с двух часов семинар с практикантами.
— Хорошо, Анюта. Познакомься, это инспектор Тихонов. — Повернулся ко мне: — Анна Васильевна Желонкина, мой заместитель в лаборатории.
Желонкина? Совпадение? Я не мог вспомнить инициалы жены Позднякова — ее объяснение я читал в деле. И на всякий случай, не мудрствуя, спросил:
— Простите, а как фамилия вашего мужа?
— Поздняков, — ответила она быстро и добавила: — Можно подумать, что вы не знаете.
Панафидин удивленно переводил взгляд с Желонкиной на меня, потом сказал:
— Ах да, я же забыл: муж Анны Васильевны тоже в милиции работает…
Желонкина бросила на него короткий взгляд:
— Вы полагаете, что все работники милиции дружат домами?
Я вмешался:
— Мне с вами надо поговорить, Анна Васильевна.
— В четыре часа я буду у себя в кабинете…
Жена Позднякова знала об истории, которая с ним приключилась. И мужу своему не верила. Конечно, она мне этого не сказала, но я видел, что она ему не верит и не жалеет его. Вообще Анна Васильевна Желонкина показалась мне человеком, раз и навсегда усвоившим, что жалость унижает человека. Лицо у нее было грубоватое и красивое, хотя твердые, прямые морщины у глаз и крыльев носа уже наметили тот зримый рубеж, перевалив за который красивая женщина сразу превращается в величественно-каменную старуху.
И от старания не показать мне, что ей не жалко завравшегося, бестолкового мужа, и от стыда за его позорное поведение Анна Васильевна хотела придать всей истории этакий анекдотический характер: мол, в подобных делах можно было бы проявить сочувствие и понимание — с кем из вас, мужиков, такое не может приключиться? Для убедительности она помахала в воздухе маленькой деревянной указочкой, и, завершая ее последний ответ, который одновременно был укором, указочка описала петлю и проткнула в воздухе точку: действительно, с кем из нас, мужиков, не может приключиться такое?
Я поймал конец указочки, прижал ее к столу и ласково сказал:
— Анна Васильевна, мне кажется, вы не улавливаете, о чем я вас спрашиваю…
— А что?
— Да то, что с нами — мужиками из милиции — это никогда не должно приключаться. Если же приключается, то за это отдают под суд. И как раз в этом положении сейчас находится ваш муж. Понятно?
Она высвободила указочку из-под моего пальца и постучала по столу, и я видел по ее лицу, что охотнее она бы стучала по моему лбу. Только гораздо сильнее — лучше всего с размаху. Постучала она все-таки по столу и сказала:
— Мне-то понятно. Боюсь только, что не улавливаете вы. Я вам уже говорила, что наша семья фактически распалась несколько лет назад. Ничего плохого о Позднякове сказать вам не могу.
— А хорошего?
— Хорошее о нем у вас надо спрашивать — вы его, наверное, чаще видите…
Когда я вошел в кабинет со стеклянной табличкой «К. х. н. А. В. Желонкина», Анна Васильевна занималась с дипломниками. Она попросила меня подождать и минут пять втолковывала задумчивому студиозусу, что радикал — диметиламинопропил — в условиях сублимации из ортопозиции, минуя метапозицию, незамедлительно перейдет в парапозицию, ослабнет углеродная связь, и радикал будет замещен свободным атомом азота. Что дальше? Вещество мгновенно развалится. При этом она все время водила указочкой по схеме, на которой была изображена огромная молекула, похожая на грубо оборванный кусок пчелиного сота, и приговаривала:
— Ну что здесь непонятного? Ведь тут все так ясно, ну просто очевидно!..
Студиозусу похождения радикала явно не представлялись такими очевидными. Я же и вовсе был неспособен проникнуть в мир, устройство которого так ясно представляла себе «к. х. н. А. В. Желонкина», огромный, невероятно сложный микромир, где каждая черточка схемы была стропилом или опорой удивительного здания вещества. А для меня он давным-давно стерся и растворился в маленьком ручейке школьного полузнания загадочной и тогда мне совсем неинтересной науки, о которой сохранилась в памяти только дурацкая школярская припевка: «Химия, химия — вся макушка синяя». И потому я буквально нутром прочувствовал то почтительно-обреченное уважение и безнадежность что-либо изменить, которые испытывал инспектор Поздняков к своей жене: «…сейчас она большой человек, можно сказать — ученый, а муж у ней — лапоть необразованный…»
Студент-дипломник ушел, и мы погрузились в круговерть извилистого, запутанного мира двух немолодых уже людей, двадцать лет строивших непонятное здание своей жизни, где в условиях жаркой человеческой сублимации один из них незаметно перешел из ортопозиции в парапозицию: все годы был рядом, а вдруг оказался напротив, и тогда ослабли связи и, казалось бы, нерушимое вещество их союза мгновенно развалилось. Почему? Привычное место было замещено свободным атомом? Или здесь происходили какие-то другие, более простые или более сложные процессы? И вообще, может быть, это не имеет никакого отношения к валяющемуся на газоне стадиона беспамятному и бесчувственному Позднякову? Пьяному? Или все-таки отравленному?
— Это вас не касается, — сказала Анна Васильевна. На тяжелом ее лице быстрые глаза в длинных ресницах скользили легко, почти незаметно. — Я вам повторяю, что вы не вправе задавать мне такие вопросы…
— Да почему? — удивился я, ощущая, как моя настырность крепнет на жестком каркасе злости. А допытывался я, почему они с мужем не разводятся, коли все равно уже сколько лет не живут семьей.
— Потому что развод — наше личное дело.
— Да, так оно и было до того момента, пока не случилась вся история. А теперь это уже и наше дело.
— Вот пусть он и оправдывается перед вами, а меня оставьте в покое…
Скверная баба какая! Мне стало почему-то жалко, что она знает столько прекрасных премудростей о тайнах вещества с удивительной схемой-формулой, похожей и на пчелиные соты, и на фрагмент циклопической кладки, и на старый лабиринт, и на придуманное космическое сооружение. Конечно, лучше было бы, если бы это знание досталось человеку поприятнее. Но знание не получают в наследство — его получают те, кто достоин. «За партой, случалось, засыпала…»
…И все равно незабвенны университетские годы, а феррарская жизнь солнечна и прекрасна, потому что никогда не забыть человеку тех мест, где он незаметно превращается из застенчивого долговязого юнца в мужчину, не изгладит время из памяти сладости первого неуверенного поцелуя, не сотрется радостно-светлая дрожь первого объятия, и хорошенькая трактирщица, у которой ты впервые проснулся на теплой груди, останется для тебя навсегда прекрасной и непонятной, как герцогиня Феррарская Лукреция Борджиа.
Молодость — лучшая приправа для нашей бедняцкой еды — вареных потрохов с горохом, веселье превращается в золотой кубок для дешевого вина, которое мы пьем с хохотом и шутками, а ненасытная страсть делает ненужной пуховую постель с парчовым пологом.
Два года я поднимался по лестнице науки, пока не удостоился высокой чести — мне вручили грамоту бакалавра, класс младших студентов и круглую шляпу без полей. Из тех тридцати, с кем я впервые сел на учебную скамью, осталось двенадцать.
Еще через два года мы держим экзамен, и шестерым из нас дают трость и степень лиценциата медицины.
И еще два года мы учили младших и зубрили сами, пока не пришел мне час однажды светлым майским днем подняться на кафедру и прочитать лекцию кворуму университетских бакалавров, магистров и лиценциатов о строении костяка человека — на основании собственных наблюдений в анатомическом подвале. Диспутантом был мне лиценциат Брандт, и спорил он со мной как-то неуверенно, будто его смущало, что не может он придать живости нашему разговору, огрев меня по голове своей тростью. Он сел на место, возгласив по-латыни: «Диспутант соответствует чести нашей святой корпорации!»
Тогда медленно поднялся со своего стула Мазарди, ставший за эти годы совсем старым:
— Сын мой, ты проявил разумение и прилежание в изучении наук. С радостью я свидетельствую, что знаешь ты на выходе в жизнь искусство лекарское и мастерство хирурга, и ведомо тебе сотворение лекарств, и имеешь ты себе добрыми советчиками великих наших учителей Гиппократа, Галена и Ибн-Сину по прозванию Авиценна. Пишешь ты грамотно и изъясняешь мысли свои без затруднений на языках учености — мудром языке иудеев и прекрасном греческом, и свободен ты в чеканной речи исчезнувших латинян, и посему ты среди врачей мира, куда бы ни забросила тебя судьба, будешь не одинок, ибо все мы — одно славное сообщество, у которых единая родина — милосердие, единая цель — сотворение добра, единый враг — бездушие.
Мазарди глубоко вздохнул, словно устал от слов своих или от лет своих, помолчал и продолжил тонким голосом очень старого человека:
— В этих стенах ты повторил за своими учителями тысячи текстов и с годами обязательно многие забудешь. Но сейчас ты в последний раз в этом доме познания повторишь за мной слова, которые должен помнить всю жизнь до того мига, пока господь не призовет тебя к себе. Мы принимаем тебя во врачебную корпорацию, и ты принесешь нам присягу в верности заветам нашего ремесла…
Мазарди возложил мне на плечо сухонькую ладонь, и я вспомнил, как прыгали по его сутане цветные зайчики в незапамятно далекий день, когда я переступил порог университета.
— Говори же вослед, сын мой: клянусь отстранять от больного всяческое зло и вред!
— Клянусь!
— Клянусь вести жизнь здоровую и чистую и не лечить больных от недугов, мне неведомых, а спрашивать совета сведущего лекаря.
— Клянусь!
— Клянусь воздерживаться от нанесения обиды пациенту своему и семье его, удрученной горем.
— Клянусь!
— Клянусь воздержать душу свою от соблазна сребролюбия, а плоть от разврата.
— Клянусь!
— Клянусь именем богов сохранить в себе как святую тайну все, что доведется мне увидеть и услышать у ложа больного, и все, что не подлежит разглашению как тайна личной жизни человека, прибегнувшего к моей милосердной помощи…
— Клянусь!
— Клянусь, что не дам женщине, несмотря на самые страстные мольбы, пессария, исторгающего плод из ее чрева…
— Клянусь!..
— Прими эти символы твоего положения, — Мазарди протягивает мне книгу, кольцо и широкополую шляпу. — Жалую тебя, Теофраст Гогенгейм, званием ученого доктора медицины.
Я благодарю Мазарди за лестное предложение занять место на кафедре медицинской школы в университете. И отказываюсь.
Обиженно поджал губы, развел в стороны сухонькие ладошки Мазарди:
— Большего я не могу тебе предложить…
— Честь, оказанная мне, не по заслугам велика, — смиренно отвечаю я. — Именно поэтому сначала хочу объехать землю, многому научиться и только потом учить других…
— Разве в Ферраре тебя учили мало? — удивленно спрашивает монах. — Или плохо?..
— Мудрые учителя пробудили мой разум к свету знания. Но земля бескрайна, и во всех концах ее лечат недужных по-разному. Я хочу объединить это знание и воздвигнуть на нем новое, которое станет благом для всех…
Мазарди грустно качает головой:
— Не ведет тебя милосердие божеское, а снедает гордыня бесовская. Вся мудрость медицины собрана в трудах Галена и Авиценны. И если другие врачи своими словами перетолковывают их труды, выдавая за откровение, то сие бессмысленно и излишне. А если они учат другому, то сие для больных вредно, а потому — безбожно и преступно.
— Учитель, но ведь раньше поклонялись Гиппократу, а потомки сочли большей мудростью учение Эразистрата. Великий Гален сокрушил заблуждения грека, утверждавшего, что в наших жилах течет не кровь, а воздух. Прошли века, и мы воздали хвалу и почести Авиценне, который вслед Галену указал нам на начало и источник болезней. Может быть…
Мазарди предостерегающе поднимает руку:
— Начало и источник болезней — грех! Первые люди, созданные для бессмертия, до своего грехопадения не знали болезней и смерти. И ты впадаешь в прельщение греховное — зовет тебя гордыня вознестись над именами, для каждого врача святыми.
Глядя в пол, я твержу упрямо и дерзко:
— Святым имя врача делает постижение истины о сохранении здоровья человеческого, а ведь на великих именах не могла закончиться мудрость познания.
— Слова твои, сын мой, неразумны, а мысли суетны и мелки. Никакая человеческая мудрость не может дать или сохранить здоровье — его дает только бог. И если мы теряем здоровье, то вернуть его может лишь помощь божья, подаваемая нам телесно через врача и незримо — самим господом, когда мы взываем к нему в глубине сердца и горячо просим в молитве.
— Мессир, я хочу все знать, чтобы господу в благости его было легче направлять мою послушную руку…
— Ты странный человек, Теофраст, — вздыхает Мазарди. — Ты избрал неподходящее для дворянина занятие лекаря. Став ученым медиком, ты не хочешь с кафедры нести другим свет знания, завести круг почтенных пациентов, нажить семью, дом и имущество в него, а намерен стать кочующим грыжесеком и бродячим костоправом, вечным учеником несуществующего учения.
— Но я не могу учить других науке, которая не знает, как вылечить зубную боль, и предоставляет людям умирать зависимо от их природной комплексии и силы.
Мазарди хмурится:
— Иди, сын мой, я не смею тебя удерживать. Видно, на роду тебе написано брести среди людей, как прокаженному с мешком на голове и колокольчиком. Образ твоих мыслей, поведение твое странное делают тебя непонятным и отчуждают от людей, как холщовый мешок с прорезями для глаз. Дерзость твоя, нежелание повиноваться силам вечным и несокрушимым, как звон колокольчика, заставят всех, прислушавшись на мгновенье, разбежаться в страхе с твоего пути, и потому вечно будешь ты один. Иди…
Глава 5. «Обахээс пришел…»
Замигал глазок сигнальной лампочки на селекторе.
— Погоди, сейчас договорим, — сказал Шарапов и снял трубку. — Слушаю. Здравствуйте. Да, мне докладывали. Я в курсе. Да не пересказывайте мне все сначала — я же вам сказал, что знаю. А куда его — в желудочный санаторий? Конечно, в КПЗ. Ответственный работник? Ну и что? Безответственных работников вообще не должно быть, а коли случаются, то надо их метлой гнать. Послушайте, несерьезный это разговор: нечаянно можно обе ноги в штанину засунуть, а кидаться бутылками в ресторане можно только нарочно. Тоже мне, купец Иголкин отыскался! Чего тут не понять — понимаю. Но я думаю, что дела надо решать в соответствии с законом, а не с вашим личным положением — удобно это вам или неудобно. Вот так-то. Мое почтение…
Генерал положил трубку на рычаг, задумчиво спросил:
— Слушай, Стас, а ты часто бываешь в ресторанах?
— Десять дней после получки — часто.
— А я почти совсем не бываю. Давай как-нибудь вдвоем сходим. Я тебя приглашаю.
— Давайте сходим. Бутылками покидаемся?