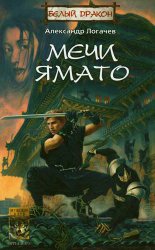Лекарство против страха Вайнер Аркадий
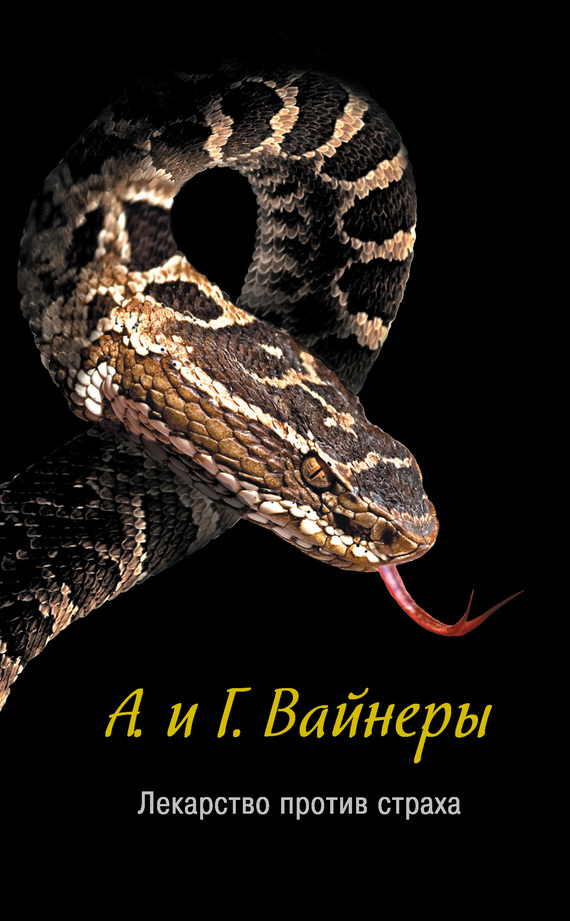
Очень тихо было в саду. Отзванивали капли на озерце, да серая птичка с зеленым воротничком раскачивалась невдалеке от меня на ветке и выкрикивала тоненько: цви-цви-цуик, цвицви-цуик. Красноватое вечернее солнце повисло на рукастой сосне как детский шарик, лиловый туман слоился полосами у забора в конце сада.
Стукнула дверь в доме, на крыльце показался Благолепов с подносом в руках. И шел он с ним все так же прямо, как жрец великий, возносящий к алтарю священную жертву. Я взял у него поднос, поставил на стол. В середину пня был врезан керамический горшок-петух, над которым дымились желтые, красные, багровые, синие взрывы махровых астр. Остро пахло мокрой землей, яблоками и жжеными листьями.
На подносе уместились банка с кофейными зернами, спиртовка, мельница, похожая на зенитный снаряд с ручкой на хвосте, сахарница, две тонкие фарфоровые чашечки, серебряные с прочернью ложечки.
— Вы кофе любите? — спросил он.
— Как вам сказать… Люблю, наверное.
Благолепов усмехнулся, подергал себя за ус:
— Значит, не любите. Кофе можно любить только страстно — как любовницу, дабы с соблазном соседствовал запрет, это придает ему особую терпкость и неповторимый вкус. Чтобы ощутить его прелесть полностью, необходим категорический врачебный запрет.
— Вам ведь, наверное, врачи не рекомендуют кофе, — заметил я осторожно.
— Мне врачи «не рекомендуют» всё, — засмеялся старик. — Но в моем возрасте человек уже должен научиться решать сам. Мне этого, кстати, всю жизнь не хватало…
— Глядя на вас, так не скажешь.
— Глядя ни про кого ничего не скажешь. Глаза — обманщики, лжесвидетели, предатели. Глазам не стоит верить. О-хо-хо, — он грузно сел на скамью, положил в спиртовку несколько круглых рафинадно-белых кусочков сухого спирта, насыпал в мельницу зерен и протянул ее мне: — Работайте.
Я крутил за хвост зенитный снаряд, а Благолепов положил в турку сахар, подошел к водопадику и набрал в нее прозрачной, слегка пахнущей травой воды. От бешеного кручения маленьких жерновов мой снаряд разогрелся, и вокруг пополз горьковатый тонкий запах теплого свежесмолотого кофе.
— Хватит, — сказал Благолепов.
Я передал ему мельницу, и он высыпал в турку коричневый благоухающий порошок. Кофе застыл на воде горкой: он очень медленно вбирал влагу. Потом профессор бросил туда же крошечную щепотку соли, поставил сосуд на спиртовку и чиркнул спичкой. Бегучее пламя лизнуло донышко турки и еле слышно загудело.
— Если мне принять ваш совет не доверяться глазам своим, то, не будучи специалистом в таком тонком вопросе, я должен сразу же сдаться, а расследование прекратить, — сказал я.
— А мне как раз кажется, что ваша некомпетентность в специальной стороне вопроса является преимуществом: вы будете свободны от бремени авторитетных мнений.
— Как лондонские налетчики?
Старик засмеялся:
— Ну, что-то вроде. Позвольте вас спросить: вы подозреваете в чем-то профессора Панафидина?
— Нет. Но он знает гораздо больше, чем говорит. Панафидин о чем-то умалчивает, и мне это не нравится.
— Зря вам это не нравится. Все люди, во всяком случае все разумные люди знают гораздо больше, чем говорят. А Панафидин — образцовый ученый муж, я бы даже сказал, что он эталон современного понятия «хомо сайентификус».
— Что же именно характеризует Панафидина как образцового современного ученого?
— Он молод, а я глубоко уверен, что золотая пора ученого — это грань между молодостью и зрелостью. Именно в эту пору совершаются большие открытия. Он честолюбив, а честолюбие, эта злая птица, выносит немало исследователей к вершинам знаний и славы. Он умеет заставить работать своих сотрудников в нужном ему направлении, столько и так, чтобы получить от них максимальную отдачу. Он хорошо подготовлен теоретически, и ему идей не занимать. Наконец, он умеет толково тратить отпущенные ему деньги — столь же ценное, сколь и редкое умение для научных руководителей. — Все это Благолепов говорил как-то вяло, я не чувствовал в его словах внутренней уверенности. Потом он умолк, я подождал немного и спросил:
— Илья Петрович, и это все?
— Не так уж мало. Кроме того, он деловит и чужд всякой сентиментальности. У него работал очень способный, но ершистый парень — Нил Петрович Горовой. Оперившись, он стал препираться с Панафидиным. Тот решил, что ему строптивые сотрудники не нужны, и в два счета выпер его из лаборатории. А это было ошибкой — ведь Панафидин обычно четко знает, чего он хочет.
— А чего он хочет?
— Он хочет больших научных открытий.
Мне показалось, что в последних словах Благолепова промелькнула еле заметная усмешка. Я спросил:
— Профессор Панафидин хочет сделать какое-то конкретное, давно волнующее его как ученого открытие, или человек по фамилии Панафидин жаждет открытий, успеха и славы?
Благолепов засмеялся:
— Ваш вопрос наивен. Кроме того, молодой человек, я в разговоре чуть приоткрыл дверь, и вы сразу же засунули туда ногу. Теперь вы пропихиваете плечо.
— Я ведь не скрываю, что мне надо пролезть к вам в душу.
Пенка в кофейнике уплотнилась, почернела, вздыбилась. Благолепов снял турку с огня и разлил по чашкам кофе. Спирт в конфорке выгорел, и от него подымалась отвесная струйка молочно-сизого дыма. Птичка на ветке подпрыгнула, крикнула «цви-цви-цуик» и улетела. Сумерки сгустились.
Благолепов отпил кофе, прикрыл глаза, покачал головой сбоку набок, причмокнул от удовольствия:
— Эх, хорошо. — Потом повернулся ко мне и, пристально глядя на меня из-под вислых, тяжелых век, сказал: — Я думаю, вы бы это скрывали, кабы знали, что Александр Панафидин — мой зять…
У меня было такое ощущение, будто Благолепов взял меня за ворот и швырнул в свое прозрачное игрушечное озерцо. Перед глазами стояла анкета Панафидина, заполненная его твердым, без наклона почерком: «Жена — Панафидина Ольга Ильинична, 1935 г. р.».
Благолепов как ни в чем не бывало продолжал:
— Но раз вы заверили меня, что ни в чем не подозреваете Александра Николаевича, я могу продолжать разговор со всей искренностью и доступной мне объективностью.
— Значит, мы можем поговорить начистоту, — заметил я. — Поэтому сразу же спрошу: мне показалось, что в вашей характеристике современного ученого мужа, как вы называете его — «хомо сайентификус», гораздо больше модных расхожих представлений, чем ваших убеждений. Это так, или я ошибся?
Благолепов грел о чашку ладони, задумчиво смотрел на оранжевое зарево догорающего заката, потом очень грустно сказал:
— Произошла со мной нелепая история. Привезли меня сюда после больницы, обошел я сад, посидел на этой скамейке, посмотрел на воду, палую листву и вдруг понял, не умом, а сердцем, всем существом своим я это почувствовал — жизнь моя окончательно и безвозвратно прожита. Тут штука в чем — я ведь не смерти испугался (с тремя инфарктами привыкаешь) — в этом абсолютно новом для меня ощущении законченности моего существования. Бессмысленно беречь себя — для меня вопрос бытия в лучшем случае несколько месяцев. Бессмысленно начинать какое-то дело — все равно не успею закончить. Бессмысленно что-либо перерешать — сил не хватит досказать. Бессмысленно кому-то объяснять — ни у кого не хватит времени дослушать…
— А вы хотели бы что-то изменить? — спросил я напрямик, потому что у меня возникло ощущение, словно он заманивает меня своими разговорами. Внутрь не пускает, а только приоткрывает щелку и сразу — хлоп дверью перед носом. И сейчас он ответил не сразу, а словно прикинул сначала: говорить или не стоит?
— Я всегда завидовал людям, которые на пороге смерти отказываются от волшебного дара возвращения молодости, потому что якобы снова прожили бы ту же самую жизнь — с удовольствием и убежденностью. Явись ко мне сейчас Мефистофель, я бы прожил свою новую жизнь совсем по-другому…
— Вы поискали бы иное призвание? Или других людей?
— Нет, дело не в этом. Жизнь представляется мне длинной цепью причинно-связанных решений. Вот я и принял бы совершенно иные решения, и жизнь получилась бы совсем другая.
— Но для вас лично ведь ничего бы не изменилось, пробежали бы десятилетия, и мы с вами вновь, описав кольцо времени, сидели бы осенним вечером в саду на скамье и пили кофе?
— Возможно. Но многое изменилось бы для тех людей, с которыми были связаны мои решения. Изменилось бы так серьезно, что, может быть, мы и не сидели бы здесь с вами. Да и мое призвание, возможно, было бы другим…
— Разве вы не считаете науку своим истинным призванием?
— Как вам сказать? Наука — это совсем особая планета, и приживаются на ней в первую очередь люди, которых мы здесь в суете считаем странноватыми чудаками, заумными, а они просто очень погружены в свои размышления и от задумчивости своей говорят и поступают невпопад, отчего становятся застенчиво-робкими, еще больше углубляются в свои размышления и постепенно становятся одержимыми. И мысль такого человека бьется с мглой незнания, с путами традиционности, с вязкой пустотой отвлеченности, всегда — во сне, на работе, за чаем, в кино, ибо одержимость стала формой и способом его существования. Вот тогда Ломоносов и заявляет, что никакого теплорода не существует, а энергия не исчезает. И безвестный служащий патентного бюро формулирует теорию относительности, затрагивающую самые основы естественнонаучного мышления, а мир только годы спустя узнает, что Альберт Эйнштейн — гений.
— Илья Петрович, а Панафидин — одержимый ученый?
Благолепов долил мне в чашку кофе, покрутил в руках пустую турку, решительно поставил ее на стол. Сказал с досадой:
— Меня удручает ваш практицизм. — И вдруг, улыбнувшись каким-то своим мыслям, ответил на мой вопрос: — Нет. Александр — не робкий, задумчивый чудак. Он очень жить любит. Если он идет в кино, то за свой полтинник внимательно смотрит до конца самую скучную ленту. Обедает он всегда с аппетитом. И спит крепко и спокойно ровно восемь часов. О науке он думает на работе.
— Вы думаете, что большого — самого главного для себя — открытия ему не сделать?
— Боюсь, что нет. Существует категория мужчин, которая пользуется большим успехом у неумных женщин. Это создает таким мужчинам репутацию неотразимых. В науке существует клан людей, которые с первого шага совершают массу маленьких толковых успешных дел. И полезных при этом. Вот таких способных ребят мы щедро наделяем погонами «таланта». А жизнь большого ученого в науке должна начинаться с неудач, как обычно бывают несчастливы в первой любви настоящие мужчины…
Старик замолчал, заря догорела совсем, и там, где светлела еще недавно яркая закатная полоса, вспыхнула мерцающая желтая звезда, тревожная и злая. В саду стало темно. Подул прохладный резкий ветерок, Благолепов поежился и спрятал зябнущие кисти рук под мышки. И тогда я решился:
— Илья Петрович, мог Лыжин сам синтезировать метапроптизол?
Совершенно автоматически он ответил:
— Это невероятно трудно, но Володя… — Тут он остановился, поднял на меня глаза, покачал головой: — Вот вы и вошли в дверь. Но ответить на ваш вопрос я затрудняюсь. Я вам раньше говорил — у меня не осталось времени во что-то вмешиваться. Я не знаю. Очень много я совершил в жизни ошибок и не хотел бы совершить еще одну. Вы наверняка и без меня разберетесь.
Я помолчал, потом сказал:
— Вы тоже говорите гораздо меньше, чем знаете.
— Только кажется, будто я что-то знаю. Я могу лишь догадываться. Но вмешиваться не хочу — у меня нет сил волноваться, мне остался только этот островок покоя.
Вопреки широко распространенному мнению, что самые сложные, запутанные и непонятные дела в МУРе нарасхват, старые опытные инспектора любой ценой стараются от них открутиться. Только им в полной мере известно, какими изнурительно скучными буднями, невероятно кропотливым, мелочным, утомительным трудом, неприятностями от начальства, жалобами потерпевших и представлениями прокуратуры оборачивается для расследователя интересность этих дел.
Но все зубры криминального сыска, сколь бы ни были они разными по психологическому строю и эмоциональному складу, обладают чертой, выдвинувшей их в конце концов в число лучших и опытнейших: вступив однажды в дело, каждый из них раз и навсегда проникается ощущением, что преступник воюет против него лично. Самый распрекрасный тренер не может во время боя подсказать нужные движения и поступки секундируемому боксеру, не может передать ему свою реакцию, не может ощутить боль пропущенных ударов. Настоящий сыщик, приняв дело к расследованию, не может следить за ним из угла за канатами. Он должен выйти на ринг сам, и с этого момента он забывает о гудящем вокруг зале, о том, что дерется за кого-то, и в этом нелепом, фантастическом соревновании ему часто приходится проводить первые два раунда с невидимым партнером, который где-то здесь, рядом, на залитом светом квадрате — слышно его глухое дыхание, вот он нанес тяжелый удар в голову, в корпус, дух захватило, надо отбиваться прямыми встречными, чтобы отогнать его подальше, прижать к канатам в угол, он должен быть где-то совсем рядом, удар вот сюда, еще удар — попал!
И происходит непостижимое чудо, чем больше пропускает преступник ударов, тем заметнее он становится сыщику, испаряется его оболочка невидимки, исчезает навязчивый кошмар боя с тенью, враг становится осязаемым, реальным, достижимым…
Я раздумывал об этом, стоя в тамбуре электрички. Мысли были обрывочные, скачущие, как дыхание у боксера, сидящего на табуреточке в углу, в перерыве между раундами. Кто такой и чем занимается Горовой?.. Надо снова допросить жену Позднякова, разобраться глубже в ее взаимоотношениях с Панафидиным… Надо выяснить, знает ли Панафидин Позднякова… Узнать, почему разошлись Панафидин с Лыжиным… Есть ли связь между Лыжиным и Желонкиной… Чем занимается Лыжин в 12-й неврологической больнице, где он сейчас работает… Надо подробнее изучить непосредственное окружение Пачкалиной — именно оттуда, вероятнее всего, сделан на нее навод «самочинщикам» с удостоверением Позднякова… Но в первую очередь надо поговорить с Лыжиным…
На вокзальных часах было двадцать минут девятого. Вечер пропал, подумал я. Если отложить на завтра встречу с Лыжиным, то пропадет и половина завтрашнего дня, а так нужно побывать дома у Пачкалиной! Может быть, заехать к Лыжину? Коли я застану его дома, это высвободит завтра массу времени. Домашний адрес Лыжина у меня был. Я еще минуту колебался, потом сел в такси и сказал шоферу:
— В Трехпрудный переулок…
Это был дореволюционной постройки шестиэтажный дом с флигелями, боковыми пристройками, дворами-колодцами. На скамейке под фонарем сидела компания молодых ребят, один из них играл на гитаре и пел нарочито хриплым голосом. Он очень старался хрипеть, чтобы выходило похоже на «роллинг стоунзов», но голос, молодой, чистый, его не слушался — выходило все равно хорошо. Один из ребят подбежал ко мне, скороговоркой бормотнул:
— Дя-енька, дай закурить!
Я остановился, посмотрел на парня — белобрысого, веснушчатого. Оттого что он быстро шевелил верхней губой и подергивал коротким вздернутым носом, казался парень сопливым и нахальным. Мне хотелось сказать ему, что мальчишкам курить нельзя, что глупо сидеть здесь на лавке, что ужасно жаль, если из них выйдут Борисы Чебаковы и какому-то неизвестному Позднякову придется держать их на учете… Но ничего не сказал: нельзя воспитывать людей в подворотне, походя. Для этого нужно прожить неблагодарную, трудную жизнь Позднякова. Я повернулся и вошел в подъезд. Парень крикнул вслед:
— Жадюга!
Лифта не было. Я медленно шел по лестнице на четвертый этаж, марши были огромные, на некоторых площадках свет не горел, пахло кошками. Под звонком висели таблички с фамилиями жильцов, но рассмотреть их было невозможно, и я позвонил один раз. За дверью долго было тихо, потом раздались негромкие шаркающие шаги, стукнула цепочка, щелкнул замок, в узкую щель глянуло плоское старушечье лицо:
— Кого надо?
— Мне нужен Владимир Константиныч.
— Три звонка ему звонить. А вы кто ему будете?
Я усмехнулся:
— А вы?
— Я? Как кто? Соседка я ему!
— А я знакомый. Так он дома?
— Нету его, — и захлопнула дверь.
Чертыхнувшись, я пошел вниз. Было обидно за потерянный вечер, и я решил съездить к Горовому. Позвонил из автомата на Петровку, и мне довольно быстро нашли его адрес.
— Не знаю я, кто это сказал — не то Лассаль, не то Пастер, а может быть, Паскаль или вовсе Лассар, — засмеялся Горовой. — Но сказал, к сожалению, верно…
— Не похожи вы на пессимиста, Нил Петрович, — заметил я.
— Так дело не в пессимизме. Вы же сами на своей работе часто встречаетесь с этим: справедливость извечно была предметом споров, а сила всегда очевидна. И поэтому гораздо легче сделать, увидеть или назвать Сильное — справедливым, чем Справедливое — сильным.
— Ну, коли зашла речь о моей работе, то ее задача и есть наделять справедливость необходимой силой.
— Да я и не спорю, но ведь большинство человеческих конфликтов, нуждающихся в сильной справедливости, не опускается, к счастью, до норм уголовного права. — Горовой хитро смотрел на меня, чуть откинув назад крупную, уже начавшую лысеть голову. Для его среднего роста и худощавой комплекции голова была, пожалуй, крупновата, зато, доведись кому-либо хоть и Пачкалиной, опознавать Горового, пускай даже по самой плохой фотографии, это не вызвало бы затруднений.
Я смотрел на него, и меня не покидало ощущение, что все свое внимание, всю фантазию, все силы отдал творец этой головы верхней ее части — мощный лоб куполом, подвижные брови вразлет, сильное переносье треугольником и чуть прищуренные глаза насмешника, шкодника и забияки. Кончик носа с глубоко прорезанными чувственными ноздрями еще нес след вдумчивой работы, хотя он уже, короче и вздернутей, чем это необходимо по жестким требованиям пропорции и гармонии. А рот и тем более подбородок создавались наверняка в пятницу вечером, к концу рабочего дня — это была уже откровенная халтура: прилепили случайно оказавшиеся под рукой пухлые губки бантиком и маленький, словно стертый, подбородок — и вышел в свет, со своим негармоничным, обаятельным и веселым лицом Нил Петрович Горовой, к которому я приехал около десяти часов вечера, застав его семью в сборах для переезда на новую квартиру.
Мебель была отодвинута от стен, из серванта вынуты стекла, телевизор, перевязанный веревкой, стоял на полу, запакованные чемоданы, узлы, свертки, одинокая лампочка вместо отсоединенной и обернутой тканью люстры, сложенные в углу штабелем бакалейные картонные ящики, на которых написано красным фломастером: «Химия — математика», «Педагогика», «Поэзия», «Проза», «Фантастика», «Смесь»…
И стулья тоже были связаны в многоногий квадратный стог. Жена Горового растерянно разводила руками:
— Господи, посадить человека некуда, чаем напоить не из чего…
Все-таки местечко отыскали: меня Горовой усадил на чемодан, скрученный белой толстой веревкой, а сам пристроился на подоконнике. Несмотря на мои возражения, жена его убежала к соседям доставать чайник и стаканы.
А Горовой с детской гордостью демонстрировал мне лист зеленой гербовой бумаги, поперек которой было написано красными печатными буквами «Ордер», и объяснял, что Теплый Стан, несомненно, самый красивый и здоровый район массовой застройки.
— Мы с соседями прекрасно жили всегда, но отдельная квартира — это все-таки здорово! Что ни говорите, а здорово! — повторял он, словно я убеждал его отказаться от ордера. — Вот только в школу мне будет ездить далековато. Да, впрочем, и это не страшно: там скоро пустят метро…
— Там ведь и школы новые строят, а у вас специальность дефицитная — преподаватель химии. Может быть, туда перевестись? Ближе к дому?..
— Ну, это не по мне! — отрезал Горовой, и веселый блеск в его глазах на миг пригас. — Принимая седьмой класс, я веду его до окончания школы.
— Но там, наверное, такие же точно ребята? — спросил я.
— Да, конечно. Но, по моему убеждению, ничто так не убивает интерес ребят к предмету, как смена педагога. — Он развел руками, словно извиняясь передо мной за мою непонятливость. — Я хочу сказать, что учитель знания обязательно должен быть для детей и воспитателем чувств. И нужен немалый срок для того, чтобы ребенок принял учителя на эту должность — воспитателя, потому что руководствуется он другими критериями, чем отдел кадров гороно. И разрушать веру ребенка в чудо узнавания, которое ему может принести только его воспитатель, нельзя…
— Но ведь приходится считаться с реальными обстоятельствами: учителя в силу самых разных причин меняются, и тут ничего не сделаешь.
— Не сделаешь, — согласился он. — А я все-таки верю, что когда наше общество достигнет необходимого духовного и материального расцвета, то будут конкурсы не на замещение должности научных сотрудников, солистов оперы, главных конструкторов и балетных примадонн, а учредят конкурс-испытание на место школьного учителя…
Наверное, на моем лице не было достаточного понимания значительности этой перспективы в эпоху материального и духовного расцвета моих будущих внуков, потому что Горовой, бросив на меня косой взгляд, нахмурился, а потом, не выдержав, улыбнулся:
— Ну ладно, не волнует это вас совсем, я вижу! Мой энтузиазм понять можно: толкового химика из меня не вышло, вот я и мечтаю, чтобы из ста моих школьных выпускников нашелся один, который сделает с походом — и за себя и за меня…
— Охотно присоединяюсь к вашей надежде. И хочу спросить, кстати: при каких обстоятельствах из вас не вышло, как вы говорите, толкового химика?
— При обстоятельствах житейских, — засмеялся Горовой. — В одном мешке оказалось не два кота, а целая компания, и с очень уж разными характерами…
— Наверное, такая ситуация может помешать служебному продвижению, — заметил я. — Но стать толковым специалистом…
— Нет, нет, нет! — замахал руками Горовой. — Вы не поняли — я не ссылаюсь на обстановку. Просто из-за сложившихся отношений с руководителем лаборатории я вылетел раньше, чем стал хорошим специалистом.
— А кто был вашим руководителем?
— Есть такой деятель науки и техники — Александр Николаевич Панафидин. Сейчас он уже в корифеях ходит.
— У вас возник с ним конфликт?
— Ну, как вам сказать, все это протекало очень протокольно, достойно и вежливо: просто я не уложился в аспирантский срок, и он меня мгновенно вышиб из лаборатории. Так что для бурных сцен ни времени, ни условий не оказалось.
— А как он объяснил свою непримиримость?
— Чего же там объяснять? Формально у него были для этого основания, а всем ходатаям за меня он сообщал доходчиво и категорично: «Горовой химию не любит». Самое смешное, что, по-моему, он оказался прав…
— То есть?..
— Тогда я прямо задыхался от обиды, ярости и горя и пошел в учителя на год, потому что место, обещанное мне в одной проблемной лаборатории, еще только должно было освободиться. А пробежало с тех пор почти пять лет, и уходить из школы я не думаю.
— Интересно?
— Это, наверное, не то определение. Просто я случайно открыл для себя свое настоящее призвание, я ведь никогда раньше и не думал заниматься преподаванием. А это, оказывается, такой прекрасный, удивительный мир! Очень хотелось бы, коли найдется время и силы, написать о школе книжку…
— Художественную? — полюбопытствовал я.
— Да что вы! Это не по моей части. Так, размышления кое-какие о педагогике, о преподавании скучных предметов, о поведении учителя…
— Почему же вы поссорились с Панафидиным? — вернулся я к интересующим меня вопросам.
— От глупости, — блеснул своими хитрыми быстрыми глазами Горовой. — Тогда я еще не знал, что лучшие специалисты частенько возражают против принципиальной реформации их идей, поскольку это содержит в себе покушение на их титул «лучшего»…
— А вы покушались на идеи Панафидина? Или на его титул?
— Ну, по тем временам я еще был слаб в коленках — соперничать с Панафидиным. Забавно, кстати, что он всего на несколько лет старше меня. Но он относится к тому редкостному племени человеческому, которое чуть ли не с пеленок предназначается для руководства остальными людьми, не снедаемыми невыносимым зудом бежать впереди всех…
— Так почему же он был недоволен вами, Нил Петрович?
— Потому, что есть в нем опасное свойство — неконтролируемая увлеченность собственными идеями. А я позволил себе роскошь вслух над ними хихикать. Собственно, это даже не его была идея, а придумали они ее вместе с Володей Лыжиным — был у нас в лаборатории такой парень.
— Выходит, что вы хихикали и над идеей Лыжина?
— Это выходит, если закапываться совсем глубоко, потому что, во-первых, идей у Лыжина каждый день была дюжина, во-вторых, когда его идеи громили, он только улыбался и придумывал на другой день что-нибудь новое. А Панафидин никогда в жизни не признал бы, что в основе его системы лежит лыжинская мысль.
— Эта мысль Лыжина касалась метапроптизола?
Горовой кивнул:
— Да. У Лыжина, с моей точки зрения, блистательное теоретическое мышление, которого здорово не хватает Панафидину. Будучи отличным экспериментатором, Панафидин пытался реализовать концепцию Лыжина о дифференцированном, по отдельным радикальным группам, синтезе гигантской тиазиновой молекулы метапроптизола. Я выполнял часть этой работы.
— И не верили в успех?
— Сначала верил. Отдельные фракции мы отрабатывали очень лихо. Ну и, чего греха таить, тогда сильно грело сознание неумолимо приближающейся кандидатской защиты — это было беспроигрышное дело: ведь мы синтезировали целое семейство новых веществ. А потом…
Горовой замолчал, удобнее устраиваясь на своем подоконнике. Он сидел, прислонясь головой к стене, и взгляд его летел поверх моей головы — туда, в те уже невозвратно промчавшиеся годы, когда еще не было найдено призвание и не жило в сердце ощущение счастья выпускать из своих классов много толковых, хороших ребят, один из которых сделает с походом и за себя и за учителя, — того счастья, что больше радости от защиты диссертации.
— А потом я понял, что мы в тупике. Случайно я услышал разговор: Лыжин предлагал новые пути, а Панафидин бился с ним, как лев. И, вслушиваясь в аргументы Панафидина, я понял, что он сознательно пытается срастить идею Лыжина с результатами наших экспериментов, которые он, как хитрый ученик, подгонял под готовый ответ в конце задачника…
— Вы считаете Панафидина недобросовестным ученым?
— Ну, это уж крайность! Я думаю, что, не будучи слишком щепетильным человеком, Панафидин-ученый просто создавал себе некоторые поблажки, искренне выдавая желаемое за действительное. Я, может быть, этого и не сообразил бы тогда, кабы не услышал сомнений Лыжина, но это был толчок для моих размышлений. В конце концов я увидел, что мы на неправильном пути…
— Нил Петрович, а вы сказали об этом Панафидину?
— Конечно. Он выслушал меня и предложил поставить опыты, которые опровергли бы его представления. Это была долгая и не очень результативная работа — я не окончил старого и не успел сделать что-либо новое. А три года пробегают очень быстро, и в один не больно-то прекрасный день Панафидин объявил мне, что он благодарит меня за сотрудничество — скатертью, мол, дорожка…
— С вашей точки зрения, Панафидин — талантливый ученый?
— Несомненно, — уверенно кивнул Горовой. — Он и человек талантливый. Но лучше бы ему заниматься той деятельностью, где нужно поменьше уверенности в себе…
— Почему?
— Как вам сказать? Научная работа требует от человека постоянных сомнений, вечной потребности еще раз подумать, снова проверить, взглянуть по-новому, способности поднять поиски истины выше всех наших маленьких людских страстей…
— А Панафидин не может?
Горовой пожал плечами:
— Талантливый человек Панафидин в любом споре добивается не истины, а победы. Талантливого ученого Панафидина это может далеко завести…
— Далеко или высоко? — спросил я с нажимом.
— В науке эти векторы иногда совпадают. Спор о разнице между людьми, любящими себя в науке, и теми, кто любит науку в себе, еще не окончен…
— Лыжина вы больше не встречали?
— Нет, но я слышал, что у них с Панафидиным вышла крупная ссора и Лыжин ушел из лаборатории. Подробностей я не знаю.
— Как вы думаете, могли Панафидин или Лыжин самостоятельно получить метапроптизол?
Горовой пожал плечами:
— Это очень сложный вопрос. У Панафидина гораздо больше шансов за счет прекрасной научной базы и экспериментаторского дарования. А Лыжин — ученый с великолепной фантазией, воображением художника, громадной памятью и способностью мыслить очень широкими категориями…
— Как же получилось, что ученый с такими задатками мог кануть в безвестность?
— Ученые не кинозвезды, их портреты не вывешивают на уличных стендах. А в научном мире его здорово давит Панафидин. Он ведь член всех редколлегий и ученых советов, через которые может пробиваться со своими публикациями Лыжин.
Я недовольно покачал головой:
— Мне как-то не верится, чтобы весь научный мир так уж безоговорочно поддержал Панафидина, если бы он отстаивал неправильную идею.
Горовой сердито покосился на меня:
— А зачем эти обобщения: «весь научный мир», «безоговорочно», «неправильная идея»? Научный прогресс — это торжество новых идей, и успех их часто связан с авторитетом их носителя. Кабы прославленный петербургский физиолог Пашутин не объявил исследования Льва Соболева на поджелудочной железе бесперспективными заблуждениями, то скорее всего Соболев, а не Фредерик Бантинг получил бы Нобелевскую премию за открытие инсулина. Но, как вы говорите, «весь научный мир» гораздо охотнее прислушивался к мнению крупнейшего авторитета в этой области, чем к голосу безвестного новичка. Не удивительно, что мнение Панафидина для любого человека много весомее, чем неосуществимые фантазии какого-то неведомого Лыжина…
О многом еще мы с ним говорили, но я так и не приблизился ни на шаг к решению этого запутанного, совсем непонятного дела. И все больше меня начинал интересовать Лыжин — фигура любопытная, загадочная, но пока безликая.
«…Подобно листьям осенним, сорванным ветром, кружатся и пропадают во тьме времен годы. Ты идешь, лекарь, сквозь людские страдания, ниспосланные богом, природой, человеческим невежеством. Жадно открытыми глазами смотришь на мир, учишься искусству врачевания сам, учишь других… Ты убеждаешься, что чтение книг еще не создает врача — врача создает только практика…»
Я кладу на скамью свою записную книжку, толстую, кожей переплетенную. Полковой лекарь воинства датского короля Христиана, я практики имею предостаточно: большие трофеи и полторы тысячи раненых принес штурм непокорного Стокгольма. На мою долю трофеев пришлось 116 гульденов и все раненые. Обожженные, с переломами рук и ног, с разбитыми ребрами, вытекшими глазами, с пулевыми ранами, проникшими внутрь организма и навылет пробитыми, с оторванными от костей мускулами, проломленными головами — все они ждут исцеления от мук.
Холодный ветер с залива дует в выбитые окна старого магистрата, где расположен госпиталь. Свечей нет, и три драгуна держат над столом пучки смолистой сосновой лучины, горящей светлым потрескивающим пламенем. Семнадцатилетний рыцарь Соренсен, с еле заметными усиками на верхней губе, первым взобрался на крепостной контрфорс, и тут же осколком ядра ему размозжило правую голень. Юноша дрожит от боли и испуга, глядя на свою исковерканную багровую ногу, рану, начавшую чернеть по краям. Я даю ему стакан можжевеловой водки:
— Выпей, друг мой. Алкоголь заглушит твои чувства, уменьшит страдания.
Безмолвно, покорно берет Соренсен стакан, пьет с отвращением, и зубы его громко стучат о стекло. Я киваю солдатам, исполняющим обязанности санитаров, те молча, быстро укладывают рыцаря на стол, накрепко привязывают конской подпругой, и юноша в смертном ужасе от предстоящей муки тонко, по-заячьи кричит:
— Не надо… не надо… я не хочу быть калекой… лучше умереть!..
— Нож, таз, жгут! — оглушительно кричу я лекарским помощникам, и те повинуются проворно и ловко.
Короткий, очень острый ланцет неумолимо полоснул белую мальчишескую кожу выше колена — раз снаружи, раз изнутри, мелькнул светлый слой жира и сразу стал окрашиваться багровой струей хлынувшей в разрез крови.
— Жгут! — кричу я.
Впилась коричневая змея жгута выше надреза, стянула сосуды, я промокнул корпией раны и полоснул ланцетом по мышце.
— Следите внимательно за моими действиями, — говорю я помощникам. — Я мог бы оставить ему колено, удалив конечность по суставу на сгибе. Но черные ростки гнойного воспаления, с которыми мы не можем бороться, уже потянулись вверх по ноге. Решим, как полководец в сражении: лучше потерять часть, чем лишиться всего войска…
Ужасным, разрывающим душу, нечеловеческим криком исходит привязанный к столу юноша. Одному из драгун, державших лучины, стало плохо, и он со стоном падает на пол. Рассыпалась лучина, и угольки, закатываясь в лужи стекающей со стола крови, гаснут с пронзительным шипением.
— Уберите его отсюда вон! — кричу я. — Еще огня! Дайте несколько факелов…
Драгуна сразу же оттащили в сторону, вспыхнул огонь, с новой силой пронзительным визгом зашелся раненый. Из раны показалась сахарно-белая берцовая кость.
— Пилу! — командую я. — Стакан водки!
Помощник подносит мне стакан к губам.
— Да не мне! Больному!..
Соренсен пьет, захлебываясь, потом его рвет, и он на мгновение стихает.
С посвистом и тонким хрустом врезается пила в кость, и сразу же снова диким воплем заходится несчастный. Левой рукой я хватаю ланцет и пересекаю сухожилия — нога отделилась от туловища.
Лекарский помощник берет ее осторожно, кончиками пальцев, и бережно, будто опасаясь причинить ей боль, кладет в таз.
С внешней стороны бедра я оставил длинный лоскут кожи и кусок мышцы — сейчас я загибаю этот кусок конвертом на остаток ноги, закрыв им рану на культе.
— Иглу! — Золотая иголка с шелковой ниткой проворно бегает в моих руках, закрывая ровным швом разрез. Я наклоняюсь к Соренсену: — Успокойся, дружок, потерпи еще чуть-чуть, через пять минут все будет кончено…
Но юный рыцарь ничего не отвечает, впав от боли и потери крови в беспамятство.
На стол укладывают рейтара с выбитым глазом и разорванным до уха ртом. Я стою у окна с кружкой подогретого вина, гляжу на серую вспененную воду залива, холодный дождь, заливающий темную булыжную мостовую, черные дымы пожарищ, стелющиеся над крышами разграбленного и разоренного города, красные пятна костров на площадях, слышу крики и ругань пьяной солдатни, ржание напуганных лошадей, тонкий плач брошенного ребенка, заливистые крики маркитантов, и в сердце моем оседает тоска.
Я думаю о том, что занимаюсь не своим делом, что будущее медицины никак не связано с этим варварским, мучительным членосечением. Как объяснить всем, что будущее — в понимании человеческого организма и открытии новых лекарств, которые смогут регулировать течение болезни? Ведь Гиппократ был, безусловно, неправ, полагая, что организм сам и есть себе целитель. Природные лекарства — растения, которые с успехом применяются, — опровергают это. Значит, можно воздействовать на болезнь и искусственными веществами, как это делают алхимики. Надо лучше узнать и понять природу химических превращений. Но нет времени и нет денег. Надо ехать в Марку — Великие нидерландские штаты…
Подходит лекарский помощник:
— Господин доктор, раненый на столе.
— Иду, иду…
Глава 7. «У меня миленок лысый…»
Зазвонил телефон, и, еще не поднеся трубку к уху, я услышал густой, мазутный голос.
— Тихонов? Дежурный по управлению Суханов. Вчера около двадцати часов два афериста залепили самочинку, — гудело в трубке. Я подумал, что голоса человеческие имеют цвет. У дежурного голос был темно-коричневый. — Генерал почему-то приказал сообщить тебе об этих аферистах. Мол, ты сам знаешь почему, — говорил Суханов. — Я даже удивился: ты же мошенниками не занимаешься?
— Нет, не занимаюсь, — сказал я. — Вообще-то не занимаюсь.
— Ну, тогда не знаю, — ответил Суханов. — Вам виднее.
— Ага. Ты мне адрес продиктуй.
— Чей? Потерпевшей?
— Ну зачем же… Твой, домашний… — мирно сказал я и подумал, что здесь тоже потерпевшая; не потерпевший, а потерпевшая. Потерпевшая Пачкалина и потерпевшая… — Как ее фамилия?
— Шутишь все, — осудил меня Суханов. — Записывай: Рамазанова Рашида Аббасовна, Щипков переулок, дом двенадцать, квартира сорок шесть. Туда опергруппа уже выехала. Генерал велел послать за тобой машину.
— Очень трогательно.
— Ты в управление потом приедешь?
— Не знаю пока…
— Будь здоров. Машину долго не держи.
Допрашивал инспектор из 4-го отдела МУРа Гнездилов, допрашивал толково и быстро. Я сидел в углу на стуле, повернутом задом наперед, облокотившись на спинку и уперев подбородок в ладони, внимательно слушал, разглядывал комнату, потерпевшую, двоих детей на диване и думал о том, как беда, войдя в человеческий дом, сразу делает похожими самые разные человеческие жилища — богатые и бедные, красивые и безвкусные. Прекрасные, любовно украшенные квартиры и запущенные воровские хазы после обыска имеют так много общего! Распахнулись пухлые животы шкафов, вывалив свои внутренности на пол, на кровати и стулья, везде валяются какие-то бумажки, выдвинуты ящики, разворошено белье, скинуты с полок книги, приподняты половицы и надрезаны обои. Но самое главное, видимо, в той едкой атмосфере испуга, слезливой возбужденности, стыда, боли, умирающей надежды, беспощадной оголенности под взглядами чужих людей.
Квартира Рамазановой была хорошо обставлена, со вкусом украшена, и все в ней было сейчас разбросано, перемешано, царили разор и хаос. Около трельяжа на низеньком пуфе лежал расчесанный и завитой шиньон, и этот треклятый шиньон все время отвлекал меня, расслаблял внимание, потому что с того места, где я сидел, был он сильно похож на отрубленную голову, и эта аккуратная прическа отрубленной головы не давала мне покоя. И два мальчика — десяти и пяти лет — испуганно смотрели на меня с дивана. А сама Рамазанова держалась спокойно. Молодая стройная женщина с быстрыми синими глазами. Только золотых зубов у нее было многовато — казалось, что она вырвала здоровые зубы и вставила себе два полных золотых протеза.