Бох и Шельма (сборник) Акунин Борис
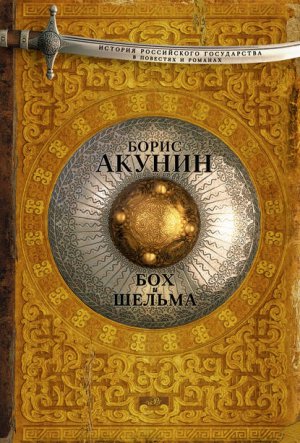
Два раза, уже в овраге, останавливался перевести дыхание, однако ненадолго. А упал, вконец обессиленный, уже в роще, среди голых деревьев. Это всё были березы, покрытые коркой льда и такие же белые, как пустое безжизненное поле. Очень скоро княжич замерз, и мир снова начал казаться ему Преисподней.
Благомысленные византийские мудрецы из батюшкиных книг писали, что Божий Мир – многоцветный сад, исполненный чудес и красот, но они не знали правды. Мир – ледяная пустыня, и в ней только три цвета: белый – мертвенного холода, красный – пролитой крови и черный – пепелища. А правит в сем аду щелеглазый Сатана с рассеченной наискось рожей. Она и сейчас нависала над закоченевшим беглецом.
Увидев татарина в самый первый раз, еще не зная, что это сам Всепогубитель, Солоний испытал странное омерзение, словно по голому хребту проползла скользкая змея. А ведь бес тогда был почти один, толмач не в счет. Раздавить бы его, и ничего бы не было. Эх, батюшка-батюшка. Мудр был, а Солоний глуп, но если б мудрец послушался глупца, глядишь, и спасся бы…
Второй раз Сатана явился княжичу во всей своей силе, окруженный багровыми сполохами. Солоний стоял у теремного окошка, смотрел на сечу у ворот княжьего подворья, сжимал кулаки.
Отец не дозволил идти в бой. Уж как Солоний упрашивал. Ведь не мальчик, семнадцать лет. Из самострела бье метко и с мечом ловок, сам Матьяш-воевода говорит, что лучше ученика у него не бывало. Но батюшка сказал: «В доспехах биться не то, что налегке махать. Не сдюжишь».
А кто сам запрещал доспехи носить? «Кость у тебя еще тонкая. Коли рано начнешь железо на плечах таскать, не вырастешь. Останешься, как я – недомерком» – это кто повторял?
Отец был добрый, мягкий, но когда заговорит таким голосом, спорить с ним было нельзя. Остался Солоний в тереме. Батюшка на прощанье обнял, наказал: «Мать, сестру на тебя оставляю. Защити». И ушел.
Через час или два, когда город стал весь светлый от множества пожаров, отец вернулся с малой ватагой дружинников. Тут-то княжич и увидал Сатану – узнал издали по волчьей повадке, по длинным рукам, по кривым ногам.
Татарин вскинул лук – и батюшка повалился. Солоний так страшно закричал, что мать с сестрой, без умолку плакавшие, враз умолкли.
А в третий раз Сатана явился, когда Микита над отцом читал заупокой. Страшней того, что тогда случилось, ничего нет и быть не может. Даже когда Сатана на берегу хотел горло резать, не так содрогательно было, из-за тупого оцепенения.
Однако именно воспоминание о бараньем запахе и грязном рукаве, сдавившем лицо, заставило княжича подняться и побрести дальше, через рощу. Не для того он спасся от татарского ножа, чтобы замерзнуть под голой березой. И клятвы перед Господом просто так не даются. Нужно поскорей добраться до Радомира, вернуться с дружиной и всё исполнить: Филу спасти, Сатану истребить.
О том, что поганые могли уже добраться и до Радомира, княжич думать не захотел.
Пройти надо было без малого тридцать верст, да не по дороге, а полем. Хорошо, наст здесь, на гладком просторе, был крепкий, обветренный, прогибался под шагами, но держал.
Солоний шел и плакал, всё не мог остановиться. Очень было себя жалко. Отца с матерью, сестру, всех погибших и плененных тоже, но больше всего себя. За то, что верил добрым и умным книгам, а они оказались ложью.
Слезы текли без остановки и были соленые. Под стать имени.
Батюшка, книжник, назвал своих детей по-ученому, не как в других княжеских семьях. Старшего сына – Тимоном, что означает «честь», ибо для наследника княжеского стола нет ничего важнее чести. Дочь нарек Филоменой, это «Сильная Любовью». Для женщины, говорил отец, самое главное – любовь. Младшему сыну выбрал для крещения имя Солоний, «Мудрый». Было, конечно, как положено, и родовое имя, Олег, в честь великого пращура Олега Святославича, от кого все они, Ольговичи, произошли, но так младшего княжича никто не звал, только Солонием.
«Как сам себя зовешь, таким и станешь, – говорил отец. – И если проживешь честно под стать имени, то в старости получишь самую лучшую награду – мудрость. В молодые годы ей взяться рано, но на то есть мудрые книги. Не умствуй, а исполняй, что там написано. В зрелости поймешь». И заставлял учить наизусть слово князя Владимира Всеволодовича Мономаха, оставленное сыновьям: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится».
Батюшка и сам учил своих сыновей не хуже Мономаха. Объяснял, что родиться князем – не удача, а великая тягота и суровое испытание. Обычный человек только за себя ответчик, так жить и спастись легко. А князь Богом поставлен своих людей оберегать, и этот его долг даже превыше заботы о спасении собственной души.
В последнее время Солонию хотелось жить своим умом, обо всем иметь незаемное суждение, и он с отцом часто спорил – это поощрялось.
Осенью поймали шайку лютых разбойников, грабивших поречные деревни. Стали злодеям головы рубить. Солоний возьми и пристань к отцу с ехидством и укоризной. Как же, дескать, ты учил: «Будь с людьми милостив, награждай за дело щедро, а за вины взыскивай снисходительно», сам же вот головы рубишь? Ведь и в Новом Завете речено «не убий»? Отец ему со вздохом: «Государю по Новому Завету жить нельзя. Хотел я когда-то, но скоро понял – пустое мечтание. Править можно только по Завету Ветхому, где око за око и зуб за зуб. Враг нагрянет – не щеку подставляй, а своих защищай. Злодеев казни, чтобы иным неповадно было. Мы не святые монахи, мы князья. Вся надежда, что Бог на Страшном Суде простит нам вины, потому что грешили не за себя, а за люди своя. Если же ты боишься Его кары – уходи со стола. Иди в монастырь, спасай свою душу».
Ах, батюшка, батюшка. Про небесные светила рассказывал, про чужие страны, про разные чудеса. Языкам учил – тюркскому и греческому. У матери для детей был свой язык, франкский – говорить о домашнем, о ласковом.
Ничего этого больше никогда не будет.
До Радомира бы добрести, думал Солоний, еле волоча ноги и сгибаясь под серой во тьме вьюгой. Старший брат отделился два года назад, правил собственным уделом. Там, у Тимона, спасение.
По дороге, в десяти верстах от Радомира, была одна деревня, Конобеево. Туда-то татары скорее всего уже нагрянули, однако Солоний все же решил попытать счастья. Очень уж хотелось обогреться и поесть.
Долго таился у околицы, высматривал. Вроде тихо, а что огни не горят, так крестьяне зимой рано ложатся. Главное, дома чернели во мгле целые, не пожженные.
Ободренный, он вышел на дорогу и увидел, что она вся истоптана копытами.
Побывали…
Избы стояли пустые, с распахнутыми дверями. На улице – несколько мертвых тел, зарубленные собаки, обкромсанная до скелета корова.
Ни одной живой души. Сбежали? Угнаны в полон? Бог весть.
Попробовал поискать в ближнем доме еду. Зажег лучину.
Нашел только горшок с недоеденной кашей. Она была заиндевевшая, к грязной ложке прилип седой волос. Побрезговал. До Радомира не столь далеко, можно дотерпеть.
Обогреться бы только.
В избе была печь, было огниво и кресало, были дрова, но растопить огонь Солоний не сумел, сколько ни бился. Искры высекались, трут зажигался, и даже хворост вспыхивал, но скоро гас. Чертова печь не слушалась. В прежней жизни никто не учил княжеского сына, как их топят.
Разжег во дворе костер, попросту. Оттаял, сморило.
Но среди ночи пробудился от лютого холода. Лязгая зубами, вскочил, попрыгал, поколотил себя руками, пошел дальше.
Эти последние десять верст, в кромешной темноте, под вьюгой, дались еще тяжелее, чем давешние двадцать.
Хуже всего, что заблудился. Казалось бы, путь знакомый, сто раз езженный – и по дороге, и напрямую через поля, а Радомир словно играл в прятки. Не чернел башнями, не светил огнями.
Лишь когда засизел поздний зимний рассвет, Солоний понял, что все время бродил неподалеку.
Город был прямо перед ним, всего в полуверсте. Башни не чернели, потому что их больше не было – обрушились. Не было и домов, дымились одни развалины. Огня не было. Должно быть, угли присыпала, загасила ночная метель.
Отупевший от холода и усталости, Солоний долго бродил по пепелищу, среди трупов. Снова обливался слезами. Не мертвых оплакивал, к их виду он уже привык, а прощался с жизнью. Деваться теперь было совсем некуда.
Бой в Радомире, кажется, был недолгим. Наверное, татары застали город врасплох. Пронеслись по главной улице – там лежали мертвецы, все ничком, с разрубленными затылками; возле терема произошла схватка: здесь разметались несколько братниных дружинников, все знакомые. Ни кольчуг, ни шлемов, ни оружия. Один, безголовый, раздет почти догола.
Вдруг Солоний увидел у нагого мертвеца круглую родинку на груди и зарыдал пуще прежнего. У Филы была такая же, но на лбу – как у батюшки, у Солония на плече, а у Тимона на груди.
Имя – оно как судьба. Тимон значит «честь», вот брат с честью и погиб. Похоронить его тоже нужно было честно. Чтоб вроны неклевали бедное обезображенное тело.
Долбить мерзлую землю сил не было. Солоний взял мертвого брата за ноги, дотащил до развалин конюшни. Сама она сгорела, но подклет, где хранили овес, никуда не делся, хоть мешков с зерном там уже не было. Скинув покойника вниз, княжич завалил ход обломками. Лежи, Тимон, в темной пустоте. Хоть без гроба, зато в просторе и покое. А больше ничего сделать было нельзя, только что прочесть молитву да поплакать.
Смерть смертью, а жизнь жизнью. Невыносимо хотелось есть. О давешней несъеденной каше вспоминалось как о сладчайшем из яств. Не то что с волосом – с земли бы ее съел, по-собачьи.
А искать еду было негде. Радомир превратился в черное ничто – как только татаре сумели дотла спалить немалый город, три сотни домов, да амбары, да улицы с лавками всего за день? Не иначе сам Диавол изрыгнул из пасти всесожигающее пламя.
Подобрал голубя, видно задохнувшегося в дыму, упавшего на угли и полузапекшегося. Ощипал, жадно съел, заел снегом – едва нашел чистый, без сажи и пятен крови.
Еще отыскал в сугробе целый меч – грубый, тяжелый. Должно быть, принадлежал кому-то из младшей дружины. Но повесив на бок оружие, Солоний будто стал выше ростом, шире в плечах. Уже не хвост овечий – воин.
Мертвых голубей было много. Взял еще несколько, сложил в рогожную котомку, немножко обгоревшую, но целую. А больше на пожарище в дорогу взять было нечего.
В дорогу-то в дорогу, но куда податься?
Думал, пока шел до перекрестка, что чуть западнее Радомира. Благодаря тому перекрестку когда-то и город построился. Отсюда можно было пойти на юг, в Чернигов, или на север, в Рязань, или на закат, к дальнему Смоленску.
Следы множества копыт и повозок вели направо, к Рязани. Татары повернули туда. «Иди в другую сторону, на Чернигов», – шепнуло сжавшееся сердце. Но Солоний положил пальцы на деревянную рукоять, сдвинул брови и пошел на север.
Клятва есть клятва. За родителей, за брата надо было мстить. Рязань поганые так просто не возьмут. Это им не Свиристель. Стены высокие, саженной ширины, а дружина у князя Гюргия Игоревича могучая: три тысячи пеших, до семисот конных. Сам князь рязанский Солонию троюродный дядя. Коня, щит, шлем даст, а больше ничего и не нужно. Меч вон свой есть.
Шел Солоний с умом, стерегся. Не по дороге, а вдоль. Если поле – уходил далеко. Если лес – держался рядом.
Иначе было нельзя. То вперед, то назад, всегда быстрым наметом, по двое, по трое, а то и в одиночку часто проносились всадники на маленьких косматых лошадях. Верно, гонцы. Жалко, не было самострела, а то какого-нибудь одинокого вынул бы из седла. На радомирском пепелище Солоний видел несколько целых луков, а стрел вокруг торчало сколько угодно, но брать не стал. По юным годам стрелять его учили только из княжеского оружия, немецкого арбалета. Натянуть руками тетиву русского лука – это немалая сила нужна.
Два раза заночевал в пустых деревнях. Жителей нигде не было. Вся Русь словно вымерла, на холодной земле остались одни татары да неприкаянный Солоний. Как есть – ад, Преисподняя…
Научился отыскивать в домах еду. Оказывается, в клетушах висели вязки осенних грибов, стояли малые короба с сушеной ягодой. Справился и с печью, так что спал в тепле. Правда, на вторую ночь, перед рассветом, пришлось прыгнуть в окно. Слава Христу, дремал некрепко, услышал конское ржание, гортанную речь. Двое татар спешились, шли к крыльцу с саблями наголо. Наверно, заметили дым.
Ничего, отсиделся в снегу, за плетнем. Потом вернулся за тулупом и шапкой. То ли не заметили поганые, то ли им лень было гоняться в потемках. Пронес Господь.
А на третий день Солоний наконец встретил в придорожном лесу живого русского человека. Тот шел навстречу по тропинке, вел в поводу коня. Сам в островерхом шлеме, кольчуге, на боку меч – не иначе, княжий или боярский дружинник.
Солоний к нему так и кинулся.
– Ты откуда, чей?
– Из Рязани, – ответил рослый, светлобородый молодец, настороженно глядя на незнакомца. – Князя Гюргия Игоревича дружинник.
– То мой дядя!
– Ага, – оскалился воин, видя, что Солоний один, и оттого успокоившись. Не поверил. Оно и понятно – хорош княжий племянник в нагольном тулупе, с рогожным мешком и безножным мечом за поясом.
– Я княжич свиристельский, Богом клянусь! – Вспомнив, что ни отца, ни старшего брата уж нет в живых, Солоний печально поправился: – То есть теперь уже князь…
– Ну да. – Дружинник хмыкнул. – Куда твоя княжья милость путь держит?
– Туда же, куда и ты, я думаю. В Рязань. Татар бить. – Вдруг Солоний сообразил, что воин идет не на север, а наоборот на юг. – Ты ведь в Рязань?
– Неее, – протянул бородач, глядя не на княжича, а на его шапку. – В Рязани дураки остались. А я умный.
– Как так?
– Нету боле Рязани, парень. Я в дозоре был. Как поглядел на татарскую рать, увидал, что всё поле черно, сразу в седло, и давай Бог ноги. А все, кто в городе остался, ныне воронов кормят.
– И князь?! – ахнул Солоний.
– Все, с мала до велика. Была Рязань, да вся вышла.
Княжич закрыл лицо руками. Господи, что же это? Не может быть… Ведь то сама Рязань! РЯЗАНЬ!
Вдруг голове сделалось холодно. Это рязанец сдернул с Солония шапку.
– Ты что?!
– И тулуп сымай. Зябко мне в кольчуге. Сымай, сымай, князь свиристельский. Недосуг мне с тобой свиристеть. Не то вот. – Крепкая рука угрожающе коснулась меча.
– Ах ты собака! – вскричал Солоний, пятясь. – От князя своего сбежал, так еще и грабить?!
Он выдернул из-за пояса меч, продолжая отступать, потому что дружинник не испугался, а только ухмыльнулся и продолжал напирать. Меч он не вынул.
– Не лезь. Я венгерской рубке обучен! – предупредил Солоний.
Рука дрожала, тяжелый клинок ходил ходуном.
– Ишь какой. И вправду князь. Ну, руби меня по-венгерски, коли ты такой страшный.
Рязанец покаянно опустил голову.
Княжич попросил:
– Иди своей дорогой. Шапку только отдай…
Внезапно детина, не распрямляясь, по-бычьи, ринулся вперед и острой верхушкой шлема ударил в грудь. Солоний опрокинулся навзничь, вскрикнув от боли.
Но главная мука была впереди. Дружинник долго бил его ногами – по ребрам, бедрам, по голове. Меч отобрал, осмотрел – швырнул в сторону. Тулуп содрал.
– Сапоги добрые, – пробормотал. – И впрямь будто княжеские…
– Я и есть князь! Не смей!
– Был князь, а стал грязь.
Чтоб Солоний не брыкался, гад пнул его носком в пах, уперся и стянул с ослепшего от боли юноши сафьяновые, на меху сапоги.
Напоследок, уже повернувшись уходить, да будто вспомнив, двинул с размаху каблуком в висок.
И Солония не стало.
Как седлают молодых кобылиц
Последних жителей уставшие, вымазанные в крови воины убивали уже в сумерках. А работа еще не закончилась. Приказ есть приказ. Нойон велел сегодня же спалить проклятый город с непроизносимым названием.
Крепостные стены и постройки, не сгоревшие во время пожара, опрыскали китайской горючей водой «Слюна Дракона». Одной капли довольно, чтобы сжечь целый дом – если никто не тушит. А тушить деревянный город было некому. Люди, населявшие его, либо погибли во время штурма, либо были зарезаны в поле. Малая часть, полсотни счастливцев, поплелись, связанные одной веревкой, с колодками на шее, вслед за обозом с добычей.
В полночь Манул стоял один подле юрты, в которой под черным значком умирал, а может быть, уже умер старый шаман, и глядел на костер шириной в полет стрелы и высотой до самых туч. Казалось бы, всякое повидал на своем веку, а такого зрелища еще не видывал. Эх, был бы Калга-сэчэн индусом, получилось бы огненное погребение, достойное такого человека. Но нойон велел насыпать над покойником курган. Какой, хотелось бы знать, высоты? Лучше перестараться, чем недостараться. Гэрэл очень любил своего учителя и на недостаточно высокий холм может обидеться.
А где взять столько землекопов? Своих людей мало, пленные угнаны, местные крестьяне поразбежались.
Можно, конечно, словчить. Навалить недогоревших бревен, всякого мусора, а землей присыпать только поверху. Не станет же царевич разрывать и проверять? Но может обидеться дух Калги-сэчэна, а это еще хуже, чем гнев нойона.
Пойти что ли посмотреть? Если еще жив, спросить, ладно ли будет с бревнами. Старик мудр и некичлив.
Сначала Манул подошел к караульному, тихонько спросил:
– Что он?
– Долго стонал. Потом перестал.
Манул трижды поклонился южной стороне неба, где находится заоблачное царство Тенгри. Душа мудреца несомненно уже отправилась туда.
Когда сотник последний раз видел шамана, тот лежал на спине, с закрытыми глазами. Русская стрела торчала из груди и покачивалась в такт тяжелым вздохам. За что подлый бог смерти так долго мучил хорошего человека? Вот ведь и столик с подношениями Эрлэгу рядом поставили – кумыс, сочный хурут, молочное вино архи, жареный бараний зоб. Забирай душу, не терзай.
– Не звал перед смертью? – еще спросил Манул, робея войти. Мертвец все-таки особенный, не чета остальным. В больших шаманах живет большая сила. Бывает, не вся она уходит с покойником. Может и навредить, если кто неосторожно приблизится.
На всякий случай Манул прочитал заклинание против невидимого зла и скинул у порога гутулы. Потом все-таки вошел.
В юрте было совсем темно, ничего не видать.
– Ты жаловал меня при жизни, не обижай и теперь, – сказал сотник мертвому шаману. – Похороню тебя по-царски.
– А, Манул, – раздалось из мрака. У сотника от ужаса встопорщились волоски на затылке. – Зажги-ка светильник, а то я в темноте весь кумысом облился.
С привидением спорить нельзя. Весь трясясь, Манул запалил лампу-жировик. Под конусом потолка разлилось дрожащее красноватое сияние.
Калга-сэчэн не лежал, а сидел. В одной руке держал чашу, в другой кусок мяса. Глаза весело блестели. Стрелы в груди не было.
– Ишь, глаза какие круглые сделались. Будто у руса, – засмеялся старик. – Живой я, живой. Раненый немножко, но несильно. На мне три халата, из толстого китайского шелка. Он не хуже железной кольчуги защищает. Стрела между ребер кольнула, да неглубоко вошла.
– А…а…а зачем же ты нойону сказал, что умираешь? – пролепетал Манул, еще не отойдя от испуга.
– Устал я в походы ходить. Никогда я войну не любил, а теперь еще и старый стал. Силы не те. И много ль царевичу проку от моих советов на войне? Я не вояка, я человек мирный. Про жизнь я много знаю, а про смерть не больше юного Гэрэла. Никогда я ею не интересовался. Вот вернется царевич с победой к мирному житью, я ему пригожусь. Он меня пуще прежнего слушать станет, я ведь его от стрелы защитил.
Шаман подмигнул, и Манулу вдруг тоже стало весело.
– Как я рад, что ты жив, гуай. Не придется насыпать высокий курган.
Оба засмеялись.
– Мой курган – молодой Гэрэл, – сказал Калга-сэчэн. – Сяду на него, вознесусь высоко. Мальчик смелый, смышленый. На язык только невоздержан. Любит спьяну похвастать, что приходится хану Бату старшим родственником – дядей. Налей-ка мне еще архи. И себе тоже. Поживу тут у тебя, пока рана не заживет. Ты не против?
– Я твой вечный должник, гуай, – низко поклонился Манул. – И рад я не только из-за кургана. Нечасто увидишь человека, который сумел провести самого Эрлэга.
Как обустраивает свою жизнь обычный человек? Сначала позаботится о себе, потом о семье и родичах, потом о родном курене и только после этого станет глядеть, что творится окрест. Не то человек, облеченный властью. Если он чего-то стоит, то делает наоборот: сначала приводит в порядок жизнь подвластных ему людей и лишь затем – свою собственную. Так велит мудрый закон Великой Ясы.
Манул теперь жил под бунчуком с конским хвостом и был сотник. И не просто армейский сотник, кто должен печься о сотне нукеров и двух сотнях лошадей, а начальник над целым нутугом. Раньше здесь располагались два русских города, Свэрэстэ и Рэдэмэр, четыре десятка больших и малых дэрэвэн, как русы называют свои деревянные поселки, а правили всем этим краем старый нойон с пятном на лбу и его старший сын, чьи головы Гэрэл-нойон отправил темнику вместе с победным донесением.
Нутуг у Манула был обширный: день быстрой рысью в длину, полдня в ширину, а населения не имелось вовсе, свои нукеры не в счет.
Оба города сгорели, горожан, кто не погиб, угнали. Потому что победители в городах жить не умели, а побежденному народу города ни к чему. Когда в одном месте слишком много людей, они чувствуют свою силу и смелеют. Но и совсем без людей тоже нельзя. Кто будет давать десятину?
Крестьяне-русы разбежались от наступающего войска во все стороны, но деться им было некуда. И к северу, и к югу, и к западу теперь правили такие же монгольские сотники, а к востоку была Степь.
Манул разослал половецких толмачей по всем направлениям, чтобы говорили беглецам: не бойтесь, возвращайтесь, ваши дома стоят целые. Не то перемрете с голода, поморозитесь. Русы не монголы, они зимой без теплого дома жить не умеют, поэтому через некоторое время крестьяне потянулись назад.
Сначала, конечно, послали стариков, которым все равно помирать. Потом потихоньку вернулись остальные.
В каждую ожившую деревню Манул наведался сам. Без нукеров, только с толмачом. Пусть русы видят: монголы их не боятся. Говорил, что война кончилась, теперь мир и убивать больше никого не будут, только преступников. И объяснил, как надо жить, чтобы не стать преступниками.
Десятую часть всего, что выращивается и изготовляется, нужно честно отдавать хану. Это совсем немного, ваш князь забирал четверть, а другие князья и того больше. Еще каждый год нужно отдавать на ханскую службу десятую часть молодых мужчин и девушек. Бояться этого не надо. Из мужчин воспитают сильных и храбрых воинов, завидная судьба. Девушки станут матерями воинов, а это самая почетная женская доля.
Русы слушали молча, и по их странным носатым, круглоглазым лицам было не понять, что они думают, поэтому Манул вздохнул с облегчением только весной, когда увидел, что крестьяне вышли на пахоту. Это значило, что жизнь в нутуге налаживается.
Лишь теперь он занялся обустройством своего куреня – всю зиму сам был в постоянных разъездах и нукерам передышки не давал.
Поставил бунчук на высоком берегу реки, неподалеку от сожженного города. Вокруг – десять маленьких кибиток для десятников и десять больших юрт для воинов, которым полагалось жить вместе, по девять человек. Десятников-то назначил быстро, из опытных нукеров, а десятки пока были одно название – где четыре человека, где пять.
Набрать и обучить новую сотню – это было самое важное. Вернется из похода тысячник – спросит.
После приступа остались раненые. Легкие ушли с войском, о тяжелых должен был позаботиться Манул.
Раненые монголы долго не разлеживаются. Кого не отпускает Эрлэг – умирают, кто сумел с ним договориться – выздоравливают. Таких набралось двадцать три человека, хорошее пополнение. Остальных пришлось взять у русов. Манул сам отобрал каждого рекрута: чтоб был проворный, неробкий и хоть немного умел сидеть в седле.
Обучать военному делу русов оказалось так же трудно, как булгар. Давно замечено: если в стране есть города, значит, нет хороших всадников. Саблей русы махали мощно – плечи у них были крепкие и руки сильные, но лошадей понимали плохо, а из луков стреляли криво. Манул сказал десятникам, что рекрутов и не надо обучать меткости, только быстроте. В бою важно, чтобы на врага стрелы сыпались дождем, без остановки, поэтому целятся только мэргэны, кто бьет без промаха, а остальные просто как можно чаще спускают тетиву.
Главное, чтобы новички захотели стать монголами, – об этом Манул заботился пуще всего. Кто полюбил скачку, свист ветра, воинское товарищество и вечный торг с Эрлэгом, тот уже монгол. К осени должна была вырасти настоящая монгольская сотня полного состава и приличного качества.
Наладив жизнь куреня, Манул наконец занялся собственным хозяйством.
Прежде всего, конечно, подобрал себе старшего коня, а то два запасных были не особенно хороши. Выменял у начальника соседней сотни Элбэнха очень приличного гнедого жеребца, на котором сотнику ездить не зазорно. Взамен отдал жемчужную сетку.
Отношения с новым конем сложились вежливые, но без любви. Манул даже имени ему не дал, чтобы Звездуха там, наверху, не ревновала. Звал просто «эй, конь».
Затем поставил хорошую большую юрту. Пусть люди смотрят и видят: здесь обретается Власть, вон и конский хвост полощется на ветру. Первые три месяца, пока не начал таять снег, рядом стоял нойонов шатер белого войлока, поднимая Манулов авторитет еще выше. Там выздоравливал, а потом просто жил, ждал весны Калга-сэчэн. Он выходил редко, только если выглядывало солнышко, а так всё полеживал или посиживал. Несколько раз сотник заставал у него старого русского шамана, который назывался поп. Попа привозили из большого села, жители которого разводили овец. Однажды Манул заглянул в юрту и увидел, что оба старика стоят на коленях, что-то протяжно напевают и делают рукой движения от лба к животу, от плеча к плечу.
– Учусь русским молитвам, – объяснил потом Калга-сэчэн. – А еще Фома-сэчэн обучил меня читать русские письмена по книге, которую ты мне подарил.
– Там, в книге, изложена русская Яса? – почтительно спросил Манул. Он уже знал, что книги – это произнесенные кем-то слова, которые можно воскресить при помощи колдовства, именуемого «чтение».
– Нет, это сказка про багатура, который полюбил хатун, и они убежали в лес и стали жить вдвоем, вдали от всех.
– Каждый багатур должен любить жену своего хана. Зачем же убегать? – удивился Манул. – И зачем жить в лесу? Там темно, ничего не видно, нельзя пустить коня вскачь.
Калга-сэчэн рассказал удивительное. Оказывается, у людей Запада бывает, что мужчина и женщина не просто хотят вместе лечь, но вроде как заболевают духом и совсем не могут обходиться друг без друга. Это не такая любовь, когда тебе просто кто-то очень нравится, а совсем другая: любишь кого-то так сильно, что на всех остальных любви уже не остается.
Шаман очень хорошо умел объяснять непонятное. Он сказал: «Разве ты любишь других лошадей, как любил свою Звездуху?» – и Манул понял.
Они часто разговаривали с Калгой-сэчэном по вечерам о всяком-разном, это было самое лучшее время суток.
– А ты кого-нибудь так в своей жизни любил, гуай? – спросил сотник.
– Я больше всего любил узнавать новое. Меня гнало с места на место ненасытное любопытство. – Шаман вздохнул. – Поэтому ни с одной женщиной я надолго не оставался. Даже если какая-то очень нравилась, скоро она переставала быть новой, и я шел дальше. Теперь я часто вспоминаю одну тангутку, с которой прожил когда-то, много зим назад, два месяца, и думаю: если б я остался с ней, может быть, узнал бы про жизнь больше, чем за годы всех моих странствий. Но я был молод и глуп. Я ушел…
– Ты не мог не уйти. Ты служил великому Чингисхану.
Калга-сэчэн пренебрежительно покривился.
– Это Чингисхан думал, что я таскаюсь из конца в конец земли, следуя его воле. А я просто любил смотреть, как устроен мир, как где живут люди и какие где боги. Я был у кераитов и молился Иисусу. Был дервишем и молился Аллаху. Был в китайском монастыре – молился Будде. А сейчас я снова монгол и молюсь богу Тенгри. К старости я понял, что Бог – один, и ему все равно, как мы его называем. Лишь бы исполняли Его закон, который тоже один.
– В чем же состоит этот закон?
– А то ты не знаешь? Поступишь правильно – будешь награжден. Поступишь неправильно – будешь наказан.
Поразмыслив, Манул спросил:
– А как понять, что правильно и что неправильно? Ведь у нас обычаи одни, у хорезмцев другие, у половцев третьи. Все живут по-разному. У русов вон почему-то считается, что брать больше одной жены нельзя.
– Богу все равно, что ты считаешь правильным. Но если уже решил, что это – правильное, живи по своей правде. Изменишь самому себе – изменишь и Богу.
– А если сомневаешься, что правильно и что неправильно?
– На самом деле в глубине души ты все равно знаешь, как правильно. Просто пытаешься себя обмануть. И еще помни вот что. Бог не мелочен и не придирчив. За малый грех и наказание пустяковое. Выпил много вина – получи похмелье, только и всего. Главное – не совершай предательства, этого Бог не прощает.
Самый ценный совет мудрец дал расставаясь.
Весна выдалась очень ранняя. Солнце сияло каждый день, дул свежий ветер. Степь стала твердая, гладкая и блестящая, словно хорезмское блюдо.
– Лучшее время, чтобы ехать на санях, – сказал Калга-сэчэн. – Старые кости не любят тряски. Вели сложить юрту, подковать коней шипастыми подковами. Поеду на реку Итиль, куда вернутся тумены, а вместе с ними и мой Гэрэл. Война скоро кончится.
Манул не спросил, откуда старик это знает. Шаман он и есть шаман. А спросить нужно было про другое.
– Теперь, когда я поставил себе хорошую юрту, пришло время поселить туда женщину. Но у меня никогда не было жены. Женщин было много, но это другое. Взял силой, что тебе нужно, сел в седло, ускакал. Но с ними я не собирался жить, а с этой придется. Если будет угодно Тенгри, она родит мне сына. Научи меня, гуай, как нужно поступить с женщиной, если собираешься с ней жить долго.
Некрасивую русскую девку Манул всё это время держал в служанках и не трогал, приглядывался: Звездуха или не Звездуха? Иногда казалось – она. Когда, отдоив коров, устало сбрасывала прядь белых волос со лба, так что открывалось пятно на лбу. Или – было несколько раз – когда Манул заставал ее неподвижно глядящей на заходящее солнце. Звездуха тоже вот так смотрела на закат, чем-то он ее завораживал. А в остальное время баба как баба. В бабах Манул разбирался хуже, чем в лошадях. Можно сказать, совсем не разбирался.
– Я видел, как за тобой ходила твоя Звездуха, – ответил шаман. – Слушалась без плетки. Значит, сумел приручить. Так же приручают и женщин, разницы нет. Только говори с ней больше, чем говорил с кобылой, вот и вся хитрость.
Сотник усомнился:
– Моя Звездуха меня не боялась, даже когда была жеребенком. А эта цепенеет, едва я на нее взгляну. Не так, как вначале, но все-таки сильно меня боится. Ведь я ее не бью, не обижаю, ни разу не прикрикнул. Кроме того с кобылой не надо было делить постель, а с женой надо. Я недавно чуть дотронулся до ее плеча – она дернулась. Как быть? Не насильничать же?
Калга-сэчэн задумался, но ненадолго.
– Насиловать жену, конечно, нельзя. От насилия рождаются злые и несчастные дети. Но из-за постели ты не тревожься, это пустяки. Она – девка. Как же ей не бояться? Все девки этого боятся, пока не поймут, что ничего страшного нет. Есть у меня семена, из которых в Китае варят свадебное зелье. Его дают молоденьким невестам перед первой брачной ночью. Подмешай в вино, дай выпить. От такого напитка у женщины жизненная сила уходит из головы в утробу. Женщина становится мягкая и потная, пьяная, глупая, все время хихикает и ничего не боится.
Вечером Манул посадил девку перед собой. Поставил угощение – и татарское, и русское.
Она сидела ни жива, ни мертва. Не знала, что будет. К еде не притрагивалась.
– Давно хочу тебя спросить, – ласково произнес он. – Ты тогда могла убежать, как твой брат, – и не убежала. Не от страха, ты смелая. Помню, как ты бросилась спасать брата, не испугалась стрел. Почему ты с ним не убежала?
– Я дала клятву Христу. Если Он пощадит брата, я стану твоей рабыней. Клятву нарушать нельзя, – тихо ответила она, опустив лицо, но перед тем быстро взглянула на Манула особенным образом.
Он помолчал. Вести дело быстро было нельзя.
Продолжил после паузы:
– Иногда ты странно на меня смотришь. Будто тоже хочешь что-то спросить. Спрашивай.
Девка долго собиралась с духом. Наконец, так и не подняв глаз, побледнела, прошептала:
– Почему ты меня… не тронул? Ведь я твоя рабыня. Ты мог сделать со мной что пожелаешь.
Манул вспомнил, как шаман говорил: женщина, которую ты мог взять и не взял, сначала радуется, а потом задумывается. Почему не взял? Может, она нехороша, нежеланна? Калга-сэчэн человек мудрый, но, кажется, тоже не очень хорошо понимает женщин. Эта спросила не от обиды – Манул почувствовал бы.
– Против воли, насильно можно брать только чужих женщин. Я это делал много раз. Но ты перестала быть чужая и стала своя.
– Своя? – не поняла она и наконец посмотрела на него – кажется, уже не очень пугливо.
Он стал объяснять. Что люди делятся на своих и чужих. Свои – те, кто с тобой и за тебя. Они-то и есть настоящие люди. Чужие – или враги, или никто. Они не имеют никакой важности. Своя собака дороже чужого хана. Со своими, как с чужими, обходиться нельзя. И наоборот: поступать с чужими, как со своими, тоже неправильно.
– Наш бог Христос учит не так, – сказала она.
– По-божьи, может, и не так, – не стал спорить Манул. – А по-человечьи так. Скажи, вот если ты увидишь, как в реке тонут твой брат и кто-то незнакомый, а ты в маленькой лодке, куда можно посадить только одного. Кого ты спасешь?
– Брата, конечно.
– Еще бы. А если бы нет, ты была бы самым худшим человеком на свете. И во всем так. Кто сделает плохое своему – тот предатель, хуже этого нет ничего. А сделать плохое чужому можно. То есть, если просто так или для забавы – плохо, грех. Но если ради своих или для дела – тогда хорошо и правильно. Вот главное, что нужно понять про жизнь: есть два закона, для своих и для чужих. Запомни это. Ты молодая, ты будешь долго жить после меня. Твой Христос, может, и хороший бог, но его учение толковали неумные люди.
Она задумалась. Манул решил, что пора перейти к самому трудному.
– Ты знаешь, что я убил твоих отца и мать, – строго и печально сказал он. Девушка вздрогнула. – Я сделал так, потому что они были мне чужие, никто. Сейчас я бился бы насмерть, чтобы их защитить. Потому что они – твои отец и мать. Потому что теперь мы с тобой стали свои. Мы – одно.
Выражение ее лица изменилось. Он не очень понял, что блеснуло в ее больших глазах, уже не казавшихся ему уродливыми: испуг, удивление или что-то еще.
– Если ты чувствуешь, что из-за родителей… или из-за чего-то другого никогда не сможешь быть для меня своей, – скажи. Отпустить я тебя не могу. Некуда. Теперь здесь всё монгольское, тебя так или иначе кто-то захватит. Но я продам тебя какому-нибудь хорошему человеку, который не будет тебя обижать. Может быть, он станет для тебя своим.
– Я дала клятву принадлежать тебе, – негромко, но твердо молвила она. – Бога обманывать нельзя.
Не хочет покидать родные места, подумал Манул. Но бояться перестала. И ненависти нет. Уже хорошо.
– Ладно. Я научу тебя, как быть монгольской женой.
И будто случайно, наливая себе кумыса, коснулся ее запястья. Она быстро отдернула руку.
Так же шарахается необъезженная лошадь из табуна, когда ее первый раз ведут седлать.
А не надо торопиться. Тут своя наука: всё делать без спешки, в строгой последовательности. Одно переходит в другое.
Сначала нужно погладить по холке, потрепать или расчесать гриву. Потом положить на спину мягкий, приятный потник. Потом – красивый чепрак. Потом – седло. Тихонько, но крепко затянуть подпругу. Надеть уздечку – ласково, не прищемив губ. И только после всего этого садиться и ехать.
С мягкого потника Манул и начал.
– Сначала мы поужинаем, как муж и жена. Угощайся.






