Жребий праведных грешниц (сборник) Нестерова Наталья
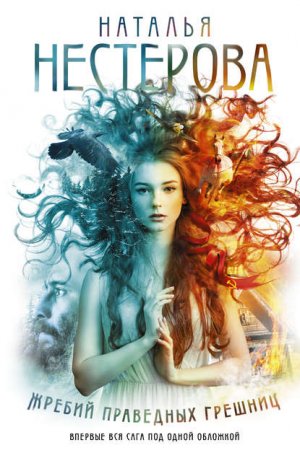
– Э-э-э! – засуетился доктор, схватил рюмку и принялся ею тыкать в Марфу. – Вот вы, которая наливала… Ты! Мне еще!
Марфа доктора будто и не видела, не слышала, не присутствовал он здесь, повернула голову к свекрови, взглядом спросила указаний. Анфиса в доли секунды осмотрела невесток и осталась довольна: поза почтительная, выражение глаз подобострастное, как и положено.
– Мне еще вашего зелья волшебного, – не унимался Василий Кузьмич.
– Конечно, – ласково отозвалась Анфиса, перетягивая на себя взор доктора. – Самовар-то не ставили, извините! Взвару горячего старшая моя невестка Марфа, – она ткнула пальцем в Марфу, – сейчас вам принесет. На пяти травах. Тетка моей невестки младшей, Прасковьи, – Анфиса указала на нее, – хорошо в травах сибирских разбирается.
Она забалтывала гостя и одновременно давала ему понять, что вольница самогон хлебать здесь ему не светит. И вообще, как он правильно заметил, всему голова тут Анфиса Ивановна, по ее милости будет сладко, а по ее гневу не поздоровится.
– Это, простите, – сотрясал в воздухе пустой рюмкой Василий Кузьмич, – какой-то доморощенный матриархат!
– Не судите, извините, – с нажимом произнесла Анфиса. – Мы люди простые, но при своих правилах и слов ругательных в доме не позволяем. А к взвару вам бызэ-пирожны подадут.
– Что? Безе? Здесь, в тмутаракани?
– Супруг мой их уважает. Да вы сядьте, чего торчком-то? Бызэ-пирожны, по-нашему «кудрецы», на взбитых белках от яиц наших кур, которые, вы понимаете, не на фабричном подзаборье питаются. И с пух-сахаром. Дочка Нюраня вчерась сахар молола, на своих девичьих ладошках мозоли насадила. Может, вам не понравится, но по моему вкусу, из Омска привозили городские бызэ, нашим кудрецам уступают.
Василий Кузьмич уставился на чашку прекрасного фарфора, которую поставила перед ним Марфа. Светло-коричневая жидкость в чашке издавала восхитительный аромат. Вторая, низкорослая невестка Анфисы Ивановны, кажется Прасковья, поставила перед ним маленькую тарелку, опять-таки от фарфорового сервиза, на которой лежали… Вообразить невозможно! Два пирожных: лепешки теста, а сверху фигурные башни снежно-белого, покрытого перламутровой тончайшей пленкой безе! Венчали пирожные ягодки клюквы с маленькими игривыми хвостиками.
– Ущипните меня! – изумился Василий Кузьмич. – Как на Невском… кафе «Доминик»… Божественно! Я, знаете ли, сладкоежка.
Он принялся уплетать пирожные, мурлыча от удовольствия, пачкая белым бороду и усы. Даже про самогон забыл.
Мало-помалу Анфиса взяла власть над доктором, и жил он, как и все в доме, подчиняясь ее законам. Василий Кузьмич подтвердил диагноз Анфисы о двойне у Прасковьи. Еремей выпилил доктору трубочку, напоминающую граммофонную в миниатюре. С ее помощью Василий Кузьмич прослушал сердцебиение плодов. Он так и назвал детишек в животах Марфы и Прасковьи – плодами, точно они растения, а не души христианские. А еще сказал, что предлежание у плодов правильное. Прасковье послышалось – «прилежание». Она заикнуться протестующе не посмела, но никаким прилежанием ее детки не отличались – постоянно устраивали кулачные бои без правил. Дату родов врач определил приблизительно – через месяц-полтора. Марфа и Прасковья не помнили толком, когда у них последние «крови» были, пришлось основываться на размерах плодов, которые доктор определял, измеряя портновской лентой животы беременных невесток.
Василий Кузьмич на Анфисиных харчах заметно поправился, округлился лицом и уже не походил на сморщенную лежалую репу. Кроме отличного питания, свою роль сыграли и почти ежедневные банные процедуры. Хотя когда доктора впервые повели в баню, случился афронт. Дорогому гостю привычные к зверскому жару мужики щедро поддали парку, доктор завизжал по-бабьи и выскочил на улицу в чем мать родила с криками: «Убийцы! Душегубы!»
Во дворе хлопотала Анфиса с невестками. Нагой красный старичок со всклоченными седыми бородой, усами и редкими волосами на голове, с одуванчиковым пушком по всему телу был бы смешон, если бы не напоминал ожившего героя детских страшных сказок – лесовика или болотного царя, которыми пугают ребятишек, чтобы они в лес не убегали. Анфиса вытаращила глаза, а Марфа и Прасковья заверещали, подключившись к докторским воплям и едва не родив с перепугу раньше срока.
– Заткнитесь, дуры! – прикрикнула на невесток Анфиса. – Живо в дом!
Анфиса была на голову выше доктора и на два пуда тяжелее. Она легко захватила Василия Кузьмича, поволокла – он почти не касался ступнями земли, – подтащила к бочке с дождевой водой и мокнула в нее, погрузив доктора едва ли не по пояс. Через секунду Василий Кузьмич забулькал и принялся лихорадочно сучить ногами. Анфиса вынула его и усадила на землю. Пару раз зачерпнула воды из бочки и окатила доктора – для надежности, чтобы окончательно снять последствия жаркого удара. Василий Кузьмич кашлял, чихал, отплевывался, махал на Анфису руками и почему-то обвинял хозяев в том, что они устроили ему китайскую пытку.
«Коль ругается, значит, полегчало», – решила Анфиса. Она сняла фартук и набросила его Василию Кузьмичу на промежность. Хотя между ног у доктора болталось не великое мужское достоинство, а сморщенные шкурки в опушке седых волос, оставаться неприкрытым ему было нельзя – стыд размеров не имеет.
Отойдя от доктора, Анфиса развернулась в сторону бани. Из приоткрытой двери одна над другой торчали три головы – мужа и сыновей. Еремей и Степан сдерживали смех, Петр гоготал открыто. Анфиса показала им кулак: вот я вам!..
Василий Кузьмич прекрасно понимал, что на склоне лет ему, одинокому и безвестному, обреченному умирать от цирроза печени в запущенной казенной квартирке, выпал удивительный шанс. Будь у него дети и внуки, они не смогли бы обеспечить ему того уюта, тепла и заботы, которые предоставила Анфиса Ивановна. Однако покориться темной деревенской бабе? Отдаться на ее милость? Юношеская взрывная дерзость навредила ему в молодости: вместо благополучной карьеры столичного врача получил галерную каторгу в сибирской земской больнице. И в зрелые годы не стал модным богатым врачом в Омске, потому что перессорился со всем начальством – от городовых, низших полицейских чинов, до губернатора. Правда, та же самая неукротимая дерзость спасла ему жизнь во время революций, войн и восстаний. Василий Кузьмич не боялся ни красных, ни белых, ни кадровых военных, ни бандитов. У него был только один объект заботы, вернее – объекты, его больные, пациенты. В борьбе за их здоровье Василий Кузьмич мог обложить матом и рафинированного колчаковского офицера, и пропахшего вонючим смоляным дымом партизана. И те пасовали перед бешеным доктором, который в копейку не ставит свою голову (легче простого пристрелить этого умалишенного, уж и револьвер наставлен ему в грудь), а за жизнь доходяг, что у него по койкам лежат, готов коршуном вцепиться, заклевать обидчиков.
Люди, независимо от статуса, образования, социального положения, всегда чувствуют истинное, настоящее – истинного пророка, настоящего врача, учителя. Тех выродков, у кого осознанно поднимается рука на истинное и настоящее, очень немного, даже в Библии их раз-два и обчелся. В невероятной кровавой мясорубке военно-революционных лет, среди десятков и сотен людей, потерявших дома и поместья, виллу на Ривьере или хутор, тяжким трудом выстроенный на отвоеванном у тайги участке, среди людей, чьих родителей, жен и детей зверски убили и не погребли, бросили гнить, чьи корни были обрублены жестоко и безвозвратно, не нашлось выродка, который лишил бы жизни Василия Кузьмича. На него много раз наставляли винтовки, наганы, ружья, в него тыкали ножами, саблями и даже вилами, его несколько раз ставили к стенке, его умыкали, увозили на санях, дровнях и поперек седла. Всегда – к другим пациентам.
И вот теперь его снова умыкнули! Спору нет – обстоятельства по нынешним временам райские, и обхождение в высшей степени почтительное. Но терпеть сибирскую Салтычиху, диктующую, сколько ему пить или не пить?.. Он прекрасно знает свой диагноз: вздувшаяся селезенка и окаменевшая печень не оставляют сомнений. Это его выбор! И если Анфиса Ивановна, царица Савская, возомнила себя хозяйкой его судьбы, она сильно ошибается!
Нюраня
Причиной бунтов Василия Кузьмича всегда был завуалированный отказ Анфисы налить четвертую, досрочную рюмку самогона. Три в обед, две за ужином, с утра только чай – таков был ее устав-рецепт для доктора.
Анфиса никогда не отказывала прямо и грубо. Растянув губы как бы в улыбке, при этом жестко сверкая глазами, она нараспев тянула:
– Дык лучше взвару, Василий Кузьмич, вашего любимого…
– Терпеть не могу это пойло, в него напихано неизвестно что!
– Дык почему неизвестно? Хорошие травки, ими от века запойных мужиков в чувство восстанавливали. А ко взвару пряники медовые? Или сахарной клюквы? Бызэ также имеется.
– Безе! – падал на лавку Василий Кузьмич и хватался за голову. – Если бы вы знали, Еремей Николаевич! – К Анфисиному мужу, с которым у него сложились дружественные отношения, Василий Кузьмич обращался как к последней инстанции, способной молчаливой поддержкой сохранить лицо перед Салтычихой, царицей Савской. – Если бы вы знали, сколь символично это пирожное для меня! Много лет назад… в Петербурге… Я нищий студент, практически Раскольников, от голода хоть старушку топором по голове, хоть в революцию. Зарабатывал уроками. Копейки! Зарабатывал не у гимназистов, слабых в алгебре или в химии, а у отпрысков сапожников и прачек, которым требовалось алфавит и арифметический счет в пределах десяти освоить, чтобы за казенный счет в школу поступить. Еремей Николаевич, вам не кажется, что библейское утверждение «кто умножает познания, умножает скорбь» имеет под собой глубокий смысл? Антигуманистический, циничный… но во многом справедливый? Выучили мы кухаркиных детей, черту оседлости убрали – а что получили? Но я, собственно, не об этом… Почему бабы застыли? Ставьте уж на стол взвар и несите ваши пряники. Еремей Николаевич, я вам не досаждаю своей болтовней? Нисколько? Благодарю! Представьте: промозглый Петербург Достоевского, я, студент, хронически голоден. Настолько голоден, что насмешки богатеньких однокурсников над моим платьем меня не беспокоят. Вечные копеечные подсчеты, диета почти исключительно мучная – я знал в округе все булочные, которые за бесценок вечером отдают черствые булки. Но город-то остается, наличествует столица! Экипажи, кучера-мордовороты сытые, безумно прекрасные барышни в шляпках, при них кавалеры лощеные. Экипаж останавливается, кавалер руку барышне подает, она выпархивает из экипажа в каком-то невероятном балетном движении. Швейцар распахивает перед ними двери кондитерской… Ах, какие на Невском были кондитерские! Филиппова, Абрикосова! В витринах чудеса архитектурного кондитерства: многоярусные торты все в оборочках и рюшечках, шоколадные фигурки, фрукты, покрытые глазурью. И мое самое заветное – безе! Сугробики обольстительной сладости! Для меня – символ жизненного успеха. Подчеркну – успеха, достигнутого личным трудом. Другого я не приемлю! А теперь перенесемся в настоящее, – продолжал Василий Кузьмич, впиваясь в пирожное и, как водится, пачкаясь белым. – Меня, уже шестидесятилетнего старика, судьба нежданно-негаданно награждает… безе. Такого не сочинил бы и Жюль Верн! Вы согласны?
– Наверное, – мягко заметил Еремей, – у каждого мужчины было свое безе в жизни.
Первый бунт Василия Кузьмича случился на третий день его пребывания в доме Медведевых. Одежду доктора постирали, вычистили и во многих местах подштопали. В привычных брюках и сюртуке он чувствовал себя уверенно, а хозяйка Анфиса с неслыханной дерзостью отказывала ему в рюмочке самогона.
– Дремучие люди! Десятый век! Украли, привезли меня сюда – и что?! – Василий Кузьмич расхаживал туда-обратно вдоль длинного стола в горнице.
За столом с противоположной стороны, у стены, сидели окаменевшие от страха Марфа и Прасковья, зачарованная, не знавшая, смеяться или пугаться, и потому грызущая ногти Нюраня и Анфиса Ивановна, сложившая руки на груди, с известной улыбочкой. Мужики отсутствовали, на работах были.
– Я человек науки! – разорялся Василий Кузьмич. – Я вам не деревенская повитуха, которая заговорами-приговорами голову невеждам морочит. Мне нужны инструменты и препараты! Где мой врачебный саквояж? Ваши дуболомы не потрудились захватить мой саквояж, мои книги и справочники. Приехали, скрутили, привезли! А дальше что, я вас спрашиваю?
– Будут саквояж и книги, – с готовностью ответила Анфиса. – Сейчас в город пошлю, привезут.
Врачебный саквояж Василия Кузьмича давно был пуст и погрызен мышами.
– Привезут они! Как у вас все быстро получается, матушка! Бумагу мне, чернила и ручку! Где мои очки? Хорошо, хоть очки догадались прихватить.
Получив искомое, Василий Кузьмич сел писать письмо молодому коллеге. Бормотал:
– Любезный Михаил Петрович, в силу чрезвычайных обстоятельств… возобновил практику… не откажите по мере возможностей…
Он произносил вслух названия инструментов и препаратов, и, когда закончил, Марфа и Прасковья тряслись от ужаса. Пока доктор объяснял Анфисе Ивановне, кому передать письмо, невестки выскользнули на улицу.
Через некоторое время свекровь нашла их у риги – сидели рядышком, обхватив руками животы, и плакали навзрыд.
– Вы чего это?
– Так он… – тряслась Марфа, – резать нас будет… а потом иголками за-за-зашивать…
– И шипцами, – хлюпала Прасковья, – шипцами деток вытягивать ста-а-анет…
– Тьфу ты, дуры чертовы, прости господи! Мозги вам давно отрезаны, чужих не пришьешь. А шипцами я вам сама головы поотвинчиваю, если заслужите. Умолкните, окаянные!
Но Марфа и Прасковья продолжали безутешно рыдать. Пришлось Анфисе сменить тактику:
– Да нешто я дам своих невесток по живому резать или поиначе калечить? Вы ж меня знаете.
– Правда? – вскинулась Марфа.
– Матушка? – с надеждой воскликнула Прасковья.
– А чего ж он тогда за инструментами, нитками да иголками, скальпелями-ножами посылает? – осмелилась спросить Марфа.
– И за шипцами? – пискнула Прасковья. Щипцы напугали ее более всего.
– Зачем он тут?
– Я дохторов боюсь!
– Зачем – не вашего ума дело, – отрезала Анфиса. – На всякий случай. Может, и не для вас дохтора привезли, вы – попутно. Вам мои планы неизвестные. Ваше дело – доходить до родов спокойно, а не устраивать мне концертов симпанических.
Это она из разговоров мужа и доктора слышала про концерты, в которых много-много музыкантов одновременно играют.
Через некоторое время слова свекрови отчасти подтвердились – к ним стали приходить всякие хворые и болящие. Марфа и Прасковья успокоились, перестали доктора пугаться. Что же касается планов свекрови, то невестки никогда и не пытались постичь их мудрость.
Однако вначале Василий Кузьмич получил «научное» подкрепление.
От городского врача Аким привез скромный сверток – не мог Михаил Петрович многое предоставить коллеге. И вдруг Аким вытаскивает из телеги большой деревянный ящик, в котором, укутанные соломой, покоились баночки-скляночки, пузырьки, коробочки с порошками. На всех бумажки приклеены и не по-русски написано. Это от барышника, к которому Анфиса велела заглянуть: вдруг у того имеются медицинские предметы.
У барышника на тайных складах по Омску хранилось многое: активно расходуемое, вроде тканей и продуктов, и лежавшее на всякий случай, вроде церковной утвари или этого ящика с медицинской химией. Ценности ее барыга не понимал, а задаром в больницу или в аптеку отдать препараты жадность не позволяла. Лучше пусть стухнет, чем кто-то бесплатно воспользуется. Да вот и сгодилось – зачем-то Анфисе Ивановне понадобилось. Она читала записку от барышника и ухмылялась – дорого запросил, варнак. За что – сам не знает, но не продешевил, ой как не продешевил. Отношение Анфисы к партнеру по тайной торговле было двояким. Она его уважала, как уважала всякого делового человека, который не пронесет куска мимо рта. Но и брезговала: барышник вел себя как ненасытный паук-кровопивец, раскинувший большую сеть и сосавший кровь по капле и литрами, с малого и с великого, с мошки и с таракана. Его неутомимая голодная жадность была неблагородна и бесчестна.
Анфиса хотела отослать ящик обратно, мол, спасибо, мне не то надобилось, а за беспокойство вот вам пшена и солонины (это уж отчасти с издевательством). Но тут увидела реакцию Василия Кузьмича на содержимое ящика. Дохтор хватал пузырьки и коробочки, читал названия, благодарил Бога и нечистого, даже трясся от возбуждения. Если бы перед ним был сундук с золотом и камнями драгоценными, Василий Кузьмич вряд ли так восхищался бы.
– Что это?.. Ах!.. А это? Матерь Божья! Что тут?.. Немыслимо, черт забери! Откуда? Анфиса Ивановна, откуда такое богатство?! – восклицал он, потрясая какими-то склянками.
– Дык вы просили, – пожала плечами Анфиса.
Ей не нравилось, что к ним во двор стал шастать народ. В селе и в окрестных деревнях много больных. Прослышав, что настоящий дохтор поселился у Анфисы Турки, которая и сама врачевательница, а значит, дохтор особенно ценный, хворые всех мастей потянулись к их воротам. Бывало, на лавочке сидели по несколько человек, очереди дожидались.
Отпустить дохтора наносить визиты Анфиса не могла, ведь его в благодарность обязательно напоят, но и видеть у себя в доме ледащих да немощных, баб с младенцами и скрюченных стариков она не желала. Василию Кузьмичу предоставили чистый сарай, прежде используемый для хранения шерсти. Еремей прорубил большое окно, чтобы хватало свету, сделал лежак и полки для инструментов и препаратов, работники принесли стол и стулья. Василий Кузьмич называл свой кабинет «амбулатория». Остальные со свойственной сибирякам привычкой подправлять русские слова (амбар – анбар, общество – обчество, доктор – дохтор) именовали бывший сарай «анбулаторией».
В качестве заменителя спирта Василий Кузьмич использовал крепчайший Анфисин самогон. Чтобы доктор не позарился на спиртное, она добавляла в самогон настой из копытень-травы, коры и листьев красной бузины. Этот настой был чудовищно горьким, несколько капель, добавленных в чашку воды, служили рвотным средством при отравлениях. Пить «лечебный» самогон с копытнем и бузиной не отважился бы никто, даже Василий Кузьмич. Он делал вид, что не замечает подобных ухищрений Анфисы Ивановны. Его бунты становились все реже и никогда не приводили к победе, поэтому лишний раз затевать ссору с кормилицей Салтычихой смысла не имело, тем более что он нашел другой источник алкоголя.
Возникла было проблема с платой за лечение. Гордый сибиряк скорее умрет, если нечем платить доктору, но Христа ради не потащится о помощи просить. Небогатые дары получал Василий Кузьмич – десяток яиц, синюшный маленький петушок ощипанный, крынка меда, плошка масла, мешочек кедровых орехов… Но ведь последнее приносили, своим детишкам питание урезали. Кто продуктами не мог расплатиться, отдавал носимые вещи – вареги и голицы (вязаные и кожаные рукавицы), бокари (мягкие сапоги из оленьих шкур), шали, полотенца, постельное белье. Василию Кузьмичу подобный «гонорар» был не нужен. Анфисе Ивановне гордость не позволяла присваивать его заработки: дохтор не мерин, которого она в аренду сдает.
Выход нашел Еремей:
– Пусть Степан докторский гонорар, – (он любил новые слова), – отвозит в свои бедняцкие артели, даром что урожай собрали, у них ветер по анбарам гуляет, еще те крестьяне.
Так и повелось. Анфиса периодически большаку говорила:
– Степка! Хонорару набралось – некуда складывать. Отвези своей голытьбе.
Степана поразило великодушие матери. Прижимистая, зернышка мимо ее взгляда не упадет, а тут вдруг тещиной семье значительно помогла, чужим неизвестным беднякам продукты и вещи отсылает. Он решился заговорить с ней об этих удивительных превращениях сознания.
– Мать, в тебе проснулось классовое понятие? Я очень душевно рад.
Анфиса посмотрела на него с презрением:
– Ты еще погыгыкай, как Петька. Рад он! Отчего это я проснулась? Когда это я спала?
– Но ты же добрые дела… бедным помогаешь…
– Эх, Степа! Нет в твоем уме продолжения. В точь как у отца, хоть и по другой части. Иные копеечные добрые дела такую коммерческую ценность имеют, что за миллионы не купишь.
Если разбить жизнь Степана от детства до зрелости на периоды, то в каждом из них мать его поражала, как отрицательно – жестоким кулацким самодурством, так и положительно, верно предчувствуя дальнейшие события. Но покоряться ее воле он не желал. Мать его в фарш смелет и вылепит, что ей требуется. Не на того напала… Правильнее сказать – не того родила.
– Я думал, а ты… Мироедка, кулачиха! – смотрел на нее большак с ненавистью.
Анфису эта ненависть ранила, но со стойким упорством почти каждый день она же эту ненависть возбуждала в сыне. Зачем? Анфиса не могла бы ответить. Так чувствовала, не теряла надежды увидеть в сыне продолжателя своего дела. Мать воспитывает сына до гробовой доски, да и после память о ней тоже воспитывает.
– Обзывай мать! – разорялась Анфиса. – Вот чему тебя Карла Маркса и жид проклятый научили! Тебе чужие голопузые беспорштанники дороже родительского гнезда! У тебя жена полудохлая сегодня-завтра заморышей родит, которые и недели не проживут! А ты давай! Социализму в Сибири устанавливай, чтоб пролетарии всех стран соединились. Мало нам своей нищеты, зови чужестранную!
В агитлистовках, которые Степан приносил в дом, было написано: «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!»
Анфиса не давала сыну слова вставить, ему досталось и за марксистско-ленинское учение, и за мировую революцию, и за то, что он, большак, в семейном хозяйстве хуже инвалида-нахлебника.
Степана трясло: покраснел, ноздри раздулись, губы дрожали. Он с размаху ударил кулаком по столу с такой силой, что иконы в красном углу зашатались.
– Молчать! – заорал Степан.
Он поймал себя на том, что походит сейчас на казацкого есаула, которого в свое время в их отряд взял Вадим Моисеевич для обучения новобранцев. Когда-то у есаула, возможно, имелись и терпение, и такт, и понимание, но на момент подневольной службы в отряде красных все закончилось. Есаул не переносил неправильно выполненных упражнений и все время орал: «Молчать! Делать, как я сказал! Молчать!» – хотя его никто ни о чем не спрашивал.
Анфиса сложила руки на груди и уставилась на сына с известной улыбочкой.
– Ты… ты… – заикался от гнева Степан, пытаясь вычленить из материнских обвинений главное. – Ты почему про мою жену? Какая полудохлая? Почему мои дети не жильцы?
– А почему здесь дохтор? Задумывался?
Не дожидаясь ответа, Анфиса развернулась и вышла из дома. Последнее слово всегда должно было оставаться за ней.
На лавке около крыльца сидел Еремей, что-то вырезал из чурбака. Он все слышал, но, как водится, не вмешивался.
Поднял голову и спросил с усмешкой, как только он умел – вроде и по делу, но как будто сам к этому делу причастности не желает:
– Нашла с кем гордостью меряться, Турка. Уж воистину: тебе диавол чванством кафтан подстегал. – Подхватил чурбачок, инструменты и, не дав Анфисе слова возразить, пошел прочь.
Анфиса покрутила головой – надо на ком-то отыграться. Невестки пока временно объект неподходящий, дочка куда-то убежала, дохтора не тронь, он от любых переживаний за рюмку хватается.
– Аким! Федот! – завопила Анфиса.
И всыпала им по первое число за нечищеный скотный двор, за не вывезенный на огороды навоз, за прореху в заборе… В большом хозяйстве всегда найдутся недоделки.
Аким и Федот боготворили хозяйку, ценили ее гнев и милость. Гнев, пожалуй, даже больше. Потому что Анфиса Ивановна гневалась исключительно на своих, родных. С чужими и посторонними она была равнодушно-сдержанной.
У Василия Кузьмича появилась неожиданная помощница – Нюраня. Пятнадцатилетняя девочка не боялась крови, не брезговала вскрывать и чистить гнойники. У нее были легкие умные руки, и скоро Нюраня научилась делать перевязки так же ловко, как доктор. Анфиса занятиям дочери не противилась – лучше, чем по улицам гонять, да и всякой бабе медицинские навыки только на пользу. Но когда доктор как-то назвал ее дочку «моя ассистентка», Анфиса возмутилась. В отличие от мужа, она не любила новых слов, подозревая в них замаскированные ругательства. И только те слова, которые брал на вооружение Еремей, объясняя ей смысл, она принимала, допускала к звучанию в доме. Анфиса опасалась, что к Нюране приклеится и пойдет гулять по селу неблагозвучное прозвище Ассистентка.
– Санитарка вам тоже не понравится? – спросил Василий Кузьмич. – Я на чины не жадничаю, пусть будет сестрой милосердия.
Доктор пребывал в добром расположении духа: под хмельком, но не пьян предсонно. Обычно в таком состоянии он говорил Анфисе Ивановне комплименты – интересничал. А через несколько минут, если накатывало жгучее желание добавить, мог наорать на хозяйку, обозвать ее Салтычихой или царицей Савской.
– Я и свидетельство выпишу. – Доктор взял бумажку, окунул перьевую ручку в чернильницу. – Справку? Как у них теперь называется? Мандат?
– Не, – сказала Нюраня. – Мандат – это когда реквизируют. К нам один раз приехал конный дядька, показал мандат, а там написано: «Выдан Игнатову Петру с правом реквизировать разную собственность». Так мама схватила оглоблю и закричала на Игнатова: «Я тебе намандачу! Я тебе так намандачу, что забудешь, как к бабам подходить!» И прогнала его со двора.
– Тогда справка, – сказал Василий Кузьмич и вывел это слово в середине строчки. Далее он писал, бормоча себе под нос: – Выдана Анне Еремеевне Медведевой в том, что она трудилась на должности сестры милосердия в Погореловской амбулатории Омской губернии в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Подпись: врач… А почему так скромно? Главный врач! Вэ Ка Привалов. Эх, печати не хватает!
– Печать мне тятя сделает. – Нюраня взяла «справку», подула на нее, чтобы высохли чернила, и поскакала к отцу просить печать вырезать.
Ерема ни в чем не мог отказать любимице. Только печать он круглую вырезал с двуглавым орлом в центре, а Степа, посмеявшись, сказал, что теперь в печатях вместо птицы дохлой серп и молот. Нюраня опять к отцу канючить. Вырезал Еремей и вторую печать. Так два отпечатка и красовались на шутейной справке.
Никто и предположить не мог, что этот документ сыграет в судьбе Нюрани спасительную роль.
Еремей Николаевич смастерил и откалибровал аптекарские весы, точно отмеряющие миллиграммы химических веществ, и доктор с Нюраней делали лечебные порошки, мази, настои. Для последних был нужен спирт без ядовитой травы, Нюраня тихо подворовывала самогон из кладовой и скрывала от матери, что Василий Кузьмич его «дегустирует в научных целях».
Анбулатория как пиявка присосалась к Анфисиному хозяйству и не закрылась даже после родов невесток, до холодов. Василию Кузьмичу некуда было податься, так и прилип к Медведевскому семейству. По сути, был приживальщиком, хотя таковым себя не считал, так как зарабатывал гонорар врачебной практикой.
Доктору требовались плошки, ступки и другая посуда, бумага, чтобы заворачивать порошки по дозам, тонкая холстина, которую резали на бинты. Врачу и «сестре милосердной» сшили белые халаты, распоров и перекроив солдатское белье. Анфиса хотя и ворчала, хотя и считала каждый аршин холста, хотя и попрекала каждым листом бумаги, вырванной из никому не нужной книги, но на докторский «хонорар» по-прежнему не зарилась. А если кто-нибудь принимался хвалить ее за бескорыстие, Анфиса злилась. Подобные похвалы были для нее равносильны обвинению в хозяйственной расточительности. Прибавилось стирки – Василий Кузьмич требовал каждый день свежих простыней, халаты тоже обязаны быть без пятнышка. Анфиса помнила, что при первом знакомстве халат доктора не показался ей снежно-белым, а тут он волю взял, придирался, по три раза на день заставлял кипятить шприцы и иголки. С другой стороны, Анфиса всегда сама была чистоткой каких поискать, а Василий Кузьмич подводил под санитарные правила научную основу, рассказывал о микробах, которые переносят заразу.
Для Еремея доктор стал интересным собеседником, и в глазах мужа Анфиса уже не часто видела выражение скуки и тоски, которое она легко прочитывала как желание все бросить и отправиться туда, где не придется надрываться постылым крестьянским трудом. Еще один плюс от присутствия Василия Кузьмича.
Нюране, чтобы превратиться во взрослую девушку, оставалось чуть-чуть – годик-полтора. Она была высокой, длинноногой и длиннорукой, уже не угловатой по-детски, но еще не плавной по-девичьи. Нюраня походила на олененка или на телочку-подростка, с тонкими конечностями, на которых бугрились суставы, а косточки еще не обросли мышцами и жирком. Волосы у Нюрани были густыми и крепкими, как у всех Турок, не смоляно-черные, как у матери, а в рыжину, на солнце они играли медным переливом. Цветом кожи девочка пошла в отца – не смугла, белолица. По носу и щекам россыпь точечных рябинок-конопушек. Нюраня была красивее матери, но Анфиса в возрасте дочери была уже статной, с гордостью во взоре, со значительностью в повадках, что действовало на людей завораживающе, подчиняло их. А тот, кому ты подчиняешься, всегда кажется исключительным. У хорошенькой Нюрани значительность отсутствовала напрочь. Она была суетлива и вертлява: носом крутит, глазами стреляет, губами играет, руками машет, на месте притопывает – какая уж тут красота у девки, за которой не уследишь. Правда, в анбулатории Нюраня вела себя смирно, пытливо и сосредоточенно постигала медицинские приемы. Через месяц Василий Кузьмич стал поручать ей инъекции, в том числе и внутривенные диффузии. У него самого часто так дрожали руки, что попасть в вену не мог. Скинув же халат, Нюраня пулей неслась на улицу. В играх со сверстниками, в салках и казаках-разбойниках никто, даже мальчишки постарше, не могли ее догнать, Нюраня мчалась по дорогам и тропинкам, по жнивью, по кручам и оврагам, точно молодой бегунец-чемпион.
Как отец и брат Степан, она тянулась к необычным, талантливым людям, к тем, кто многое повидал и может об этом рассказать, кто, вроде Туси, знает множество былин, быличек, сказок, стихов, чей внутренний поэтический мир наполнен романтическими героями. Люди простые, правильные, обыденные казались ей похожими на заведенные часы – тикают изо дня в день одно и то же «тик-тик», скукота.
– Эта шальная девка, – говорила Анфиса мужу, – выскочит за первого встречного варнака, который задурит ей голову баснями.
Еремей пожимал плечами: мол, что волноваться раньше времени, да и как жизнь сложится, никто не знает.
– Пусть только попробует, – продолжала Анфиса. – Я ей косу на шею накручу и к потолку подвешу. Будет висеть, пока я нужного супруга не подберу.
– Сама-то ты долго висела? – усмехнулся Еремей.
– А ты меня не сравнивай! Я несравненная.
– Ну-ну, главное, что скромная.
До появления в семье Василия Кузьмича Нюраня не знала, в чем ее собственная талантливость и необычность. Она помнила много стихов, сама сочиняла сказки и рассказывала их подружкам, хорошо рисовала, почти как отец, у нее была прекрасная, как у Петра, математическая память. Степан привозил ей книжки, и Нюраня их послушно читала. Но книжный мир ее не очаровывал, он был сух и слишком отвлечен. Чтобы увлечься, зажечься, ей требовался живой человек – его голос, жесты, мимика.
Она навсегда запомнила вечер, когда вдруг открыла себя, когда сердце затрепетало: «Мое! Этого хочу всей душой!» Точно что-то проснулось в ней, родилось и забурлило с возбуждающей радостью.
Отец и Василий Кузьмич спорили о красоте. Папа говорил, что красота встречается только в природе, в окружающем мире или, редко, бывает сделана человеческими руками.
Василий Кузьмич не соглашался:
– Помилуйте, сударь! Человек – вот истинный венец творения! Человеческое тело прекрасно! Вспомните греческие и римские скульптуры, живопись Возрождения. Они гениальны!
– Так я и не отрицаю, что создать руками возможно.
– А человеческий организм? Он уникален!
– Видел я его, вспоротый организм. Мало от свиньи отличается.
– Ах, боюсь, я не смогу вам объяснить красоты анатомии и ее связи с физиологией! Но, любезный Еремей Николаевич! Возьмите человеческий мозг. Он непостижим! Помяните мое слово, еще не одно столетие люди будут биться над величайшими загадками мозга. Почему один человек музыкально одарен, а другой туг на ухо? Один буен и невоздержан, а другой смирен как овца. Один учится легко, играючи, а другой на пальцах считает. В чем отличие их мозга? Моего, вашего, Нюраниного, Петра, милейшей Анфисы Ивановны? Природа спрятала мозг за крепкими костями черепа. – Василий Кузьмич постучал себя по лбу. – Сердце и легкие – за решеткой ребер, – он приложил ладонь к груди, – а мозг, самое ценное, упрятала в крепость. Мозг плавает в специальной жидкости, как ребенок в утробе матери. Мы знаем до обидного мало. При травмах той или иной части головы или при внутренних кровоизлияних наступают те или иные нарушения – зрительные, слуховые, пропадает речь, нарушается координация, а бывает и вовсе: вчера здоровый человек превращается в тихо помешанного. Значит, там, в мозге, находится участок, отвечающий за определенные функции. Но как он работает? Мозг – это командир, высшая власть, бог, если хотите. И в его обитель мы еще не допущены даже на порог. Топчемся за воротами, шаркаем по траве, грязь с сапог пытаемся очистить. А вы говорите – цветочки-листочки!
– Я говорю про красоту, – напомнил Еремей.
– Да вы, батенька, поборник чистой красоты? Было такое направление в философии… забыл, как называется. Не важно. Оно ошибочно! Красота всегда функциональна! И ваши листочки-цветочки функциональны. Я говорю сейчас не о природной жизни растений. Именно об эстетической стороне. Вы смотрите на цветочек и восхищаетесь его внешней красотой. Ваш мозг доволен, ему приятно. Зачем, скажите на милость, вы выстроили такой чудо-дом? Почему, по большому счету, человек вообще выбрался из пещеры, из землянки, из хижины? Ведь в них тоже можно жить и не чесаться. Нет! В человеке заложена функция красоты, удовлетворяемая через творения рук. Но и сам человек красив, потому что функционален в высшей степени. Возьмите… Вот, – схватил Василий Кузьмич руку Нюрани. – Человеческая кисть. Величайшее творение! Верьте мне, никогда не будут созданы механизмы и машины, способные заменить кисть человека. И дело тут не только в том, что машина не способна рисовать, как Леонардо, или играть на рояле, как Бетховен, или вырезать деревянные кружева, как вы.
– Благодарствуйте, что в столь почетную компанию меня записали, – улыбнулся польщённый Еремей.
Василий Кузьмич его не слушал, горячо продолжал:
– В кисти тридцать косточек! Вот тут, – тыкал он пальцем в Нюранину ладонь и гнул ее пальцы, – ладьевидная, полулунная, трехгранная, гороховидная, трапециевидная, головчатая, крючковидная, далее пять трубчатых костей, следом кости пальцев – проксимальная, средняя и дистальная фаланги. Все они работают благодаря тридцати трем мышцам. Тридцати трем! Плюс фантастическое переплетение сухожилий. Оперировать кисть чрезвычайно трудно. Сухожилие… это как каучуковая лента. Не сшил его в первые часы после травмы – пиши пропало, сухожилие убежало. Сломалась косточка, ты зафиксировал отломки, но маленький сустав без движения застывает, и палец скорее всего будет торчать как перст указующий, не гнуться.
Отец и Нюраня кивнули: они много видели людей с калечеными кистями, ведь крестьяне работали с острыми инструментами и часто резались.
– Кисть, – говорил Василий Кузьмич, – в ходе эволюции превратилась не просто в орудие труда. Она орган осязания. – Он приложил Нюранину ладонь сначала к теплому боку самовара, потом к столу, повозил из стороны в сторону. – Горячо, холодно, гладко, шершаво. И наконец, это средство общения, – скрутил из Нюраниных пальцев фигу и показал отцу. Выдохся, отпустил ее руку и плюхнулся на скамейку.
– А какой палец самый главный? – спросила Нюраня.
– Хороший вопрос, – похвалил Василий Кузьмич. – Нуте-с, Еремей Николаевич, какой из пальцев важнейший?
– Большой, наверное. Без него ухвата нет.
– Верно. В древности пленным воинам отрубали большой палец, чтобы они более не могли держать оружие и участвовать в сражениях.
Отец и доктор продолжили спорить о красоте, но Нюраня их больше не слушала. Она рассматривала свои руки – такие привычные и, оказывается, удивительные. Запускала пальцы под волосы и давила на кость, точно хотела проверить ее крепость или расковырять до мозга.
Тело человека – удивительное творение, в этом она была всей душой согласна с доктором. И более всего ей, Нюране, хочется постичь это творение, исправлять травмы и болезни – лечить. Хочется до спазма в горле и сладкого томления в груди.
Василий Кузьмич привязался к своей ученице. Он не смог бы определить своих чувств к девочке: было ли это умиление, которое он испытывал бы, имей дочь или внучку, трогала ли его расцветающая женственность Нюрани, веселили игривость, резвость и вытаращенные глаза, когда она со смесью внимания и трудно сдерживаемого восторга внимала докторской науке. Одно было бесспорно: в сибирской глухомани он встретил сокровище – милую девочку с задатками истинного врача. Василий Кузьмич перевидал на своем веку немало эскулапов. Большинство – ремесленники-середнячки, без полета и откровения, малая часть – те, кого к пациентам на пушечный выстрел подпускать нельзя, и такая же малая – лекари от Бога. В Нюране он предвидел врачевателя от Бога, а себя беспристрастно относил к ремесленникам.
– Тебе бы учиться, – говорил Василий Кузьмич девочке, «дегустируя» разбавленный водой самогон.
– А где на докторов учат? И женщин берут?
– Конечно. Мой учитель Дмитрий Оскарович Отт, между прочим лейб-акушер Императорского двора, был директором Повивального института, открытого еще императрицей Марией Федоровной, супругой Павла Первого. Дмитрий Оскарович добился для выпускниц равных прав с мужчинами-врачами.
– Мать не отпустит.
– В Омске на базе ветеринарного техникума открыли медицинский институт…
– Только если с братом Степаном поговорить, он добрый и за прогресс народов.
– Уж не знаю, чему там ветеринары научат.
– Но для мамы и Степа не указ.
– Без сомнения. Ты лучше не заикайся об этом, а то запретит в амбулаторию ходить. Кроме того, для поступления в институт требуется знать физику и химию, естественные науки, а ты о них не имеешь ни малейшего понятия.
– А где они наберут имеющих про науки понятия? – разумно спросила Нюраня.
Потом она у Степана выяснила: при институте имеется подготовительное отделение для «беспонятных». Кто его закончит и хорошо экзамены сдаст, поступает в студенты.
Так у Нюрани появилась мечта, настолько смелая, что от робости дух перехватывало. Ничего, за три года, которыми еще нужно взрослеть, Нюраня как-нибудь с робостью справится, и с мамой тоже.
Роды
Прасковья переносила беременность тяжело, а родила легко. В обед начались схватки, быстро отошли воды, и через три часа на свет появились два мальчика. Бабка Минева, которую Анфиса пригласила на всякий случай и которую Василий Кузьмич назвал народной акушеркой, обмывала детишек и пеленала. С ее точки зрения и к удивлению доктора, Анфиса проявляла странное равнодушие к родившимся внукам, пеклась о невестке: полностью ли отошло детское место, нет ли признаков кровотечения.
– Анфиса, да глянь ты на молодцов! – позвала Минева. – На руки возьми.
– Чего на них глядеть? – буркнула Анфиса.
Но все-таки подошла. Два запеленатых столбика, два красных сморщенных личика. Анфиса набрала в грудь воздуха для горестного вздоха и застыла, не дыша, таращась на младенцев. Потом осторожно положила на их тельца ладони.
Ни слова не говоря, на ватных, непослушных ногах Анфиса вышла из комнаты, молча прошла по горнице и скрылась в спальне. Ерема бросился за ней. Как и Марфа с Нюраней, он отлично слышал детский плач, но у жены было такое лицо…
Анфиса сидела на кровати, руки безвольно висели, глаза смотрели в одну точку на противоположной стене. И самое поразительное – из глаз жены градом катились слезы, текли по щекам, капали на грудь… Анфиса и слезы – это небывальщина. Она не плакала ни в горе, ни в радости. Еремей подозревал, что у его суровой жены вовсе отсутствует орган, производящий слезную влагу. Хотя рассказывали, что, не отпуская Степку на войну, Анфиса рыдала – стены тряслись, лицо себе оскребала, до сих пор шрамики видны. «Бывают слезы редки, да едки», – вспомнил пословицу Ерема, но вслух не произнес.
– Фиса, что? – спросил он. – Еще живы вроде, но скоро преставятся?
Анфиса была твердо убеждена, что Прасковьины дети не жильцы, и мужу это внушила. Она заранее вычеркнула первых внуков из семейного списка, и поэтому ее расстройство было странно Еремею. Еще несколько дней назад Анфису даже не волновало, успеют ли они окрестить детей, или те умрут некрещеными.
Она механически, будто кукла, перевела взгляд на мужа, не двигая глазами, а повернув голову. Как ни был испуган Еремей, он отметил, что никогда не видел жену столь прекрасной. Большие черные глаза, распахнутые, молодые, омытые слезами. Пухлые яркие дрожащие губы. Выражение беспомощности, к которому ее лицо было непривычно, казалось особенно трогательным, как и слезы, которые все катились и катились, точно где-то внутри Анфисы был спрятан крепко запечатанный сосуд, а теперь его прорвало и хлынувшая течь неостановима.
– Ерема! – прошептала Анфиса и протянула к нему руки.
Он бросился вперед, оступился и упал на колени, не поднимаясь, обнял жену крепко. Теперь она заревела в голос, навзрыд, икая, выкрикивая нечленораздельные слоги. Ерема тоже заплакал, сам не понимая почему.
– Еремушка, родной мой, – постепенно Анфиса уняла заикание, – внуки наши… Степины детки… они жить будут… они не помрут, я чувствую, я знаю… Радость какая непереносимая! Счастье в сердце не помещается…
– Ну что, что ты? – гладил Ерема жену по спине, терся о ее плечо лицом, промокая слезы. – Все ведь хорошо.
– Очень хорошо! Наврала мышь проклятая, напраслину каркала.
– Ты о чем, Фисонька, какая мышь каркает?
– Да это я так… Не буду сейчас об этом… Ой, Ерема, ты чего? – плакала и улыбалась Анфиса. – Ты чего, дедушка, удумал?
Муж расстегивал ей блузку на груди.
Жалость к женщине всегда возбуждала его. А сейчас жалость смешивалась с ликованием, с восхищением женой, которая открылась ему обликом неожиданным и прекрасным.
– Крокодилица? – не без лукавства спросила Анфиса, откидываясь на кровать и принимая тяжесть мужниного тела.
– Нет, – пробормотал Еремей и без обычной издевки, ласково-страстно добавил: – Королевна!
Их слезы смешались, и тела сплелись.
Радость и счастье – негаданные, противоположные ожидаемым событиям и потому еще более острые и сильные, слезы восторга – все это смело в Анфисе напластования внутренних запретов и железных правил, никогда, впрочем, и не ощущавшихся ею как насильственное подчинение чужой воле, чужой морали. Правила и ограничения Анфиса сама себе установила. Но от этого они не становились легче или необязательнее. Теперь же ее чувства оголились, точно ветки и веточки от коры очистили и стали они нежно-бело-зелеными, против старых – корябаных, сухих, коричневых.
Впервые в жизни Анфиса чутко откликалась и телом, и дыханием, и стуком сердца на ласки мужа. Необычность ощущений была настолько поразительной, что Анфисе казалось, будто она – уже не она, а какая-то другая женщина, влезшая в ее тело и получающая неземное удовольствие. В финальном толчке их голоса слились – победно-освободительный стон Еремы и протяжный неукротимый вой Анфисы.
Марфа и Нюраня сидели в горнице. Они видели, как сама не своя скрылась в родительской спальне мать, как бросился за ней отец. Им казалось, что слышны рыдания Анфисы. Но ведь она никогда не льет слез! Да и детишки в соседней комнате плакали хоть и тоненько, но дружно и требовательно. Значит, живы-здоровы.
– Может, с Парасенькой что? – прошептала Марфа. – Отходит?
– Типун тебе на язык! Василий Кузьмич шприцы бы потребовал для инъекций, случись что.
– Или шипцы…
– Марфа, какие шипцы, когда дети уже родились?
И тут из родительской спальни донесся стон-вой. Марфа и Нюраня испуганно схватились за руки.
– Надо Василия Кузьмича кли-кликнуть, – проклацала зубами Нюраня.
Точно подслушав, он сам вышел в горницу.
– Где Анфиса Ивановна? – Доктор привык к тому, что все в доме решает хозяйка и без ее приказа никто шагу ступить не смеет.
– Они там… такое, – дернула головой в сторону родительской спальни Нюраня и тут же заткнулась, потому что Марфа больно двинула ей локтем в бок – молчи!
Марфа хорошо помнила этот стон свекра.
– Черт знает что! – недовольно проворчал Василий Кузьмич. – Все куда-то подевались. Марфа! Ты чего таращишься, как бешеная рыба?
– Детки? И Парасенька?
– Все в порядке. Вот что, Марфа, налей-ка мне из графинчика, что в буфете.
– Дык ключи у Анфисы Ивановны…
– Дык-дык! – передразнил доктор. – У тебя речь из одних междометий состоит.
– Извините!
– Василий Кузьмич, а мальчики хорошенькие? – встряла Нюраня, уже забывшая про странные звуки из родительской комнаты.
– Откуда ты знаешь, что мальчики? Под дверью подслушивала? – погрозил он пальцем.
– Можно на них взглянуть, хоть чуточку-секундочку?
– А ты не сглазливая? – притворно нахмурился доктор.
– Нет, – ответила за нее Марфа.
– Вы же в сглаз не верите! – Нюраня вихрем пронеслась мимо него.
Следом, тяжело переваливаясь, поспешила Марфа.






