Россия молодая Герман Юрий
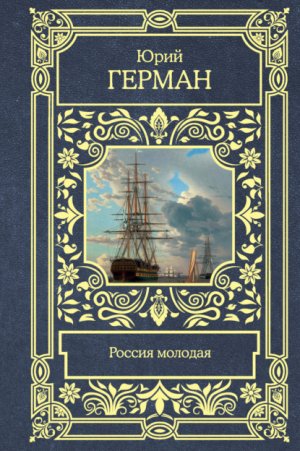
— Слишком долго? Напомните его величеству нашему королю, граф, что я много лет ведал нашими агентами в Московии и знаю о ней больше, чем… — он запнулся, — чем многие другие. Я хочу сбить людей с толку. Пусть они думают, что мы действительно идем промышлять китов…
— Ни один мальчишка в королевстве не поверил этой сказке! — улыбаясь ответил Пипер. — И вы напрасно спорите, мой друг! Его величество государь наш король весьма резко выразился насчет продолжительности сборов экспедиции…
— Как — резко?
— Мне бы не хотелось вас огорчать, мой друг…
— Но я должен знать мнение моего короля обо мне, граф!
Пипер вздохнул:
— Как вам будет угодно: его величество государь выразился в том смысле, что такой старый и упрямый осел, как вы…
— Старый и упрямый осел?
— Да, гере шаутбенахт. И еще его величество государь наш король изволили сказать, что даже пираты к старости делаются слишком осторожными…
— Это все?
— Да… — неуверенно сказал Пипер. — Впрочем, еще было сказано насчет того, что вас можно заменить…
Шаутбенахт молчал. Пипер налил ему вина. Он отодвинул от себя кубок и произнес, сдерживая бешенство:
— Хорошо, граф, я снимусь с якоря сегодня же.
— Если все подготовлено, то вам действительно следует сниматься немедленно. Говорю вам об этом как ваш искренний друг. Его величество убежден в успехе экспедиции, тем более, что на кораблях негоциантов в Архангельске есть ваши люди, не так ли?
Юленшерна сказал, что действительно есть.
Проводив графа Пипера, ярл шаутбенахт кликнул цирюльника и велел поставить себе пиявки, дабы очистить жилы от дурной крови. Потом, отдохнув и выпив вина с водой, он приказал поднимать сигнал: «Эскадре иметь полную готовность к походу!»
— Но вы дурно выглядите! — воскликнула фру Юленшерна.
— Для своих лет я выгляжу отлично! — возразил шаутбенахт.
После сигнала «Командам пить королевскую чарку и обедать» взвился флаг, означающий: «Внимание». И сразу же шаутбенахт велел передать эскадре: «С якорей сниматься, следовать за мной!»
От берега отвалили гребные суда — выводить корабли из порта.
— Начинайте! — велел шаутбенахт.
Босые матросы пошли по палубе, налегли на вымбовки, начальный боцман с плетью побежал возле матросов. Шаутбенахт приказал идти бейдевинд левым галсом. Корабль медленно разворачивался. Ветер наполнил фор-марсель, заиграл в грот-марселе и в крюйселе. Капеллан эскадры набожно произнес за плечом ярла Юленшерны:
— Да покровительствует нам святая Бригитта!
— Аминь! — отозвался шаутбенахт.
На шканцах барабанщики били на семи барабанах: «Поход во славу короля!»
— Вот тебе и киты! — сказал матрос по кличке «Швабра» другому матросу, длинному и сердитому Кристоферу. — Слышишь, что бьют барабанщики?
— А мне наплевать, что бы они ни били! — ответил Кристофер.
— Они бьют «Поход во славу короля», — сказал Швабра, засовывая за щеку кусок жевательного табаку. — Мы идем в Московию.
— Московиты богаты! — сказал Кристофер. — Пора и нам немного погреть руки.
Полковник Джеймс и фру Юленшерна стояли на полуюте. Джеймс, в парике, в треуголке, с мушкой у рта, кутался в черный суконный плащ, говорил галантно:
— Буду счастлив, фру Маргрет, если в городе Архангельске найду хоть что-либо, что вызовет улыбку столь прекрасных губ…
— А разве мы все-таки идем в Архангельск? — насмешливо спросила Маргрет.
— Мы, фру, идем убивать китов…
Матросы на баке мерными голосами пели старую, страшную пиратскую песню:
- Руки не мыть и пить, фифаллерала,
- Поскорее пить, потому что отмыть нельзя…
- Фифаллерала-лерала,
- Нам кровь не отмыть…
— Я, кажется, знаю эту песню, — сказала фру Юленшерна. — Несомненно знаю. Я только не слышала раньше ее слов.
— Очень грубая песня! — заметил Джеймс. — Вам, пожалуй, не стоит ее и знать, фру Юленшерна…
Она топнула ногой:
— Молчите!
- Принимай-ка, ведьма, гостей!
- Таверна нас не ждала и трактирщица тоже,
- Налей же, старуха, налей!
- Ты не знаешь чего?
- Не того, что мы проливаем, а еще покрасней!
- Налей!
- Фифаллерала-лерала!
- Ла-ла!..
— Теперь я поняла! — сказала фру Юленшерна. — Эту песню свистит мой супруг. Да, да, когда он в духе, он непременно насвистывает эту песню. Так протяжно, словно ветер завывает в море…
7. В городе Копенгагене
К заходу солнца в субботу эскадра шаутбенахта Юленшерны бросила якоря в Христианхазен — в гавани датской столицы Копенгаген. Матросы и солдаты, столпившись у бортов, с вожделением смотрели на богатый город, живописно раскинувшийся под вечерними солнечными лучами. Рыжий Билль Гартвуд рассказывал:
— Я имел честь участвовать в бомбардировании этого города в тот день, когда соединенная эскадра решила покончить с датчанами. Линейные корабли стояли как раз за тем мысом. Я служил тогда канониром на стопушечном «Хук». Надо было видеть, что тут делалось…
Матросы вздыхали: вот бы здесь погулять! Датчане, небось, притихли после того, как их заставили выйти из союза с Россией и Польшей. Теперь-то они поняли, кто настоящий хозяин их страны.
— И все-таки мы их не добили до конца! — сказал боцман Окке, прозванный «Заячий нос» за то, что всегда шевелил носом, точно принюхиваясь. — Мы их не добили! Пятьдесят лет тому назад мы им здорово всыпали, но тоже не до конца. Шведский флаг над городом — вот что нам нужно. Вы видите городскую ратушу? Вот там и должен быть шведский флаг…
На баке флагмана ударила погонная пушка.
— Старик вызывает капитана над портом! — сказал Сванте Багге — корабельный палач. — Сейчас будет потеха!
Датчанин — капитан над портом, высокий человек в синем кафтане и белых чулках, — на своей шлюпке подвалил с визитом вежливости к борту «Короны». Парадный трап поставлен не был. Матросы видели, как побледнел датский офицер, когда ему предложили подниматься по шторм-трапу на глазах у гогочущей команды. Ни шаутбенахт, ни капитан корабля Уркварт с датчанином не разговаривали. Беседа была поручена всего только главному боцману дель Роблес.
Боцман принял офицера стоя, вопреки правилам учтивости не осведомился о здоровье датского короля и не сказал, зачем пришла эскадра. Датчанин молча кусал губы.
— Ввиду трудности похода ярл шаутбенахт решил спустить часть команды на берег! — сказал дель Роблес. — Надеюсь, город приветливо примет моряков, пришедших под славными флагами флота его величества короля Швеции Карла Двенадцатого, да продлит господь его дни…
Дель Роблес замолчал, ожидая, чтобы датчанин сказал «аминь». Но датчанин не сказал ничего. Он стоял, положив руку на эфес шпаги, гордый, широкоплечий, высокий. Одним ударом кулака он мог бы свалить боцмана с ног.
— Город встретит матросов и солдат его величества как родных братьев? — сказал дель Роблес. — Магистрат не поскупится на угощение, не правда ли?
— Город и магистрат не находятся в родстве с матросами флота его величества Карла Двенадцатого! — ответил капитан над портом. — Что же касается до еды, то датчане издавна никому не отказывали в угощении.
Через несколько минут офицер откланялся, запросив время для подготовки города к встрече «друзей».
— Сколько вам нужно для этого часов? — спросил дель Роблес.
— Не более двух часов начиная с той секунды, когда моя шлюпка подойдет к берегу.
Дель Роблес согласился. Капитан над портом спустился по шторм-трапу в свою шлюпку. Команда проводила его гоготом, свистом и улюлюканьем.
Солнце уже давно зашло, когда на кораблях забили барабаны, извещая матросов и солдат о том, что они могут отлучиться на берег. Люди как горох посыпались в шлюпки. Над заштилевшим морем загремели матросские песни, при свете полной луны шлюпки одна за другой подходили к молчаливому берегу, и здесь веселье сразу сменялось недоуменными возгласами:
— Это что же такое? Кавалерия?
— Да они с мушкетами…
— Какого черта?
На набережной неподвижно стояли всадники с саблями, короткими копьями и мушкетами. Лунный свет блестел на стальных панцырях.
— Зачем ты здесь стоишь? — спросил Бирге Кизиловая нога у неподвижного всадника.
— Проходи своей дорогой! — ответил тот таким голосом, что Бирге больше не захотелось спрашивать.
На мосту Книппельсбру, который соединял город с портом, стояли пешие солдаты, опираясь на пики. Билль Гартвуд попробовал пошутить с одним, но солдат его обругал, и англичанин потерял охоту веселиться.
— Где они набрали столько войск? — спросил Убил друга у Сванте Багге — корабельного профоса. — Всей Дании разрешено иметь шесть тысяч солдат, а здесь не меньше тысячи!
Лейтенант Бремс, обгоняя матросов, услышал вопрос Убил друга и сердито ответил:
— Здесь нет солдат, это горожане. Они хотят, чтобы вы вели себя потише, вот и все. Как это ни грустно, а ничего не поделаешь. Веселья нынче не будет, так я предполагаю. И хорошо бы мне ошибиться!
Город точно вымер. Когда шведские моряки вошли в городские ворота, ни одно окно не светилось. Двери домов были заперты, на тавернах и трактирах висели замки, у закрытых лавок прохаживались караульщики с хрипящими псами на ремнях.
Старший артиллерист «Короны» премьер-лейтенант Пломгрэн спросил всадника, показавшегося ему офицером:
— Что все это значит? Почему столько войск? Разве мы не дружественные державы?
Всадник ответил:
— Проваливай, пока я не задавил тебя моим конем, грязный разбойник!
Пломгрэн схватился за шпагу. Тотчас же из железных ворот, которые до того казались запертыми, выехали еще всадники. Их кони храпели, сдерживаемые удилами, доспехи сверкали при свете катящейся в облаках луны. Пломгрэн со своими офицерами стоял посередине мостовой. Их было всего четверо против многочисленной датской стражи.
— Идите куда вы шли! — сказал всадник. — Идите и разговаривайте между собою. На площади Ратуши вас ждет выпивка и угощение. Идите! Что вам нужно от нас? Дружеской учтивости? Наша память не так коротка, как вам кажется. Мы все помним. И дети наши тоже будут все помнить! Идите, пока здесь не пролилась кровь!..
На площади Ратуши горели смоляные факелы и стояли огромные столы с жареным мясом, овощами в сале и белым хлебом. Сорокаведерные бочки с пивом и десятиведерные с вином были расставлены у фонтана. У дверей ратуши стояли караульщики с алебардами и пистолетами. А вокруг площади неподвижно застыло не менее сотни всадников, часть которых была ярко освещена луною, а часть скрыта в тени.
— Кто же нас будет угощать? — громко крикнул Билль Гартвуд. — Где хозяева пиршества?
— Угощайтесь сами! — звонко ответил всадник, лошадь которого била копытами у дома магистрата. — Угощайтесь сами, и пусть бог отпустит вам ваши грехи!
Офицеры, обидевшись, ушли на корабль. А матросы и солдаты принялись пить и есть. Водка была добрая и еда тоже хорошая — жирная и обильная. Офицеры на полпути раздумали обижаться и вернулись обратно. Еды и питья было вдосталь. Убил друга и Окке Заячий нос, упившись, полезли в бассейн под фонтан купаться. Бирге Кизиловая нога пошел к всадникам — отвести с ними душу.
— Кто ты такой? — спросил он у юноши, дремавшего в седле.
Юноша-датчанин поднял голову, зевнул, ответил спокойно:
— Я кузнец.
— Простой кузнец?
— Да, простой кузнец.
— И у тебя свой конь?
— Нет, это конь моего друга — ломового извозчика.
— А копье? Чье у тебя копье?
— Копье я выковал сам, своим молотом, на своей наковальне.
— Выпей со мной, парень! — попросил Бирге. — Хоть ты и датчанин, но я ничего не имею против тебя.
— Я не стану с тобой пить! — ответил юноша. — Когда придет время мне выпить, я найду друзей. Иди к своим и выпей с ними. Пожелайте друг другу благополучно унести головы оттуда, куда вы собрались!
— А куда мы собрались? — спросил пьяный Бирге.
— Уж это вы знаете!
Бирге ушел покачиваясь. Луна поднималась все выше и выше. Матросы ревели песню:
- Вербовщики его облюбовали
- И в королевский флот завербовали,
- Вербовщики служить его берут,
- И корабли на смерть его везут…
Песня гремела на площади Ратуши. Якоб прислушался — невеселая песня. Он шел переулком. Его никто ни разу не остановил благодаря тому, что был он в красном кафтане, не похожем на синие мундиры моряков и зеленые мундиры солдат. Всадники смотрели на него как на жителя Копенгагена. Один предупредил шутливо:
— Шел бы ты, братец, домой, а то еще попадешься в шведские лапы и стащат с тебя твой щегольской кафтан. А милая подождет до завтра…
Якоб ответил смехом.
На ратуше часы били одиннадцать, когда чугунным молотом он постучал в низкую дубовую дверь русского посольства. Ему отворили не сразу: в двери заскрипело окошечко, чьи-то глаза подозрительно осмотрели Якоба.
— Кого надо?
— Господина Измайлова.
— Господин посол не принимает в эти часы.
— Меня зовут Якоб из Стокгольма. Передайте господину послу, что его спрашивает Якоб из Стокгольма…
Страж ушел ненадолго. Потом низкая дверь отворилась. Слуга с шандалом в руке проводил Якоба в большую холодную залу. На столе горели свечи, проснувшаяся в клетке немецкая канарейка тихо чирикала. Якоб стоял неподвижно. Лицо его пылало, сердце часто билось.
Русский посол Андрей Петрович Измайлов вышел к нему скорым шагом, положил маленькую крепкую руку на плечо, заговорил радостно:
— Жив? Я рад, очень рад! Не чаял живым увидеть… Покажись, каков? Молод еще, думал — ты старше. Действовал разумно — не как юноша, как муж умудренный… Говорил о тебе в Москве государю. Велено сказать тебе спасибо за службу…
— Я не для того! — смущенно сказал Якоб.
— Ведаю, что не для того, однако царское доброе слово поможет в дальнейшем определить направление жизни. Садись!
Якоб сел. Измайлов позвонил в серебряный колокольчик, велел слуге подать ужин, зажечь еще свечей. Теперь Якоб увидел, что Измайлов немолод — более сорока лет, лицо открытое, смуглое, быстрый взгляд, черные стрелками усы над полногубым ртом.
— Что Хилков?
Слуга накрывал стол, внес вино, блюда с едой. Якоб рассказывал. Измайлов внимательно слушал, в глазах его светилось доброе участие. Иногда он сердито кряхтел, иногда ругался. Когда Якоб кончил свою невеселую повесть о Хилкове, Измайлов вздохнул:
— Ах ты, горе какое. Ну как ему помочь? Ведь молод он, совсем молод, а ты вот говоришь: сед стал! Надобно думать, думать, авось, что и придумаем. Далее рассказывай! Впрочем, погоди, вот что скажу: великую службу сослужил ты отечеству своему…
Якоб краснел, но смотрел на посла прямо, хоть и боялся, что слезы выступят на глаза.
— Великую службу. Грамот твоих тарабарских я сам получил более десятка, ключ у тебя к ним добрый, тем ключом грамоты открывал, пересылал на Москву — государю, через Польшу и иными путями. Твои грамоты, что шли от тебя из Стокгольма, все своего места достигли через город Улеаборг. Умирали наши пленные, но свое дело делали. В крови многие грамоты, но доставлены непременно. Слава, великая слава павшим!
Посол помолчал, задумавшись.
— В оковах, страшными муками мучимые, не забывали присягу, крестного целования, верные добрые люди. Имена знаешь ли?
— Нет! — сказал Якоб. — Ни единого имени не ведаю, кроме того, кому палач отрубил голову в замке Грипсхольм.
— Щербатый, слышал. Пытали его?
— Пытали тяжко.
— Тебя знал он — кто ты есть?
— Знал хорошо. Он был первым из русских пленных, которого я увидел. Я о нем рассказал господину Хилкову, которому уже тогда носил обеды из трактира. Господин Хилков подал нам многие нужные мысли — как что делать для большей пользы, и денег не пожалел, хоть не слишком богат. Ему же обязан я тем, что многое из давнопрошедших времен истории россиян узнал…
— Ты ведал, что рискуешь жизнью? — перебил Измайлов.
— Понимал.
— А России никогда и не видел?
— Не видел, господин. Однако многое о ней узнал от Андрея Яковлевича Хилкова и от Щербатого. Слова покойных моих родителей, сказанные мне в Колывани, хорошо помнил: все силы положить, но вернуться в Россию.
— Теперь идешь с эскадрой?
— С эскадрой. Взяли меня помощником адмиральского буфетчика. В Стокгольме на подозрении я, оставаться более не мог…
Слуга ловко сменил на столе скатерть, налил мед в кубки.
— Что это за напиток? — спросил Якоб.
— Не знаешь? — улыбнулся Измайлов. — Это мед. Доброе старое русское питье. Хорош?
— Хорош…
Глаза у Измайлова смотрели лукаво:
— Как вернешься в Россию, будь осторожен с сим напитком. Многим он развязывал языки, многие с непривычки слишком резво болтали о том, что не по душе в своем дому; оттого и худо приключилось…
Внезапно спросил:
— Что ж Щербатый рассказывал тебе о Руси?
Якоб взглянул на посла своим упрямым взглядом, помолчал, словно размышляя, потом ответил с разумной осторожностью:
— Везде по-своему хорошо и по-своему худо, господин, но не было для меня хуже жизни, нежели тут. Рассуждаю так: рожден человек на свет недаром, должно ему нечто свершить. Чувствую в душе своей стремление к делу, а какое же дело мое тут? Ужели всего и предначертано мне судьбою, что угождать трактирщику да подавать в погребке пиво и водку загулявшим матросам?
Измайлов слушал внимательно. Слуга убрал блюда с едою, подал кожаную сумку с табаком, вересковые и глиняные трубки. Посол, удобно откинувшись в креслах, раскуривая трубку, сказал:
— То справедливо, хоть и несколько туманно. Теперь будем толковать о деле, филозофию оставим для часов досуга. Расскажи мне с подробностями, что за адмирал у вас, каковы офицеры, много ли солдат для пешего бою, для абордажу, для пушек… Надобно немедля обо всем отписать, пошлю завтра же курьера в Либаву, оттуда к полякам, те доставят к нашим.
Якоб говорил все, что знал. Слушая, Измайлов кивал головой:
— Славно, славно! Остер у тебя глаз, умница, хорошо…
За закрытыми, занавешенными окнами процокали копыта лошадей, послышалось бряцание оружия, смех. Измайлов объяснил:
— Стража разъезжается — значит, шведы на корабли ушли. Весь город нынче поднялся, крепко не любят своих победителей, полвека с ними храбро бились, да, вишь, нынче — конфузия. Когда будешь на Руси — скажи: многие датчане ныне говорили в открытую — завязнуть бы проклятым шведам в Московии с их кораблями…
— Что же, всего одна эскадра шведская викторию не определит! — сказал Якоб.
— Пустое! Не определит, но вдохновит наших к последующему, — понимать надобно! По нынешний день шведа мы не бивали. Ежели эскадру близ Архангельска разгромят — будет шведам первая морская конфузия. И от кого? От россиян, которых почитают они лишь пехотинцами, да разве еще и конниками, но никак не моряками. А россияне — мореплаватели природные, то мне и многим другим доподлинно известно. Архивариус здешний, почтеннейший человек, преизрядный филозоф и близкий мне приятель, недавно снял для меня копию с письма Фредерика, писанного датским королем в марте 1576 года, то есть более ста лет тому назад, некоему Людовику Мунку. Сей Мунк оповещал короля датского о том, что русский кормщик из Мальмуса знает дорогу в Гренландию и на Грумант… А вот что король пишет Мунку…
Измайлов поднялся, открыл ключом замок в небольшой, орехового дерева шкатулке, достал вчетверо сложенный лист, прочитал по-датски, пропуская лишнее:
— «Людвигу Мунку об одном русском, который посещает Гренландию. Известно нам стало из твоего сообщения, что прошлым летом несколько тронгеймских бюргеров вступили в Варде в сношения с одним русским кормщиком Павлом, живущим в Мальмусе и…»
Посол поднял палец, прочитал с особым выражением:
— «…обыкновенно, ежегодно около Варфоломеева дня, плавающим в Гренландию. Кормщик Павел уведомил их, что если за его труды ему дадут некоторое вознаграждение, он, пожалуй, сообщит им данные об сей земле и проведет их суда…»
Он сложил бумагу, спросил:
— Понимаешь, что сие означает? Король датский в давнопрошедшие года обращается к своим бюргерам с тем, чтобы они под предводительством русского кормщика помогли ему спасти своих людей, закованных льдинами в Гренландии. Вот что сие означает.
Измайлов запер бумагу в шкатулку, опять сел в кресло, сказал громко:
— Российские поморы — хозяева и в море и в океане. В то самое время, как многие немецкие, аглицкие и иные ученые со славою для себя печатают преглупые трактаты, в которых изображают несуществующих вовсе в полярных странах полулюдей с единым глазом, — поморы наши давно зимуют на Груманте, на Медвежьем, на Колгуеве и на Вайчаге, на Мангазею ходят…
Часы пробили два. Посол усмехнулся:
— Ишь, наговорил я тебе сколь много, — не с кем тут, от дум иногда голова пухнет. Слушай внимательно: попадешь живым в Архангельск — ищи капитан-командора Иевлева. То добрый мне приятель, много мы с ним стран вместе исколесили, всего было — и дурного и хорошего. Он тебя знает по моим к нему письмам. Завтра буду эскадру вашу провожать. Есть тут такое место, что виден каждый корабль, идущий через Зунд. Провожу и курьера отправлю к Сильвестру Петровичу — дескать, эскадра миновала пролив, готовьтесь к достойной встрече…
Якоб, улыбаясь, смотрел Измайлову прямо в глаза.
— А тебе — еще спасибо! — сказал посол. — Яков… как по батюшке-то величают?
— Федором.
— То-то, Яков Федорович. И не обижайся, что Русь пушечным огнем тебя встретит. Пойми сей шум как салют благородству твоему и храбрости. Давай по-русски попрощаемся. Небось, и не знаешь, как оно делается, обасурманился?
Они обнялись, поцеловались трижды. В серых глазах Якоба блестели слезы. Измайлов сделал вид, что не видит их, сказал озабоченно:
— Нехорошо тебе после всех на корабль приходить… Вот что… ты у них помощником буфетчика. Прояви, братец, догадку, снеси адмиральской бабе как бы презент.
Он наморщил лоб, думая, потом засмеялся:
— Икры битой снесешь. Они, шведы, ее весьма почитают, а ты будто икру отыскивал для удовольствия своей госпожи. Все гладко и сойдет… А до порта тебя мой Степка проводит — его тут все знают, пойдете тихими улицами. Его не пасись: не человек — могила!
Адмиральский буфетчик на «Короне» ахнул, увидев лубяную коробку с черной икрой. Ахнула поутру и фру Юленшерна.
— Видите! — сказала она шаутбенахту за завтраком. — Видите, как меня тут все стараются порадовать? А вы все еще собираетесь отправить меня домой, в эту скучную Упсалу!
Ярл Юленшерна не ответил. Он писал меморандум — письмо королевскому послу в Копенгагене по поводу вчерашнего бесчестья. Шведский посол в Дании сидел здесь же, в глубоком кресле, покачивал ногой, обутой в щегольской туфель с бантом, играл лорнеткой. Полковник Джеймс ел русскую икру серебряной ложечкой, говорил томно:
— Я имел несчастье вчера проехаться в коляске по городу — действительно, невыносимо! Словно бы во враждебном государстве. Вооруженные всадники, вооруженные пешеходы, запертые дома! Как вы это терпите?
Посол пожал плечами:
— Приходится, гере полковник! С тех пор как его величество разгромил их, пройдя с флотом восточный рукав Зунда-Флинтрэдэн, они не выносят шведского флага… К сожалению, меморандум ничему не поможет. Одна хорошая победа над московитами стоит многих меморандумов.
8. Во славу короля!
После сигнала «Командам пить королевскую чарку и обедать» последовал второй сигнал: «Командирам кораблей немедленно пожаловать к ярлу шаутбенахту».
Юленшерна принял офицеров стоя и никому не предложил садиться. Перед ним на ворсистом сукне стола лежал пакет за пятью восковыми печатями. Оглядев всех собравшихся своими кофейными, недобрыми зрачками, Юленшерна произнес:
— Наш государь, да продлит господь его дни, повелел мне собрать вас и прочитать вам его королевский приказ. До выхода в море никто из матросов не должен ничего о нем знать, и только когда мы оставим порт, сей приказ может быть объявлен морякам флота короны. Вы поняли меня?
Капитаны прогудели, что поняли.
Юленшерна двумя руками взял пакет, переломил по очереди печати, вынул лист бумаги и прочитал твердым, жестким голосом:
— «Вам, мои офицеры и матросы, дарую город Архангельск с его Гостиным двором, с его торговыми палатами, с его складами и амбарами, с его храмами и часовнями, с домами обывательскими и казенными, с домами священнослужителей и именитых людей на полное разграбление сроком на трое суток…»
Он помолчал ровно столько времени, сколько ему понадобилось для того, чтобы увидеть впечатление, произведенное королевским подарком на офицеров, и стал читать дальше:
— «Вам, мои офицеры и матросы, приказываю всех русских корабельных мастеров, так же как и нанятых русскими иноземных корабельных мастеров и подмастерьев, вместе со всеми теми, кто хоть чем-нибудь споспешествует брату моему царю Петру в строении задуманного им флота, — ловить…»
Юленшерна мгновение помолчал:
— «…ловить и предавать смертной казни через повешение на площадях города Архангельска, дабы в будущем никому не повадно было делать того, что от провидения предопределено королевству шведскому…»
— Всех повесить? — хриплым басом спросил Голголсен.
— Всех повесить! — ровным голосом повторил шаутбенахт.
И, кашлянув, стал читать дальше:
— «Все корабли русские достроенные приказываю угнать в мою столицу, в город Стокгольм. Все корабли русские недостроенные приказываю предать огню. После чего шаутбенахту моему ярлу Юленшерне приказываю поджечь город Архангельск с четырех сторон и не покидать пожарища, покуда от оного города не останутся лишь одни уголья, дабы сим нашим действием навеки лишить брата моего царя Петра места, где бы мог он строить и оснащать суда для морского и океанского хода».
И, повысив голос, шаутбенахт прочитал дату и место подписания королем приказа, потом еще раз поцеловал бумагу и велел капитанам отправляться на свои корабли.
Капитаны расходились молча. У трапа Голголсен сказал негромко:
— Нелегкое дельце нам задано…
Ему никто ничего не ответил.
Едва капитаны покинули «Корону», Юленшерна приказал сниматься с якорей. Было тихо, тепло, легкий ветер донес из города перезвон колоколов. Уркварт улыбнулся толстым лицом, маленькие глазки его словно бы утонули в жирных щеках, сказал сладким голосом:
— Датчане молятся о нас!
— Они благодарят бога за то, что мы уходим в море, — ответил полковник Джеймс. — Подлая страна. И заметьте, гере капитан, как все было устроено: когда два наших матроса подрались и выхватили ножи, датчане связали их и сами доставили на эскадру. Знаете, почему такая любезность? Потому, что если бы у нас погиб матрос, мы бы могли предположить, что это сделали датчане, не так ли? И тогда им пришлось бы отвечать!
— Жаль, что такого же приказа, как про Архангельск, мы нынче не услышали насчет Копенгагена. Со всеми с ними пора кончать…
В сумерки приказ короля, переписанный писарем шаутбенахта для каждого капитана, читался на всех кораблях. Матросы яростно кричали славу королю шведов, вандалов и готов. Корабли шли строем кильватера. Утром, обогнув мыс Скаген, лавировали до тех пор, пока ровный ветер Атлантики не наполнил паруса. Стало холодно. Вахтенные тайком, чтобы согреться, пили водку, запасенную еще в Стокгольме, подвахтенные играли в кости и пели старую песню о гере Шетере, который спрашивал свою матушку, какой смертью ему суждено умереть.
Матушка отвечала:
- Я вижу, я знаю судьбину твою,
- Мой милый, возлюбленный сын
- Не бойся ты биться на суше в бою,
- Но бойся ты синих пучин!
Матросы пели сиплыми глотками, швыряли кости, ругались, но песня делалась все громче и громче, ее знали все на корабле и везде ее подхватывали: и на шканцах, и в кубрике, и на гон-деке, и на камбузе, и на опер-деке. Вот уже гере Шетер построил корабль и ушел в море. Началась буря. Грешником прожил гере Шетер, и не хочется ему умирать:
- Корабль закачало, и киль задрожал,
- Гер Шетер в каюту пошел,
- Гадальную книгу и кости достал,
- И высыпал он их на стол.
- Последний, друзья-корабельщики, час,
- Последний нам час наступил!
- Узнаем, кто более грешен из нас,
- Кто более всех согрешил!
Гере Шетер мечет жребий, он падает на него. Воющими голосами матросы пели:
- И начал товарищам каяться он
- В своих превеликих грехах
- Невест он позорил, обманывал жен,
- Кощунствовал в божьих церквах…
- Не знал, не боялся он грозных судей,
- Ходил по дорогам с ножом,
- И грабил и резал невинных людей,
- Закапывал в землю живьем…
Матросы пели; констапель Клас, под звуки песни, в предвечерних сумерках, на соленом океанском ветру, рассказывал о богатствах московитов. Наемники слушали жадно, зрачки их светились так, словно им стоило только протянуть руку, чтобы схватить жемчуга, червонцы, дорогую парчу, меха соболей и чернобурых лисиц. И о русских женщинах рассказывал всеведущий Клас. По словам констапеля выходило, что русские красавицы — статные, с высокой грудью, румяные, податливые…
Московия казалась близкой. Еще несколько дней океанского пути — и эскадра будет у цели.
Тогда барабанщики ударят на шканцах «отпуск», и матросы в кольчугах, с ножами у бедер съедут в Архангельск. Колокола русских церквей будут звонить, приветствуя нового владыку всего Севера — короля Карла XII и его храбрых воинов. Русские бояре, смертельно напуганные флотом его величества, в парчовых шубах и высоких шапках упадут перед завоевателями на колени. А матросы пройдут гордыми шагами по улицам навечно покоренного города и будут выбирать себе дома побогаче — для грабежа и для любви…
- Не знал, не боялся он грозных судей,
- Ходил по дорогам с ножом,
- И грабил и резал невинных людей,
- Закапывал в землю живьем…
У погонной пушки, глядя вперед на пенные морские валы, стоял, задумавшись, Якоб. Буфетчик подошел к нему сзади, хлопнул по плечу, спросил:
— Что, парень? Обдумываешь приказ его величества короля? Доволен? Еще бы! Тебе повезло, здорово повезло. Ты разбогатеешь на первом же походе. Слышал, что эти разбойники рассказывают об Архангельске? А уж они-то знают что к чему. В Архангельске мы все кое-чем поживимся…
— Да, мы поживимся! — без всякого выражения повторил Якоб.
Он смотрел вперед, в беспредельный, ровно шумевший простор океана. Неподалеку корабельный палач-профос Сванте Бегге, вплетая в плетку-треххвостку пули, выводил жалостным тенором:





