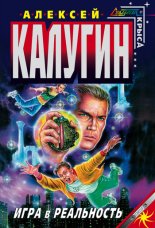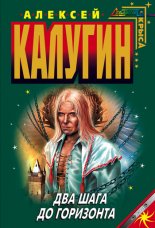Брестская крепость Смирнов Сергей
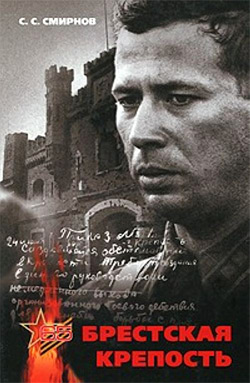
Не лучшей была обстановка и в лагере Южного военного городка Бреста. Хотя пленные находились здесь в каменных корпусах, под крышей, условия их жизни почти ничем не отличались от условий в Бяла Подляске и смертность была тут такой же высокой.
В этих лагерях людей уничтожали не только физически, но и морально. Верные своей философии, гитлеровцы старались развязать в пленных самые низменные чувства – дать простор подлости, предательству, национальной розни.
Старательными помощниками фашистской охраны с первых же дней стали «хальбдойче» – полунемцы и прямые предатели из числа украинцев, русских, белорусов. Они были не менее, а порою и более жестокими палачами, чем сами гитлеровцы, – ведь известно, что предатель идёт дальше врага. Какие-то тёмные личности вертелись среди узников, стараясь выискать затаившихся коммунистов, комиссаров, евреев, заводили с пленными провокационные разговоры, чтобы потом выдать человека гестаповцам за лишнюю порцию хлеба, за дополнительный черпак баланды. Стремясь возбудить среди пленных национальную вражду, лагерное начальство создавало более лёгкие условия для украинцев или местных, западных белорусов и пыталось вербовать из них полицаев и провокаторов.
Их было не так много, этих прислужников врага, дёшево продающих честь и совесть советского человека. Но они делали своё дело, насаждая в лагере атмосферу подозрительности и разобщения. Люди замыкались в себе, с недоверием относились друг к другу, скрывали своё прошлое, неохотно делились с товарищами мыслями и чувствами.
Защитникам Брестской крепости приходилось быть особенно осторожными. Гестапо вскоре начало выискивать среди пленных участников этой обороны. Видимо, гитлеровцы, встретив в стенах крепости такое яростное и долгое сопротивление, считали слишком опасными для себя бойцов и командиров, сражавшихся там. Поэтому люди скрывали свою принадлежность к крепостному гарнизону и на допросах говорили, что были захвачены в плен где-нибудь в окрестностях Бреста. Сами слова «Брестская крепость» стали ненавистными для врага.
Не помню, кто из защитников крепости рассказал мне историю, случившуюся уже в 1942 году в доме его родителей, живших в станице на Северном Кавказе. Когда станица была оккупирована, в дом, где оставалась только мать участника обороны, пришли на постой четверо немецких солдат. Рассматривая висевшие на стенах комнаты семейные фотографии, они обратили внимание на снимок, где был запечатлён молодой красноармеец. Женщина объяснила, что это её сын. Кто-то из немцев, говоривший немного по-русски, спросил, где он теперь.
– Не знаю, – вздохнув, сказала мать. – Наверно, и в живых нет. Он перед войной был на самой границе – в Брестской крепости.
Немец перевёл ответ своим товарищам. И тотчас же один из солдат, побледнев от злости, кинулся на женщину и стал избивать её, крича что-то. Трое других с трудом оттащили его, и он, ругаясь, ушёл из дома. А остальные объяснили перепуганной матери, в чём дело. Этот солдат штурмовал Брестскую крепость в 1941 году, был тяжело ранен и теперь кричал, что все советские солдаты, дравшиеся там, – фанатики-большевики и что их родственников надо беспощадно расстреливать.
Как ни страшен был режим гитлеровских лагерей под Брестом, как ни старались фашистские палачи зверским обращением уничтожить в сердцах пленных всякую надежду, погасить всякую искру протеста и сопротивления, добиться этого им не удавалось. То и дело происходили побеги из лагерей. В Южном военном городке подряд несколько групп пленных бежали через канализационные колодцы, в Бяла Подляске побеги были почти ежедневными – то по пути из лагеря на работу, то ночью через все проволочные заграждения и препятствия.
Тех, кого удавалось поймать, казнили на виду у всего лагеря страшной казнью. Беглецов расстреливали, вешали, отдавали на растерзание собакам или помещали в клетку из колючей проволоки и заставляли умирать медленной смертью от голода и жажды. Однажды троих бойцов, пойманных после побега, заживо сварили в котлах лагерной кухни.
Но даже эти изощрённые злодейства не могли сломить воли пленных, задушить в них стремление снова вырваться на свободу и опять начать борьбу с врагом. Наоборот, чем больше свирепствовали гитлеровцы, тем острее становилось чувство ненависти к палачам, тем сильнее было желание мстить за погибших друзей, за все пережитое в этом аду. И, наверно, именно такие чувства, победив недоверие и подозрительность, объединили пленных лагеря Бяла Подляска в подготовке массового побега, который произошёл здесь осенью 1941 года.
Тёмной сентябрьской ночью несколько тысяч узников по сигналу кинулись на проволочные заграждения, набросили на них шинели и гимнастёрки, перелезли через эти колючие препятствия под ярким светом прожекторов, под огнём пулемётов с вышек и ушли в ближайший лес. Большинство из них вскоре было поймано и расстреляно, многие погибли ещё на проволоке, но кое-кому удалось скрыться. Говорят, что одним из главных организаторов этого массового побега был старший лейтенант Потапов, тот, что командовал важным участком обороны Брестской крепости в районе казарм 333-го полка. Уцелел ли он тогда или погиб под огнём пулемётов, остаётся неизвестным.
В наказание за этот побег пленных гитлеровцы несколько часов вели пулемётный огонь по территории лагеря. Сюда вызвали танки, и они из пушек стреляли по блокам, а потом вошли внутрь лагеря и гусеницами давили людей, укрывшихся в своих норах. Однако и эта расправа не помогла, и побеги не прекращались вплоть до зимы, когда большинство выживших пленных было вывезено в другие лагеря.
Одни попали в бывшую польскую крепость Демблин, где рядом с земляным валом зимою 1941 года возник другой, такой же высокий вал из мёртвых тел, которых не успевали хоронить. Других послали в Седлец, в Краков или на территорию самой Германии – в Хаммельсбург и Эбензее, под Мюнхен или Бремен.
Но где бы ни оказывались герои Бреста, они проносили с собой через плен дух борьбы и сопротивления – тот неукротимый дух советского воина, каким была проникнута легендарная оборона крепости.
Немногим удавалось бежать из плена, и они шли к фронту или находили в лесах Белоруссии отряды народных мстителей – партизан. Так бежал и сражался в партизанском отряде близ Бреста боец 333-го полка Иван Бугаков. Так, сумев вырваться из лагеря, стал партизанским подрывником на железных дорогах защитник крепости Федор Журавлёв. Так позднее, бежав к партизанам Югославии, воевал вместе с ними один из пограничников Кижеватова – Григорий Еремеев. Другие были менее счастливыми – побег им не удавался. Но и в лагерях, порою даже в самых жутких, герои Брестской обороны искали и находили возможность бороться. Бывший политрук Пётр Кошкаров, ближайший помощник комиссара Фомина и капитана Зубачева, исполнявший обязанности начальника штаба сводной группы в центральной крепости, попав в лагерь Хаммельсбург под фамилией Нестеров, стал одним из руководителей подпольной коммунистической организации. Участник обороны Николай Кюнг, сражавшийся с бойцами полковой школы 84-го полка на Южном острове крепости, очутился в лагере смерти – Бухенвальде, нашёл там единомышленников и был в числе организаторов Интернационального подпольного комитета, подготовившего восстание заключённых весной 1945 года.
Они боролись, герои Бреста, при всех условиях, в любой обстановке. Поистине их девизом были те слова, которые однажды видел на стене тюремного карцера военнопленный П. Артюхов из Донбасса, сообщивший мне об этом в своём письме. Брошенный после допроса в карцер, он при свете, чуть проникавшем в маленькое подвальное оконце, прочитал на серой бетонной стене бурую надпись, сделанную, видно, кровью:
«Врёшь, фриц! Нас не сломаешь – мы из Брестской крепости!»
ПУТЬ НА РОДИНУ
Невероятно далёкой, почти недостижимой казалась Родина тем, кто очутился во вражеском плену. Ряды колючей проволоки, пулемёты и автоматы лагерной охраны, дальний, немыслимо трудный путь через чужие, иноязычные земли, сквозь неожиданные и вездесущие кордоны гестапо, жандармов и местной полиции, в ежеминутном ожидании предательства от тех, кто пустил тебя в дом, обогрел, накормил, и, наконец, последние километры через прифронтовую полосу, набитую вражескими войсками, а потом через огненную линию фронта, стеной разгородившую два мира, – как преодолеть, как пройти все это истощённому, обессиленному, затравленному узнику? Какими неисчерпаемыми запасами воли и упорства, ловкости и хитрости должен обладать человек, чтобы победить все препятствия на этом пути страха и смерти?!
Но, как ни далека была Родина, её настойчивый зов звучал в сердцах пленных. Куда бы ни увозил их враг – на шахты Эльзаса или на подземные заводы Рура, в ущелья Австрийских Альп или в фиорды оккупированной Норвегии, – везде слышали они призывный голос Родины. И они бежали отовсюду, куда забрасывала их злая судьба, попадались, снова бежали, даже зная, что примут от палача мученическую смерть, ибо зов Отчизны был сильнее самого желания жить. Для большинства из них эти побеги заканчивались неудачно, нередко трагически. Но были и такие, которым посчастливилось пройти сотни километров, одолеть сотни преград и добраться до своих. Человеческая предприимчивость и изобретательность порой находили самые удивительные, причудливые пути на Родину, и неугасимый дух борьбы вёл поистине бренное тело измождённого пленного через непостижимые испытания этого пути.
Сержант Алексей Романов, в прошлом школьный учитель истории из Сталинграда, был курсантом и секретарём комсомольской организации в школе младших командиров 455-го полка. Война застала его в казармах Центрального острова Брестской крепости, и он сражался там под командованием лейтенанта Аркадия Нагая. В первых числах июля нескольким бойцам во главе с парторгом школы Тимофеем Гребенюком удалось ночью с боем вырваться из крепости. Тимофей Гребенюк вскоре погиб, а вся его группа была рассеяна противником. Схваченный гитлеровцами, коммунист Алексей Романов все же сумел бежать из-под расстрела и, примкнув к маленькому отряду наших бойцов и командиров, пробиравшихся по тылам врага в сторону фронта, через неделю оказался неподалёку от города Барановичи. Под станцией Лесная немцы загнали отряд в болото и окружили его. Шёл тяжёлый бой. Потом в небе появились немецкие самолёты, и последнее, что видел Романов, была чёрная капелька бомбы, стремительно падающая туда, где он лежал.
Он очнулся, видимо, через несколько дней в одном из проволочных загонов лагеря Бяла Подляска. Гимнастёрка на его груди обгорела, тело было обожжено, и острая боль разламывала голову – он получил сильную контузию. Сержант поправлялся медленно, и прошло немало времени, прежде чем он начал ходить.
Осенью 1941 года с партией пленных Романова увезли в Германию, а весной 1942 года он попал в большой интернациональный лагерь Феддель, на окраине крупнейшего немецкого порта Гамбурга. Здесь вместе с бывшим политработником Иваном Мельником, поляком Яном Хомкой и другими он организовал подпольную антифашистскую группу. Они подбирали листовки, сброшенные с самолётов, выпускали обращения к пленным, уничтожали предателей и готовили диверсии. Но лагерное гестапо не дремало – несколько подпольщиков были схвачены и казнены. И он, пленный «номер 29563», тоже попал под подозрение. Его допрашивали в гестапо, сажали в карцер, но прямых улик против Романова у гитлеровцев не было.
Все это время мысль о побеге не оставляла его. Но лагерь, находившийся у такого важного порта, охранялся особенно зорко, и, казалось, любой план бегства отсюда заранее обречён на провал. И всё-таки он родился, этот план, невероятно дерзкий и необычайно трудно осуществимый.
Шёл декабрь 1943 года. Почти каждую ночь Гамбург подвергался воздушным налётам – англо-американская авиация бомбила его с аэродромов Англии. Город и порт, уже сильно разрушенные, испуганно затихали с наступлением сумерек, погружаясь в непроницаемую темноту и насторожённо ожидая тревожного сигнала сирен. Днём пленных из лагеря Феддель стали гонять на работу в порт – разгружать пароходы. Портовых грузчиков не хватало: ненасытный Восточный фронт перемалывал гитлеровские войска, и немцы проводили все более и более «тотальные» мобилизации в стране. Волей-неволей им приходилось теперь использовать пленных на тех работах, которые раньше избегали им поручать.
Романов и его товарищи уже хорошо знали расположение порта, все его причалы и пристани, знали даже многие грузовые суда, на которых им довелось работать. Среди этих судов, часто разгружавшихся у причалов Гамбурга, были пароходы Швеции – нейтральной страны, – она торговала и с государствами антигитлеровского блока и снабжала фашистскую Германию столь необходимой ей железной рудой.
План, родившийся у Романова и Мельника, на первый взгляд был прост – бежать из лагеря, проникнуть ночью в порт, спрятаться на шведском пароходе и доплыть с ним в один из портов Швеции. Оттуда можно с британским судном добраться до Англии, а потом с каким-нибудь караваном союзных судов прийти в Мурманск или Архангельск. А затем опять взять в руки автомат или пулемёт и уже на фронте расплатиться с гитлеровцами за все, что пришлось пережить в плену в эти годы. Столько ненависти скопилось за это время в душах пленных, что они готовы были даже проплыть вокруг света, лишь бы потом сойтись со своим врагом грудь с грудью, держа оружие в руках.
Но между замыслом и его осуществлением лежала целая пропасть. Как ускользнуть от многочисленной и бдительной лагерной охраны? Если это удастся, как спрятаться от погони? Ведь, по крайней мере, два-три дня эсэсовцы с собаками будут искать их следы. Как потом переплыть Эльбу, очень широкую здесь, у своего устья, и проникнуть на огороженную и строго охраняемую территорию порта? Охраняется не только сам порт – эсэсовские часовые круглые сутки дежурят у каждого иностранного судна. Как ухитриться попасть на пароход? И, наконец, как спрятаться там, чтобы тебя не нашла команда, не обнаружили эсэсовцы? Пленным было известно, что эсэсовские наряды с собаками дважды тщательно обыскивают сверху донизу каждый пароход, уходящий из Германии, – здесь, в Гамбурге, перед его отправлением и в Киле, откуда он уже идёт прямо в Швецию.
Всё, что можно было заранее предвидеть, они обдумали и обсудили. Остальное решал случай. Они знали, чем рискуют, – лишь за месяц до того в лагере были повешены двое пойманных после неудачного побега.
Бежать решили только вдвоём – так было легче скрыться. Приготовили даже оружие – два самодельных ножа, тайно выточенных из кусков железа во время работы в порту. Они поклялись друг другу: если один из них в побеге струсит, смалодушничает, второй должен заколоть его этим ножом. Мрачная клятва была дана отнюдь не из любви к романтике: они шли почти на верную смерть и связались нерасторжимыми узами – трусость одного означала гибель другого, и суровый закон военной справедливости оправдывал такую кару.
25 декабря 1943 года стояла ненастная, дождливая погода. Смеркалось рано, и пленных гнали с работы из порта уже в темноте. По пути в лагерь колонна проходила через неширокий и тёмный туннель. Здесь-то и начался побег.
Едва колонна втянулась во мрак туннеля, Романов и Мельник выскочили из строя и замерли, прижавшись за каменным выступом стены. Конвоиры прошли мимо, не заметив этого мгновенного броска двух пленных. Гулкий стук деревянных колодок стих вдали, и они остались одни.
Стремглав они бросились бежать назад, к берегу Эльбы. Там, у самой воды, стояли разбомблённые во время авиационных налётов кирпичные коробки бывших складов. В залитом водой подвале одного из этих складов им предстояло просидеть двое суток, чтобы собаки потеряли их след и эсэсовцы отказались от поисков.
Двое суток в ледяной декабрьской воде были нестерпимой мукой для этих обессиленных людей. Самое мучительное было в часы, когда на море начинался прилив. Вода в устье Эльбы при этом тоже прибывала, и уровень её в подвале поднимался. Более слабый Мельник иногда терял сознание, и Романов поддерживал его, а едва вода убывала, принимался растирать товарища.
Они выстояли свой срок. На вторую ночь, надеясь, что их уже перестали искать, оба беглеца выползли из своего убежища в складское помещение, кое-как обсушились и вышли наружу.
Порт был на той стороне Эльбы. Противоположный берег терялся в темноте, но они помнили, как широка в этом месте река. И оба поняли, что им не переплыть её: слишком много сил стоило им двухсуточное пребывание в ледяной воде без крошки пищи. Недалеко был длинный мост, ведущий прямо к воротам порта. Но они знали, что мост охраняется часовыми, – по нему не пройти незаметно. Только какой-нибудь случай мог помочь им, и они, в глубине души вовсе не рассчитывая на чудо, всё-таки поплелись в сторону порта.
Они залегли у дороги в нескольких сотнях метров от будки часового, охраняющего вход на мост. Где-то на дальней окраине города шарили в небе прожекторы и слышалась пальба зениток – в воздухе были англо-американские самолёты.
И вдруг вдали послышался стрекот моторов и лязг гусениц на камнях дороги, и беглецы увидели узкие синие полоски света. Это шла на погрузку в порт колонна танкеток с притушенными, маскировочными фарами.
Романову уже приходилось видеть эти танкетки, и он помнил, что позади на броне у них приварены крюки, видимо, для буксировки. План действий родился мгновенно, и он в двух словах объяснил его Мельнику. Это был счастливый случай – может быть, единственный шанс для них попасть в порт.
Надо было на ходу догнать танкетку и повиснуть сзади на крюке. Машины шли с интервалом в 50-100 метров. Синий свет позволял водителям видеть только на 2-3 метра вперёд, и они не могли заметить пленных. Опасность заключалась только в том, что часовой на мосту мог освещать фонариком каждую машину и увидеть беглецов. Впрочем, об этом не приходилось долго раздумывать: разве весь их побег не был сплошным риском и цепью случайностей?
Первым метнулся на дорогу Романов. На бегу нащупав крюк, он повис на нём и даже нашёл какую-то опору ногам внизу – неширокий выступ металла. Мельник сумел так же подцепиться на следующую танкетку.
К счастью, фонарик часового мигнул только один раз – пропуская головную машину. В воздухе гудели самолёты, и охранник явно боялся лишний раз включить свет. Ещё не веря своему счастью, Романов и Мельник буквально считали каждый метр мостового настила, уходящего назад под гусеницами. Наконец они въехали в ворота порта, и Романов, высмотрев тёмный закоулок между пакгаузами, кинулся туда. Минуту спустя к нему присоединился Мельник.
Да, счастье пока что сопутствовало им в их отчаянном предприятии. Они перебрались через мост и даже оказались внутри порта, благополучно миновав охрану. Теперь оставалось последнее и самое трудное.
Они знали хорошо причал, где должен стоять шведский пароход «Ариель», – на нём работали пленные из Федделя, и они говорили, что судно простоит под погрузкой ещё 3-4 дня. «Ариель» грузился коксом, и Романов с Мельником намеревались, пробравшись в трюм парохода, зарыться в кокс и пролежать там до тех пор, пока судно не минует Кильский канал.
Легко сказать – пробраться на пароход! Когда беглецы, крадучись вдоль стен пакгаузов и перебегая открытые места, вышли наконец к месту стоянки «Ариеля», они поняли, каким нелёгким делом это будет.
С парохода на пристань вели единственные сходни, и на середине их стоял часовой-эсэсовец с автоматом. Втянув голову в плечи, он поднял воротник шинели, опустил наушники шерстяного шлема и стоял, повернувшись спиной к холодному ветру, который резкими и шумными порывами налетал с моря, швыряя на пристань густые заряды мокрого снега. Но подойти к часовому скрытно было невозможно – он заметил бы опасность, если бы беглецы попытались приблизиться к сходням.
Да они и не хотели убивать его – исчезновение часового навело бы эсэсовцев на след бежавших.
Они подошли к самому краю пристани около кормы «Ариеля» и принялись всматриваться в темноту, стараясь определить расстояние до палубы парохода в этом месте.
Палуба была на метр-полтора ниже уровня пирса. Но пароход стоял поодаль от стенки пристани, и между нею и бортом судна оставалось пространство около четырех метров. Для изголодавшихся, измученных «доходяг» из лагеря такой прыжок в длину казался недосягаемым рекордом. А попытка могла быть только одна – того, кто не допрыгнет, ожидала десяти-пятнадцатиметровая пропасть и тёмная глубь ледяной воды у основания пристани.
В ночной тьме они внимательно поглядели друг на друга.
– Надо прыгать! – шепнул Романов.
– Надо! – согласился Мельник. – Давай первый – ты посильнее.
Присмотревшись и выбрав на палубе место, которое показалось ему самым удобным, Романов отошёл назад, чтобы разбежаться, и стал пристально вглядываться в едва различимую фигуру часового на сходнях. Солдат ничего не слышал, он, по-прежнему ссутулившись, стоял спиной к ветру, может быть, даже задремал.
Романов дождался, пока вдоль пристани помчался новый порыв ветра со снегом, заглушающий своим свистом все звуки, и стремительно кинулся вперёд. В этом последнем неистовом толчке ногой о край пристани была сейчас вся его жизнь.
Он не допрыгнул до палубы, а упал грудью на край металлического борта и одновременно успел ухватиться руками за этот борт. Удар был таким сильным, что на миг он потерял сознание, но руки, видимо управляемые уже одним инстинктом, продолжали цепко держаться за железо. В следующий момент он пришёл в себя, судорожным усилием подтянулся наверх, перекинул ногу через борт и встал на палубе.
Первым делом он опять поглядел на часового – не слышал ли тот звука удара. Тот стоял неподвижно, как чучело. С пристани, пригнувшись, смотрел на палубу Мельник. Романов ободряюще замахал рукой, и тот исчез из виду – отошёл, чтобы разбежаться. Он прыгнул даже лучше, чем Романов, а тот, почти подхватив на лету товарища, втащил его на палубу. Вокруг не было ни души – команда спала, а вахтенный, верно, ничего не заметил.
Осторожно они прокрались к люку, ведущему вниз, и спустились в трюм. По рассказам товарищей, они знали, что у «Ариеля» три трюма. Нижний, видимо, был уже загружен и задраен; они попали во второй, средний, трюм, в один из его отсеков, уже наполовину заполненный коксом. Теперь надо было зарыться в эту кучу угля.
Но и это следовало правильно рассчитать. Если беглецы зароются слишком глубоко, завтра утром над ними насыплют такую гору кокса, что они не смогут выбраться наверх и погибнут в этой угольной могиле. Но мелко зарываться тоже не годилось – их могли обнаружить. Они долго прикидывали, как будет рассыпаться по отсеку сбрасываемый сверху кокс, и, наконец выбрав нужные места, заползли внутрь этой кучи. Только тогда, свернувшись калачиком в своём неудобном убежище, Романов почувствовал, как нестерпимо больно ему дышать – удар о край борта, видно, не обошёлся даром.
Он кое-как заснул и проснулся от шума. Сверху в отсек с грохотом сыпался загружаемый кокс. Это продолжалось около часа, а потом неподалёку послышались голоса, лай собаки, кто-то ходил по грудам кокса, металлически звякнула крышка люка – и все стихло. Отсек задраили.
Романов и Мельник не знали, сколько ещё простоял «Ариель» в Гамбурге – день, два или три, – и выползли из своего убежища, лишь когда почувствовали покачивание парохода. Они плыли!
Романов первым выбрался из-под кокса и помог вылезти своему спутнику. Мельник совсем обессилел и уже с трудом двигался. А у них в этом металлическом гробу не было ни капли воды, ни крошки пищи, и впереди лежал путь, который продлится неизвестно сколько дней. Но это был путь к свободе, путь на Родину, и ради него они были готовы на все, даже на смерть.
Когда пароход остановился в Киле, они снова зарылись в кокс и переждали обыск. Но потом Мельник уже не отозвался на зов товарища. Он был без сознания, и Романову так и не удалось привести его в чувство.
Неизвестно, сколько времени продержался после этого Романов. Муки жажды и голода становились все нестерпимее, потом наступила странная слабость, появилось тупое безразличие ко всему, и он уже ничего больше не помнил.
В крупном шведском порту Гётеборге рабочие, разгружая кокс, обнаружили в одном из трюмов «Ариеля» два трупа в одежде военнопленных из немецких лагерей, с буквами «511» на спине.
Вызвали врача. Один из найденных и в самом деле был уже трупом, в другом ещё теплилась слабая искорка жизни. Его увезли в больницу, а гётеборгские грузчики с волнением обсуждали происшедшее. Побег этих двух русских был первым и единственным побегом пленных из Гамбурга в Швецию на торговом судне.
Романов очнулся лишь через несколько дней в тюремной больнице шведской политической полиции: нейтральная страна встретила его не очень-то любезно из страха перед своим зловещим немецким соседом. Он поправлялся медленно, с трудом. Когда ему стало лучше, к его кровати несколько раз приходили какие-то люди, говорившие по-русски и убеждавшие его не возвращаться на Родину, а просить политического убежища в Швеции. Он отвечал одним и тем же – требовал, чтобы к нему вызвали сотрудника советского посольства.
Он добился своего и в конце концов попал в Стокгольм, к тогдашнему посланнику Советского Союза в Швеции, известной соратнице В. И. Ленина Александре Михайловне Коллонтай. К его огорчению, она отвергла все проекты возвращения на Родину через союзную страну. «Вы своё отвоевали», – сказала она и велела остаться жить в советской колонии в Швеции.
В 1944 году, когда сложила оружие Финляндия, Романов вернулся на Родину. Но все пережитое в крепости и в плену тяжело сказалось на его здоровье: он приехал домой больным человеком и немало времени провёл в госпиталях. Говорят, туберкулёз, то и дело одолевающий его, явился следствием не только испытаний, перенесённых в Брестской крепости, и лагерных лишений, но и того удара грудью о борт «Ариеля», которым завершился его прыжок с гамбургской пристани.
Но он не сдался болезням, как не сдавался фашистам. Несмотря на недуги, он сумел после войны окончить второй институт и работает инженером-строителем в одной из проектных организаций Москвы.
В 1957 году, когда Алексея Романова восстанавливали в рядах партии, в партийной комиссии ему показали его лагерную карточку пленного, в своё время оказавшуюся случайно в какой-то захваченной нашими войсками гитлеровской картотеке. Там была приклеена фотография Романова в одежде пленного с памятным ему номером 29563 и в графах педантично записаны все штрафы и аресты, которым он подвергался.
Внизу стояла последняя запись, заверенная печатью со свастикой: «№29563 бежал из лагеря 25 декабря 1943 года и пойман не был».
Романов долго и задумчиво разглядывал эту карточку, свою фотографию и вдруг, улыбнувшись, сказал:
– А ведь счастливый номер оказался. В этой лагерной лотерее мало кто выигрывал. Мне вот повезло.
Но члены партийной комиссии понимали, что дело не в счастливом номере, и единогласно проголосовали за восстановление коммуниста Алексея Даниловича Романова в рядах КПСС.
СОЛДАТЫ ЖИЗНИ
Русский врач! Сколько большого, славного смысла в этих словах. Какие волнующие имена и картины встают в воображении, когда вспоминаешь богатую подвигами историю нашей медицины.
Пирогов в окровавленном белом халате, спасающий героев Севастополя, и Боткин, окружённый больными. Медик, прививающий себе чуму, чтобы проверить действие открытой им вакцины, и скромный земский врач, высасывающий гной из горла больного дифтеритом ребёнка. Светила советской хирургии Николай Бурденко и Александр Вишневский. И огромная безымянная армия рядовых врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров – армия бойцов против смерти, солдат жизни, каждый день и час делающих на земле своё такое важное и такое человечное дело.
Из всех профессий, пожалуй, только медики не меняют характера своей деятельности, когда начинается война. Солдаты жизни в мирное время, они остаются такими же бойцами со смертью и на войне, только условия их работы становятся другими. Кто расскажет о бесчисленных девчушках в больших кирзовых сапогах, деливших с пехотой все её тяготы, под пулемётным огнём, под снарядами и минами таскавших раненых на плащ-палатках или на своих плечах, о ротных и батальонных санитарках и медсёстрах?! Кто расскажет о врачах и фельдшерах полковых санчастей и медсанбатов дивизий, работавших в переполненных ранеными палатках под артиллерийским огнём, о медиках армейских госпиталей, делавших своё дело под бомбёжками?! Враг убивал их так же, как солдат и офицеров боевых частей, а они, носившие те же солдатские или командирские погоны, не могли вступить с ним в открытый бой, не имели права на прямое мщение и словно лишь косвенно участвовали в борьбе, стараясь спасти и вернуть в строй тех, кто дрался с оружием в руках.
Но сколько ветеранов-фронтовиков сейчас со слезами на глазах вспоминают безымянную девушку, вытащившую их, полуживых, из огня, или благословляют золотые руки хирурга и мечтают встретить и обнять людей в белых халатах, которые спасли им жизнь?! И сколько тысяч пленных сумели пройти через муки адовых лагерей Гитлера и живут теперь на земле только потому, что рядом с ними, такими же бесправными узниками, как они, были люди благородного долга – русские врачи?!
В заводы болезней и смерти, в фабрики уничтожения людей превратили фашисты свои лагеря для военнопленных. И только пленные врачи были единственным препятствием на пути этого уничтожения, единственными борцами со смертью. Гитлеровцы вынуждены были в той или иной степени мириться с существованием лагерных ревиров и с деятельностью врачей, во-первых, потому, что использовали пленных как рабочую силу, а во-вторых, потому, что правительству Гитлера приходилось делать вид, будто оно выполняет правила международных конвенций, предписывающих оказывать медицинскую помощь солдатам и офицерам противника, попавшим в плен. А врачи, рискуя жизнью, изобретательно и широко пользовались своими возможностями – спасали умирающих от голода, объявляя их больными, скрывали в заразных бараках тех, кого ждала смерть, участвовали в борьбе лагерного подполья, помогали узникам бежать. Разоблачённые гестапо, они шли на казнь, принимали пытки и мучения, а в обычном лагерном быту терпели вместе со всеми пленными голод, побои и издевательства.
Брестские врачи прошли весь этот путь, и много истинных героев было среди них, выполнивших честно свой долг и в дни боев за крепость, и позднее, в фашистском плену.
Жил и работал до войны в городе Бресте главный хирург областной больницы Степан Трофимович Ильин[2], пожилой, широкоплечий и сильный человек с суровым широким лицом крестьянина и с большими рабочими руками, делающими хирургические чудеса на операционном столе. Много лет подряд он работал здесь, и сотни жителей Бреста были обязаны ему жизнью.
В то памятное утро 22 июня 1941 года Ильин, сразу поняв, что произошло, первым делом прибежал в военкомат. Но там ему сказали, что никаких приказов о мобилизации ещё нет, и он поспешил в горисполком, где уже никого не застал. Встретив на улице нескольких работников облздравотдела, он решил вместе с ними уходить из города – доктору было ясно, что оставаться в Бресте ему нельзя, – здесь все знали его не только как хирурга, но и как активного коммуниста.
Путь их лежал мимо дома Ильина, и, попросив спутников минуту подождать его, врач побежал предупредить жену. Но в это время к дому подъехала больничная машина «скорой помощи», и взволнованная медсестра кинулась к Ильину:
– Степан Трофимович, голубчик, скорее в больницу! Там раненых тьма-тьмущая – и ни одного врача. Дети умирают!
Ильин остановился в смущении и растерянности. Все, что он делал до сих пор, казалось ему единственно правильным. Он хотел уйти из города, чтобы примкнуть к первой же воинской части. Доктор был твёрдо уверен, что теперь, с началом войны, его место в армии, и у него не оставалось сомнений в том, какая участь его ждёт, если он попадёт в руки гитлеровцев. Но вдруг сейчас, увидев перед собой дрожащую от волнения, заплаканную сестру, узнав от неё, что происходит в больнице, он впервые по-иному оценил своё поведение. Он должен был прийти в больницу хотя бы ненадолго, для того чтобы навести там порядок, подбодрить сестёр и санитарок, вызвать врачей и организовать приём раненых. И ему стало стыдно, что он не сделал этого.
Он обернулся назад, туда, где на углу остались стоять его спутники, издали махнул им рукой и сел в машину. В голове у него уже был готов план действий. Сейчас он приедет в больницу, срочно вызовет всех беспартийных врачей, которые могут без особых опасений остаться в городе, назначит вместо себя одного из них и тотчас же уедет из Бреста.
Но он не представлял себе того, что ждало его в больнице. И двор и здание были сплошь заполнены ранеными – их скопилось тысячи две, если не больше. Сюда свозили военных, сюда сползались все, кто пострадал на улицах при обстреле и бомбёжках.
– Доктор, дорогой! Степан Трофимович! Родной наш!.. – неслось со всех сторон, пока они с сестрой с трудом пробирались к дверям, осторожно перешагивая через лежащих на земле, истекающих кровью людей.
И, прежде чем Ильин вошёл в больницу, он понял, как трудно будет ему уйти отсюда.
Сёстрам и санитаркам, с восторгом встретившим его появление, он показался таким же, как обычно. Высокий, сильный, он одним своим видом внушал им спокойствие и уверенность. Как всегда, сосредоточенно хмурым было его лицо, а голос звучал с привычной грубоватой властностью. И никто из сослуживцев Ильина не подозревал, каким нерешительным человеком чувствует себя сейчас доктор и какая сложная борьба мыслей и чувств происходит в нём.
Он велел одной из санитарок объехать на машине всех врачей с приказом немедленно явиться в больницу. Он осмотрел первую группу раненых и распорядился прежде всех положить на операционный стол лётчика-лейтенанта с раздроблённой ногой, доставленного на машине с аэродрома. Он обошёл палаты, указывая, как лучше разместить раненых. И все это время он думал об одном, казалось, неразрешимом противоречии: ему нельзя оставаться в городе, но и уйти он не может.
Так и не решив этого вопроса, он торопливо вымыл руки, надел халат, шапочку, маску и подошёл к операционному столу.
Лётчик, молодой человек лет девятнадцати – двадцати, с бледным, обескровленным лицом, широко раскрыв глаза, пристально смотрел на врача. Ему предстояло ампутировать ногу почти до колена, и Ильин предупредил его, что будет оперировать без наркоза – усыплять лейтенанта было некогда, хирурга ждали другие раненые. Лётчик молча кивнул, и операция началась.
Вначале, как ни старался Ильин сосредоточиться только на том, что делает, он не мог не думать о своей судьбе, и, пока руки его совершали привычные быстрые движения, какой-то дальний уголок сознания продолжал решать тот же неотступно стоявший перед ним вопрос. Но мало-помалу внимание его все больше привлекал этот юноша, лежавший на столе.
Ильин знал, как мучительна операция, какую нестерпимую боль должен испытывать молодой лётчик. Он ожидал крика, стонов, но лейтенант молчал. Даже когда он начал пилить кость, у раненого не вырвалось ни одного стона, и на мгновение доктору показалось, что его пациент от боли лишился чувств. Он посмотрел в лицо лётчика, увидел крупные капли пота на его лбу, посиневшие от напряжения плотно сжатые губы, живые, полные муки глаза, и острая жалость и нежность к этому мальчику, так мужественно переносящему страдания, охватила его. Он уже ни о чём не думал и только торопился закончить операцию.
– Вот и все! – сказал он, наложив последний шов и наклоняясь к лицу лётчика.
В ответ неожиданно прозвучало тихое и спокойное:
– Спасибо, доктор!..
И Ильин, чувствуя, что у него от волнения перехватило горло, поспешно отошёл к умывальнику.
И тут он понял, что вопрос, так долго мучивший его, внутренне уже решён им. Судьбы этих двух тысяч искалеченных людей, затопивших больницу, были сильнее его личной судьбы. Все то, что недавно казалось ему противоречивым и несовместимым – долг коммуниста, долг врача и долг человека, – вдруг сразу слилось воедино в том, что он делал сейчас и будет продолжать делать дальше. Он ощутил себя здесь, у операционного стола, солдатом, который ведёт бой и не получил приказа об отступлении. И он уже твёрдо знал, что останется на своём боевом посту и не уйдёт отсюда, чем бы это ему ни грозило.
Он остался. Он работал до изнеможения весь этот день, работал и тогда, когда город был уже полностью занят врагом и немцы появились в больнице. Он стоял за операционным столом всю ночь и почти весь следующий день, только меняя окровавленные халаты. И среди его пациентов оказались некоторые из тех, что сражались в крепости, а попав в плен, были доставлены в городскую больницу.
А потом потянулись долгие месяцы страшной жизни в оккупации, жизни, полной страданий, произвола, смерти. И наконец наступил день, когда за ним пришли из гестапо: гитлеровцам донесли, что Ильин – коммунист.
Но как только его арестовали, в городскую управу посыпались коллективные петиции. Люди, которых он когда-то спас от смерти, их родные, друзья просили за него оккупантов. И хотя много тяжкого довелось пережить Ильину в тюрьме, гитлеровцы не решились расправиться с таким популярным в городе человеком и в конце концов выпустили его. А вскоре после этого доктор Ильин установил связь с партизанами и ушёл в один из отрядов, пробыв там до самого освобождения Бреста.
Степан Ильин был штатским, а не военным врачом. Но ещё в первые месяцы оккупации ему приходилось иногда бывать в лагере для пленных Южного военного городка, где работали его коллеги – военные медики из Брестской крепости, попавшие в гитлеровский плен. Он видел невыносимые условия этого лагеря, видел, как мрут от голода и болезней тысячи пленных, видел мучения наших людей и, страдая от невозможности помочь им, иногда думал, что его место как коммуниста и врача – там, среди узников фашизма, которые больше всего нуждаются в его помощи. Однажды, приехав туда, он заявил, что остаётся с пленными, и доктор Юрий Петров, руководивший ревиром Южного городка, с трудом отговорил его от этого намерения и почти насильно вытолкнул Ильина из ворот лагеря, быть может, тем самым сохранив ему жизнь. Недаром другой врач этого ревира, Сергей Сергеевич Ермолаев, позже находясь в лагере Седлец, оказался не в силах вынести все то, что ему пришлось видеть и пережить. Он покончил жизнь самоубийством, перерезав себе горло бритвой, и все усилия врачей спасти его остались тщетными.
Юрий Петров, Иван Маховенко, Владимир Медведев, Василий Занин, Борис Маслов – все эти врачи из Брестской крепости взяли на себя в лагере Южного городка нелёгкую обязанность лечить и спасать от смерти наших раненых пленных. Это были хирурги высокого класса, мастера своей профессии, но им пришлось работать в недопустимой обстановке.
Раненые валялись на грязной соломе, не хватало бинтов для перевязок, не было лекарств – гитлеровцы отнюдь не хотели помогать врачам лечить тех, кого они старались скорее загнать в могилу. Приходилось всячески изворачиваться: медсёстры стирали бинты, и они снова шли в дело, порой удавалось выпросить для раненых лишнюю порцию баланды, случалось добывать у немецких врачей медикаменты.
Юрий Викторович Петров, ученик знаменитого ленинградского хирурга-онколога академика Петрова, был большим специалистом своего дела. Немецкие врачи из военного госпиталя, разместившегося в Бресте, вскоре узнали, что в лагерном ревире в Южном городке работает очень искусный хирург. Порой они приезжали посмотреть на его операции, проконсультироваться по какому-нибудь сложному случаю, а Петров пользовался этим интересом и уважением к себе со стороны немецких коллег, чтобы достать у них то перевязочные материалы, то лекарства.
Петров и Маховенко были спасителями майора Гаврилова, когда героя крепости привезли в лагерь. Брестское гестапо почему-то интересовалось выздоровлением майора, и возникало опасение, что с ним могут расправиться за его стойкость и упорство. Чтобы этого не случилось, врачи объявили, что Гаврилов заболел тифом, и перевели его в тифозный барак. Тифа гитлеровцы боялись как огня, и Гаврилов на два месяца исчез из их поля зрения. За это время чиновники в гестапо сменились, история с Гавриловым позабылась, и его оставили в покое. Тогда врачи выписали его из тифозного барака и устроили раздатчиком баланды на кухне, чтобы он мог подкормиться и немного восстановить свои силы.
Мне не довелось присутствовать при первой послевоенной встрече П. М. Гаврилова с его спасителем Ю. В. Петровым, которая произошла на аэродроме, когда герой крепости приехал в гости к своим бывшим соратникам, живущим сейчас в Ленинграде. Зато я видел, как встретились в Москве годом раньше герой Бреста, теперь белорусский писатель Александр Махнач и, ныне уже покойный, доктор Иван Кузьмич Маховенко, замечательный, душевный человек, показавший себя в плену и блестящим хирургом, и настоящим гражданином. Маховенко делал Махначу в ревире Южного городка сложную операцию, вынимал пулю, прошедшую через всю ногу от пятки до колена. Я видел, какими глазами смотрел Махнач на своего бывшего врача, как Маховенко тут же заставил его показать раненую ногу, ощупывал и оглядывал её и как потом они вдвоём увлечённо и надолго погрузились в свои воспоминания, забыв обо всех присутствующих. И, прислушиваясь к их разговору, я понимал, что для каждого из этих бывших узников фашизма врач оставался не просто товарищем по несчастью, с которым многое пережито вместе, но товарищем старшим, особо уважаемым, какое бы соотношение в возрасте ни было между ними.
У меня нет возможности назвать здесь многих медиков из Брестской крепости, живых и погибших, как нет возможности даже упомянуть всех участников героической Брестской обороны. Но в заключение этой главы я хочу рассказать только одну историю трудной, честной и трагически оборвавшейся жизни русского врача Бориса Алексеевича Маслова.
Военврач II ранга Маслов был начальником окружного госпиталя, который, как уже говорилось, находился на самой границе – на Южном острове крепости. Когда началась война, он оказался на своём посту и руководил спасением больных и раненых. Госпитальные корпуса горели и рушились под артиллерийским обстрелом и бомбёжками, и по приказанию Маслова всех больных перенесли оттуда в ближайший каземат в земляном валу.
Бой шёл около внешних ворот Южного острова, не смолкала перестрелка на валах над Бугом, какие-то группы бойцов дрались около полуразрушенных госпитальных зданий. В каземат к Маслову приносили раненых, и он с несколькими врачами и сёстрами старался оказать им посильную помощь, хотя бинтов и медикаментов почти не было. Потом раненых набралось столько, что пришлось занять два соседних каземата.
Поглощённые своей лихорадочной работой, врачи и сестры потеряли счёт времени. Они не знали, сколько часов прошло, когда неподалёку от убежища, где находились раненые, послышались трескучие очереди автоматов и загремели разрывы гранат. Гитлеровские солдаты прорвались на этот край острова и теперь прочёсывали один за другим казематы земляного вала, забрасывая гранатами и простреливая из автоматов эти полутёмные помещения.
Они приближались, и нельзя было терять времени. У Маслова был пистолет – он мог застрелить одного-двух фашистов. Но что будет потом? В отместку автоматчики закидают гранатами и перестреляют и раненых, и врачей, и сестёр. Погибнут сотни доверенных ему людей. Нет, их надо было попытаться спасти.
Маслов надел новый белый халат и, выйдя наружу, под пули, пошёл навстречу вражеским солдатам, размахивающим гранатами. Мучительно вспоминая забытые немецкие слова, он закричал, чтобы солдаты не стреляли: в этих казематах находятся только беспомощные раненые. Держа наготове гранаты, автоматчики недоверчиво и подозрительно заглядывали внутрь. Потом они пробежали мимо. Раненые были спасены, хотя бы на время.
Вместе с другими врачами и сёстрами Борис Маслов оказался вскоре в лагере Южного городка Бреста. Он работал в лагерном ревире, как и Петров, Маховенко, Ермолаев, но мысль о побеге не оставляла его. В конце лета Маслов с группой бойцов бежал. Они пришли ночью в город, и Маслов пробрался домой, чтобы переодеться в штатский костюм. Попрощавшись с женой и дочерью, которых он бросал тут на произвол судьбы, врач со своими товарищами той же ночью двинулся на восток – к фронту.
Много дней шли они через леса и болота, изредка заходя в деревни, с трудом спасаясь от немецких облав, то и дело натыкаясь на полицаев и предателей. Это был трудный и долгий путь.
Однажды, уже далеко от Бреста, их приютил на ночь какой-то железнодорожник. Здесь они узнали, что фронт ушёл за сотни километров и что даже Смоленск захвачен врагом. И они поняли, что не дойдут.
В ту ночь в дом железнодорожника прибежала плачущая женщина – его соседка. Она сказала, что в её хате умирает узник, бежавший из немецкого лагеря. Женщина боялась вызвать врача: если бы на неё донесли, она была бы расстреляна за укрывательство беглеца.
Маслов тотчас же отправился к ней. Помочь больному уже было нельзя: истощённый, измученный беглец погибал от сильнейшего воспаления лёгких. Он умер через несколько часов. Плача, женщина передала Маслову все его документы.
Умерший не был военным – у него нашли паспорт. И тут обнаружилось любопытное совпадение: покойника звали, как и Маслова, Борисом Алексеевичем, только фамилия была другая – Кирсанов. По возрасту он оказался почти ровесником врача, и все это вдруг подсказало Маслову, что ему надо делать.
Врач решил подклеить на паспорт свою фотографию и с этим документом вернуться назад в Брест. Лишь немногие знали его в городе, и он надеялся устроиться где-нибудь в районе, а потом установить связь с партизанами и уйти в один из отрядов.
Так он и сделал. Когда в Бресте «доктор Кирсанов» явился к немецкому окружному врачу «гебитсарцту», тот, конечно, спросил его диплом, но Маслов объяснил, что все его документы сгорели в первый день войны, и предложил проверить своё умение на деле. Несколько операций убедили немца, что перед ним опытный, знающий хирург, и по просьбе Маслова он был направлен на работу в больницу местечка Любешов, где вскоре завоевал симпатии всех жителей.
В начале 1943 года он узнал, что в соседнем, Морочанском районе активно действуют партизаны. В районном центре оказалась вакантной должность врача, и Маслов добился перевода туда. Через некоторое время с помощью местных жителей связь с партизанами была установлена, и однажды к командиру отряда в лесной лагерь привели человека, который, по-военному вытянувшись, доложил, что «военврач второго ранга Маслов прибыл для дальнейшего прохождения службы». С этих пор он перестал быть Борисом Кирсановым и опять сделался Борисом Масловым, партизанским врачом в одном из отрядов Героя Советского Союза А. Ф. Фёдорова.
После соединения с частями Советской Армии Б. А. Маслов был начальником большого военного госпиталя в городе Станиславе в Западной Украине. В 1948 году он демобилизовался из рядов армии по болезни, но вскоре был арестован и осуждён по ложному обвинению в пособничестве врагу.
Маслов погиб в одном из сибирских лагерей. Герой Брестской крепости, партизан, преданный Родине советский человек, медик с высоким чувством долга и ответственности, он не дожил до лучших времён и пал жертвой бериевских репрессий.
Пусть же этот краткий рассказ будет первым маленьким и скромным венком на неведомую могилу врача – патриота и героя.
«ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН»
Изучая историю обороны Брестской крепости, я обратился также к иностранным источникам, и прежде всего к немецким, стараясь отыскать какие-то сведения о тех событиях в воспоминаниях и записках бывших гитлеровских генералов. Такого рода воспоминания в послевоенное время наводнили книжные рынки западноевропейских стран и США.
Действительно, вскоре мне удалось найти краткие упоминания о боях за Брестскую крепость в «Записках солдата» генерала Гудериана и в мемуарах того же Отто Скорцени. Впрочем, оба они лишь вскользь отмечали упорство крепостного гарнизона и говорили – один «о нескольких днях», второй о «неделе» боев, явно пользуясь официальной версией, сочинённой штабом 45-й пехотной дивизии немцев.
Потом мне попала в руки новая книга английского военного историка капитана Лиддела Гарта. Капитан Лиддел Гарт – широко известный британский военный литератор. В своё время он написал несколько работ об империалистической войне 1914-1918 годов, а теперь занимается историей второй мировой войны. При этом капитан Лиддел Гарт является ревностным почитателем германской военной школы и издавна преклоняется перед военными талантами немецких полководцев.
Книга, о которой я говорю, посвящена описанию событий второй мировой войны. Она называется «По другую сторону холма» и была написана Лидделом Гартом главным образом на основании его бесед с гитлеровскими генералами и фельдмаршалами. Там, в этой книге, я нашёл несколько любопытных строк, относящихся к событиям обороны Брестской крепости. Лиддел Гарт вспоминает о своей встрече с одним из крупных офицеров гитлеровского вермахта, неким генерал-майором Блюментриттом, который в первые дни войны на советско-германском фронте занимал пост начальника штаба четвёртой немецкой армии, действовавшей в районе Бреста.
Вот что генерал Блюментритт сказал капитану Лидделу Гарту:
«Начальная битва в июне 1941 года впервые показала нам Красную Армию. Наши потери доходили до 50 процентов. ОГПУ и „женский батальон“ защищали старую крепость в Бресте больше недели, сражаясь до последнего, несмотря на тяжелейшие бомбёжки и обстрел из крупнокалиберных орудий. Там мы узнали, что значит сражаться по русскому способу».
Буквы «ОГПУ» здесь расшифровываются весьма просто. Совершенно ясно, что под этими буквами генерал Блюментритт подразумевает пограничников Брестской крепости.
Что же касается упоминания о «женском батальоне», то оно, конечно, является смехотворным, потому что подобных подразделений в Красной Армии, как известно, не было. Нет сомнения, что этот термин генерал Блюментритт употребил, имея в виду тех женщин, которые с оружием в руках сражались вместе с мужчинами в Брестской крепости. Это были жены, сестры, дочери наших советских командиров, отважно ставшие на защиту Родины плечом к плечу со своими мужьями, отцами и братьями.
Сохранился рассказ о подвиге молодой жены командира, комсомолки Кати Тарасюк. Сельская учительница, она незадолго до войны приехала в крепость, чтобы провести отпуск вместе с мужем.
Сначала Катя вместе с другими женщинами находилась в подвале, ухаживая за ранеными. Лейтенант Тарасюк в это время с группой бойцов отбивал атаки противника. Когда группа его поредела, Тарасюк сам лёг к станковому пулемёту. Он выбрал себе позицию у подножия большого развесистого дерева, и вражеские автоматчики каждый раз откатывались назад под его меткими очередями. По одинокому пулемёту вели огонь пушки и миномёты. Вся земля вокруг была изрыта снарядами и минами, осколки срезали ветви дерева, и вскоре от него остался только расщеплённый, изуродованный ствол. Но, весь израненный, Тарасюк продолжал стрелять, пока вражеская пуля не сразила его.
Пулемёт молчал недолго. Тарасюка заменил один из бойцов. Когда Катя узнала, что её муж погиб, она выбралась из подвала и поползла к расщеплённому дереву, откуда по-прежнему раздавался треск пулемёта. Вскоре и этот пулемётчик был убит. Тогда молодая женщина сама легла за щиток и вела огонь по врагу, пока её не поразил осколок вражеского снаряда. Обезображенное, искромсанное осколками дерево, у подножия которого погибла отважная пулемётчица, жители Бреста впоследствии прозвали «деревом войны».
Но были и другие женщины-воины – гнев и ненависть к врагу заставили их взяться за оружие.
С. М. Матевосян рассказал мне, как в первый день обороны полковой комиссар Фомин поручил ему с группой бойцов прорваться на трех бронемашинах в город и отвезти в штаб дивизии важные документы, захваченные у пленного немецкого офицера.
Добраться до города броневикам не удалось, так как гитлеровцы прочно блокировали все крепостные ворота. Но в поисках выхода из крепости Матевосян и его бойцы совершили продолжительную поездку по разным участкам обороны.
Проезжая неподалёку от домов комсостава в северной части крепости, они услышали там перестрелку. Оказалось, что отряд гитлеровских автоматчиков осадил эти дома, ведя непрерывный огонь по окнам, откуда в ответ раздавались скупые, расчётливые выстрелы.
По команде Матевосяна броневики развернулись и с тыла ударили по врагу из всех пулемётов, уничтожив и рассеяв отряд противника. И сразу же, выпрыгивая из окон, выбегая из дверей, навстречу своим освободителям с радостными криками бросились люди – наши бойцы, командиры, женщины и дети.
Среди них Матевосян увидел молодую женщину в нарядном цветастом платье, уже разорванном и окровавленном. На щеке у неё была глубокая царапина, и лицо залито кровью. В руках женщина сжимала немецкий автомат. Она бросилась к Матевосяну с криком:
– Товарищ командир, нет боеприпасов! Что нам делать?
Эта женщина, только что вышедшая из боя, где она дралась наравне с мужчинами, думала вовсе не о спасении, а прежде всего о том, чтобы продолжать борьбу.
Другой участник обороны Брестской крепости, бывший лейтенант Василий Соколов, в своём письме рассказывает о неизвестной девушке, которая в первый день прибежала в подвал 333-го стрелкового полка. Там, в подвале, она взяла винтовку одного из убитых бойцов и дралась всё время бок о бок с мужчинами, как рядовой стрелок.
Необычайную, поистине легендарную историю рассказывают в Бресте о какой-то женщине – одной из последних защитников крепости. Мне довелось слышать о ней от нескольких жителей города, в домах которых в 1941 году находились на постое немецкие солдаты.
Это было уже в сентябре или даже в октябре, когда крепость считалась давно взятой и полки поредевшей в штурмах 45-й дивизии, пополненные и ушедшие на фронт, заменили тыловыми частями, охранявшими крепостные склады. Но тыловики эти постоянно несли потери: из подземелий и подвалов развалин продолжали раздаваться внезапные выстрелы – последние защитники крепости ещё скрывались там и вели борьбу. Вот в это время и прошёл среди немцев слух о «кудлатой».
Солдаты, нёсшие службу в крепости, рассказывали, что в подземных убежищах до сих пор прячется женщина, вооружённая автоматом. Неожиданно она появляется то здесь, то там и открывает огонь, причём охранники с почти суеверным страхом говорили, что она не даёт промаха – каждая пуля её убивает врага. Потом она исчезает где-то под землёй, и так же неожиданно её выстрелы раздаются уже в другом месте. Все попытки поймать или убить её оставались тщетными.
По описанию немцев, вид этой женщины, насколько её удавалось разглядеть издали, был страшным. С запылённым, закопчённым лицом, в изодранной одежде, с волосами, давно не чёсанными и свалявшимися в колтун, она казалась им призраком из подземного мира, духом мести и смерти. И каждый раз, когда очередная команда солдат отправлялась на дежурство в крепость, немцы молились и желали друг другу не встретиться сегодня с этой женщиной, которую они называли «фрау мит автомат» или «кудлатая». Лишь во второй половине октября о ней перестали говорить – женщина уже не появлялась.
Кто же была она? Скорее всего, жена какого-нибудь командира – ведь до войны многие из них занимались военным делом, метко стреляли, умели обращаться с пулемётом. Быть может, на глазах у этой женщины погиб её муж, были убиты дети, и, охваченная жаждой мщения, она осталась там, в подземных лабиринтах крепости, чтобы заплатить врагу сторицей за своё горе, за беду, которую он принёс на её родную землю. Так это или нет, сказать трудно, и кто знает, станет ли когда-нибудь известно имя этой легендарной героини.
Словом, в крепости было немало женщин, сражавшихся с оружием в руках, но, к сожалению, мы пока ещё не знаем их фамилий.
Однако большинство бойцов этого «женского батальона», как окрестил его генерал Блюментритт, были безоружными и находились в крепостных подвалах. Там женщины вели свой бескровный, но не менее тяжёлый бой за жизнь своих детей в обстановке постоянной опасности, невыносимых трудностей и лишений. Они делали все, что могли, для спасения жизни раненых защитников крепости, взяв на себя заботливый, ласковый уход за ними.
Поистине героическую стойкость проявили бойцы этого «женского батальона». В мирное время верные спутницы и подруги командиров, они и в военной обстановке оказались достойными своих мужей и внесли свой большой вклад в оборону Брестской крепости.
Чего только не пришлось пережить этим женщинам!
В первые минуты войны мужья покинули их, и они остались одни со своими детьми, беззащитные среди сумасшедшего грохота взрывов, воя бомб, рёва самолётов, круживших над крепостью. Ни одна из них не попыталась задержать своего мужа – они знали, что теперь долг, более властный, чем обязанности отца и супруга, зовёт командиров туда, в казармы, где ждут их бойцы.
Эти женщины, прижимая к себе детей, под огнём бежали из домов, спеша укрыться в земляных валах крепости, в глубоких казематах, в подвалах. И многие из них, прежде чем они достигли спасительных убежищ, погибли там, во дворе крепости, под взрывами бомб и снарядов, под очередями гитлеровских пулемётов.
Для того чтобы вы хоть немного представили себе, что пережили эти женщины и дети в страшное утро 22 июня 1941 года, я расскажу вам одну историю, которую услышал ещё во время первой своей поездки в Брест. Это история маленького мальчика Алика Бобкова.
ИСТОРИЯ АЛИКА БОБКОВА
Младший лейтенант Александр Бобков был командиром роты 37-го отдельного батальона связи и вместе с семьёй жил в одном из домов комсостава в северной части Брестской крепости.
Как только раздались первые взрывы, он приказал жене одеть детей и решил по пути в роту отвести семью в находившееся поблизости убежище.
Собственно говоря, это было не убежище, а подземный склад, где хранились овощи, но в его глубине, под защитой надёжных, бетонированных сводов, жена и дети могли в безопасности переждать бомбёжку и обстрел.
Жена наспех завернула в одеяло грудную дочь, а отец взял за руку пятилетнего Алика, и под огнём они бросились бежать к этому складу. Когда они подбежали к его дверям, оказалось, что здесь уже собралось несколько командиров со своими жёнами и детьми. Однако проникнуть внутрь склада не удавалось, потому что на массивных дверях висел тяжёлый замок, который никак не могли сбить.
Все сгрудились тут, у дверей, и мужчины возились с замком, безуспешно стараясь сломать его. К счастью, над этими дверьми был устроен большой бетонный козырёк, который немного защищал столпившийся здесь народ от рвущихся неподалёку снарядов. Правда, по бокам козырёк был открыт, и поэтому осколки и шальные пули иногда свистели над головами людей.
Между тем наблюдатели противника с аэростатов, видимо, заметили толпу, скопившуюся у склада, и немецкая артиллерия начала обстреливать этот участок.
Один из снарядов сразу же разорвался в гуще толпы под козырьком. Этим взрывом были наповал убиты мать Алика Бобкова и маленькая сестра, а его отцу оторвало обе ноги. Мальчик тоже был ранен осколками.
Насмерть перепуганный Алик, крича и плача, бросился к самой двери подвала, пробираясь под ногами у людей, но в это время поблизости грохнули ещё два-три взрыва, и вся толпа в панике кинулась бежать прочь.
Под козырьком, около двери склада, остались лежать только несколько трупов, в том числе мать и сестрёнка Алика и его смертельно раненный отец, который то приходил в себя, то снова терял сознание.
Мальчик присел на землю около него. Он плакал, ему было больно и страшно, но всё-таки здесь рядом был отец…
Прошло немного времени, и вдруг мимо дверей этого склада пробежали трое гитлеровских солдат. Один из них на бегу бросил гранату под бетонный козырёк, туда, где находился Алик. Она, шипя, завертелась рядом с бесчувственным, окровавленным лейтенантом Бобковым, и мальчик, опершись на тело отца, широко раскрытыми глазами с любопытством смотрел, как волчком крутится эта граната с длинной деревянной ручкой. В этот момент лейтенант Бобков очнулся и отчаянным голосом крикнул сыну:
– Ложись!
Мальчик упал прямо на тело отца, головой к гранате.
Раздался взрыв. Этим взрывом лейтенант Бобков был убит, а Алик снова ранен множеством осколков.
К счастью, ни один осколок не попал ему в голову – все ранения пришлись в спину и в ноги.
Этим же самым взрывом был сбит замок, висевший на дверях склада, и двери распахнулись.
Тогда Алик, который уже не мог ходить, пополз туда, в сырую подземную темноту склада.
Мальчик потерял много крови и был очень слаб. Ему мучительно хотелось пить, и он долго ползал по мокрому, холодному, бетонному полу в поисках воды. Там оказались какие-то лужи, но, когда он пробовал пить из них, вода имела солёный привкус. Здесь, видимо, был разлит овощной рассол.
Потом Алику удалось отыскать в одном из углов подвала несколько кусочков льда, и он, пососав их, немного утолил жажду. Он был совершенно измучен, время от времени терял сознание, ему хотелось только найти сухое место и прилечь. Наконец он заполз на какую-то доску и лёг там.
Сколько дней пробыл он в этом подвале – неизвестно. Он очнулся, не в силах даже пошевелиться, молча глядя на видневшийся вдали светлый прямоугольник двери. Потом в этом прямоугольнике появился тёмный силуэт человека, и кто-то вошёл в подвал. Зажёгся карманный фонарик, и лучик его забегал по стенам, подкрадываясь все ближе, пока не осветил Алика. Мальчик лежал неподвижно, слегка прижмурив глаза. Тогда человек нагнулся и поднял его на руки.
Это был немецкий солдат, который зашёл сюда осмотреть подвал. Он понёс мальчика к выходу, а Алик, обняв руками его шею, рассказывал немцу о том, как убили его отца, как погибли мать и сестрёнка.
Солдат вынес Алика во двор. Трупы уже были убраны, и только высохшие пятна крови ещё оставались на бетонном полу у входа в подвал.
Немец поставил мальчика на землю, но Алик, вконец обессиленный, не мог держаться на ногах и тут же упал ничком.
Тогда солдат поднял его и понёс к санитарной машине, стоявшей поодаль. Алика отвезли в городскую больницу в Брест.
Можно себе представить, сколько ранений оказалось на теле мальчика, если после того, как ему сделали в больнице перевязку, у него остались незабинтованными только часть одной руки и голова. Все тело сплошь было закрыто бинтами.
Алик провёл в больнице четырнадцать месяцев. Он вышел оттуда только осенью 1942 года.
Потом он жил у своей дальней родственницы, а когда Брест был освобождён, воспитывался в детском доме вместе с дочерьми капитана Шабловского.
Когда я встретил Алика Бобкова в 1954 году, это был уже молодой человек, высокий, худой, бледный и очень застенчивый, словно то, что он пережил мальчиком там, в Брестской крепости, на всю жизнь оставило печать на его характере.
В то время, когда мы познакомились, он заканчивал вместе с Таней Шабловской фельдшерскую школу в Бресте. А сейчас уже не Алик, а Александр Александрович Бобков окончил Минский медицинский институт и приехал работать врачом на столь памятную ему Брестщину. Он заведует теперь врачебным участком в селе Гостынь Лунинецкого района Брестской области.
Я понимаю, что рассказал очень тяжёлую, мрачную историю. Быть может, кто-нибудь из читателей скажет мне: зачем бередить старые раны, зачем вспоминать о тех страшных, полных ужасов и крови днях сейчас, в мирное время?
Но имеем ли мы право забывать, что стоили нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение предательством перед памятью павших воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших детей?
Этого нельзя забывать во имя нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны…
ПОД ВЛАСТЬЮ ВРАГА
Вместе с детьми и тяжелоранеными женщины укрылись в глубоких подземных казематах, в бетонированных крепостных подвалах. Но при всей относительной безопасности этих убежищ безвыходно находиться в них было едва ли не более трудно, чем оставаться там, наверху, где на развалинах, среди огня и смерти, яростно дрались защитники крепости.
Там, наверху, люди активно действовали, боролись, глядя в лицо опасности, встречая её грудью. Бешеное напряжение этой борьбы прогоняло ощущение страха, забирало все силы мускулов и нервов, не оставляя времени и места для переживаний.
Обитатели подвалов, наоборот, были обречены на вынужденное бездействие. Здесь царила атмосфера мучительной неизвестности, глухой безысходной тревоги, напряжённого, тоскливого ожидания. Стоны раненых, плач детей тонули в тяжком грохоте, колебавшем массивные своды. Порой близкие взрывы авиабомб так встряхивали эти подземные коробки, что трескались бетонные полы подвалов и от мощного воздушного удара у людей шла кровь из носа и ушей.
Напрягая слух, женщины жадно ловили долетающие в подвал звуки боя, стараясь угадать, что происходит наверху. Каждый раз бомбёжка или обстрел крепости из крупнокалиберных орудий заставляли их дрожать за жизнь детей и за свою участь в ежеминутном ожидании того, что прямое попадание бомбы или снаряда похоронит их под обломками этих тяжёлых сводов. Больно сжимали сердце тревожные мысли о судьбе мужей, ведущих бой, и в бессильном отчаянии наблюдали они, как слабеют их дети и смерть от голода и жажды все ближе подступает к ним.