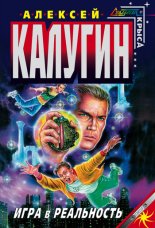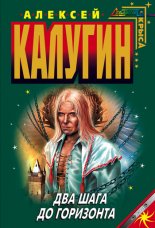Брестская крепость Смирнов Сергей
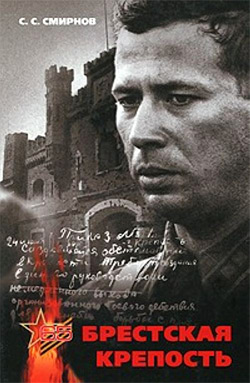
Ему было всего тридцать два года, и он ещё многого ждал от жизни. У него была дорогая его сердцу семья, сын, которого он очень любил, и тревога за судьбу близких всегда неотступно жила в его памяти рядом со всеми заботами, горестями и опасностями, что тяжко легли на его плечи с первого дня обороны крепости.
Вскоре после того как начался обстрел, Фомин вместе с Матевосяном сбежал по лестнице в подвал под штабом полка, где к этому времени уже собралось сотни полторы бойцов из штабных и хозяйственных подразделений. Он едва успел выскочить из кабинета, куда попал зажигательный снаряд, и пришёл вниз полураздетым, как застала его в постели война, неся под мышкой своё обмундирование. Здесь, в подвале, было много таких же полураздетых людей, и приход Фомина остался незамеченным. Он был так же бледен, как другие, и так же опасливо прислушивался к грохоту близких взрывов, сотрясавших подвал. Он был явно растерян, как и все, и вполголоса расспрашивал Матевосяна, не думает ли он, что это рвутся склады боеприпасов, подожжённые диверсантами. Он как бы боялся произнести последнее роковое слово – «война».
Потом он оделся. И как только на нём оказалась комиссарская гимнастёрка с четырьмя шпалами на петлицах и он привычным движением затянул поясной ремень, все узнали его. Какое-то движение прошло по подвалу, и десятки пар глаз разом обратились к нему. Он прочёл в этих глазах немой вопрос, горячее желание повиноваться и неудержимое стремление к действию. Люди видели в нём представителя партии, комиссара, командира, они верили, что только он сейчас знает, что надо делать. Пусть он был таким же неопытным, необстрелянным воином, как они, таким же смертным человеком, внезапно оказавшимся среди бушующей грозной стихии войны! Эти вопрошающие, требовательные глаза сразу напомнили ему, что он был не просто человеком и не только воином, но и комиссаром. И с этим сознанием последние следы растерянности и нерешительности исчезли с его лица, и обычным спокойным, ровным голосом комиссар отдал свои первые приказания.
С этой минуты и до конца Фомин уже никогда не забывал, что он – комиссар. Если слезы бессильного гнева, отчаяния и жалости к гибнущим товарищам выступали у него на глазах, то это было только в темноте ночи, когда никто не мог видеть его лица. Люди неизменно видели его суровым, но спокойным и глубоко уверенным в успешном исходе этой трудной борьбы. Лишь однажды в разговоре с Матевосяном в минуту краткого затишья вырвалось у Фомина то, что он скрывал ото всех в самой глубине души.
– Всё-таки одинокому умирать легче, – вздохнув, тихо сказал он комсоргу. – Легче, когда знаешь, что твоя смерть не будет бедой для других.
Больше он не сказал ничего, и Матевосян в ответ промолчал, понимая, о чём думает комиссар.
Он был комиссаром в самом высоком смысле этого слова, показывая во всём пример смелости, самоотверженности и скромности. Уже вскоре ему пришлось надеть гимнастёрку простого бойца: гитлеровские снайперы и диверсанты охотились прежде всего за нашими командирами, и всему командному составу было приказано переодеться. Но и в этой гимнастёрке Фомина знали все, – он появлялся в самых опасных местах и порой сам вёл людей в атаки. Он почти не спал, изнывал от голода и жажды, как и его бойцы, но воду и пищу, когда их удавалось достать, получал последним, строго следя, чтобы ему не вздумали оказать какое-нибудь предпочтение перед другими.
Несколько раз разведчики, обыскивавшие убитых гитлеровцев, приносили Фомину найденные в немецких ранцах галеты или булочки. Он отправлял все это в подвалы – детям и женщинам, не оставляя себе ни крошки. Однажды мучимые жаждой бойцы выкопали в подвале, где находились раненые, небольшую ямку-колодец, дававшую около стакана воды в час. Первую порцию этой воды – мутной и грязной – фельдшер Милькевич принёс наверх комиссару, предлагая ему напиться.
Был жаркий день, и вторые сутки во рту Фомина не было ни капли влаги. Высохшие губы его растрескались, он тяжело дышал. Но когда Милькевич протянул ему стакан, комиссар строго поднял на него красные, воспалённые бессонницей глаза.
– Унесите раненым! – хрипло сказал он, и это было сказано так, что возражать Милькевич не посмел.
Уже в конце обороны Фомин был ранен в руку при разрыве немецкой гранаты, брошенной в окно. Он спустился в подвал на перевязку. Но когда санитар, около которого столпились несколько раненых бойцов, увидев комиссара, кинулся к нему, Фомин остановил его.
– Сначала их! – коротко приказал он. И, присев на ящик в углу, ждал, пока до него дойдёт очередь.
Долгое время участь Фомина оставалась неизвестной. О нём ходили самые разноречивые слухи. Одни говорили, что комиссар убит во время боев в крепости, другие слышали, что он попал в плен. Так или иначе, никто не видел своими глазами ни его гибели, ни его пленения, и все эти версии приходилось брать под вопрос.
Судьба Фомина выяснилась только после того, как мне удалось найти в Бельском районе Калининской области бывшего сержанта 84-го стрелкового полка, а ныне директора средней школы, Александра Сергеевича Ребзуева. Сержант Ребзуев 29 и 30 июня оказался вместе с полковым комиссаром в одном из помещений казармы, когда гитлеровские диверсанты подорвали взрывчаткой эту часть здания. Бойцы и командиры, находившиеся здесь, в большинстве своём были уничтожены этим взрывом, засыпаны и задавлены обломками стен, а тех, кто ещё остался жив, автоматчики вытащили полуживыми из-под развалин и взяли в плен. Среди них были комиссар Фомин и сержант Ребзуев.
Пленных привели в чувство и под сильным конвоем погнали к Холмским воротам. Там их встретил гитлеровский офицер, хорошо говоривший по-русски, который приказал автоматчикам тщательно обыскать каждого из них.
Все документы советских командиров были давно уничтожены по приказу Фомина. Сам комиссар был одет в простую солдатскую стёганку и гимнастёрку без знаков различия. Исхудалый, обросший бородой, в изодранной одежде, он ничем не отличался от других пленных, и бойцы надеялись, что им удастся скрыть от врагов, кем был этот человек, и спасти жизнь своему комиссару.
Но среди пленников оказался предатель, который не перебежал раньше к врагу, видимо, только потому, что боялся получить пулю в спину от советских бойцов. Теперь наступил его час, и он решил выслужиться перед гитлеровцами. Льстиво улыбаясь, он выступил из шеренги пленных и обратился к офицеру.
– Господин офицер, вот этот человек не солдат, – вкрадчиво сказал он, указывая на Фомина. – Это комиссар, большой комиссар. Он велел нам драться до конца и не сдаваться в плен.
Офицер отдал короткое приказание, и автоматчики вытолкнули Фомина из шеренги. Улыбка сползла с лица предателя – воспалённые, запавшие глаза пленных смотрели на него с немой угрозой. Один из немецких солдат подтолкнул его прикладом, и, сразу стушевавшись и блудливо бегая глазами по сторонам, предатель снова стал в шеренгу.
Несколько автоматчиков по приказу офицера окружили комиссара кольцом и повели его через Холмские ворота на берег Мухавца. Минуту спустя оттуда донеслись очереди автоматов.
В это время недалеко от ворот на берегу Мухавца находилась ещё одна группа пленных – советских бойцов. Среди них были и бойцы 84-го полка, сразу узнавшие своего комиссара. Они видели, как автоматчики поставили Фомина у крепостной стены, как комиссар вскинул руку, что-то крикнул, но голос его тотчас же был заглушён выстрелами.
Остальных пленных спустя полчаса под конвоем вывели из крепости. Уже в сумерки их пригнали к небольшому каменному сараю на берегу Буга и здесь заперли на ночь. А когда на следующее утро конвоиры открыли двери и раздалась команда выходить, немецкая охрана недосчиталась одного из пленных. В тёмном углу сарая на соломе валялся труп человека, который накануне предал комиссара Фомина. Он лежал, закинув назад голову, страшно выпучив остекленевшие глаза, и на горле его были ясно видны синие отпечатки пальцев. Это была расплата за предательство.
Такова история гибели Ефима Фомина, славного комиссара Брестской крепости, воина и героя, верного сына партии коммунистов, одного из главных организаторов и руководителей легендарной обороны.
Подвиг его высоко оценен народом и правительством – Указом Президиума Верховного Совета СССР Ефим Моисеевич Фомин посмертно награждён орденом Ленина, и выписка из этого Указа, как драгоценная реликвия, хранится сейчас в новой квартире в Киеве, где живут жена и сын погибшего комиссара.
А в Брестской крепости, неподалёку от Холмских ворот, к изрытой пулями стене казармы прибита мраморная мемориальная доска, на которой написано, что здесь полковой комиссар Фомин смело встретил смерть от рук гитлеровских палачей. И многочисленные экскурсанты, посещающие крепость, приходят сюда, чтобы возложить у подножия стены венок или просто оставить около этой доски букетик цветов – скромную дань народной благодарности и уважения к памяти героя.
БОЕВОЙ КОМАНДИР ЦИТАДЕЛИ
В довоенной квартире Зубачевых, в одном из домов комсостава, стоявших у входа в крепость, висела на стене уже слегка пожелтевшая фотография, изображающая четверых чубатых красноармейцев в лихо заломленных набок, измятых фуражках с красными звёздами и во френчах явно трофейного происхождения. В одном из этих бойцов – весело и простодушно улыбающемся кряжистом парне с большими сильными руками, которые далеко высовывались из коротких рукавов френча, – можно было лишь с трудом узнать хозяина дома, капитана Ивана Николаевича Зубачева.
Больше двадцати лет было тогда этой фотографии – памяти о том времени, когда крестьянский сын Иван Зубачев из маленького подмосковного села близ Луховиц ушёл добровольцем на фронт гражданской войны и сражался на Севере против американских и английских интервентов. Эти двадцать лет недаром положили на простодушное, открытое лицо полуграмотного крестьянского парня отпечаток ума и воли, твёрдого характера и богатого жизненного опыта – слишком многое вместилось в них. От рядового бойца, коммуниста, вступившего в ряды партии там, на фронте, до секретаря волостного, а потом Коломенского уездного партийного комитета и до кадрового командира Красной Армии, руководившего стрелковым батальоном в боях на финском фронте, – таков был путь, пройденный за эти годы Иваном Зубачевым.
Третий батальон 44-го стрелкового полка во главе с капитаном Зубачевым на Карельском перешейке показал себя как вполне надёжное боевое подразделение, а сам комбат пользовался среди товарищей славой волевого и решительного командира. Строгий и требовательный во всём, что касалось службы, Зубачев в то же время был по-дружески прост и душевен в обращении с бойцами, а перед начальством не робел и всегда держал себя достойно и независимо.
Всем в дивизии был памятен случай, который произошёл с ним на осенних учениях 1940 года. Учения эти происходили в приграничных районах, и на них съехалось все армейское начальство во главе с командующим армией генералом В. И. Чуйковым, впоследствии прославленным героем битвы на Волге и одним из крупных полководцев Великой Отечественной войны, 44-й полк под командованием Гаврилова получил тогда высокую оценку и вышел на первое место в 42-й дивизии.
Это было в последний день, когда учения уже подходили к концу. Шло показательное наступление на высоту, занятую условным противником. Стоя на пригорке вместе со своим, заместителем и старшим адъютантом батальона, Зубачев пристально следил за ходом наступления. Он только что отдал приказание развернуть батальон в боевой порядок и сейчас сердито выговаривал старшему адъютанту за то, что роты, по его мнению, продвигаются недостаточно энергично. Поглощённый тем, что происходит в цепях стрелков, Зубачев не заметил, как сзади, с гребня высокого холма, откуда группа командиров верхом на конях наблюдала всю картину условного боя, в его сторону поскакали два всадника. Он обернулся, лишь когда услыхал топот копыт за спиной.
Передний всадник, в кожаной куртке без знаков различия и в простой командирской фуражке, круто осадил коня около капитана.
– Почему рано развернули батальон?! – раздражённо закричал он.
Зубачев решил, что этот верховой – кто-то из командиров штаба дивизии, по собственной инициативе вздумавший проявить свою власть и вмешаться в действия комбата. И без того раздосадованный медлительностью атакующих рот, капитан был выведен из себя замечанием незнакомого командира.
– Не мешайте командовать батальоном! – твёрдо, со злостью в голосе сказал он. – Я здесь хозяин и за все отвечаю перед командованием. Ступайте отсюда прочь!
В тот же момент статная горячая лошадь незнакомца затанцевала на месте, и всадник нагнулся, чтобы успокоить коня. При этом движении в вороте его кожанки показалась петлица с генеральским ромбом. Зубачев и его товарищи тотчас же догадались, что перед ними командующий армией генерал Чуйков.
– Виноват, товарищ генерал, – поспешно проговорил Зубачев. – Я не видел ваших знаков различия.
Он стоял вытянувшись, но без страха и смущения глядел в лицо командарма, готовый к разносу, который сейчас должен последовать. Но Чуйков неожиданно улыбнулся широко и добродушно.
– Правильно, капитан! – с ударением сказал он. – Ты здесь хозяин и никогда не позволяй незнакомым людям вмешиваться в твоё дело. А батальон всё-таки развернул рановато. Надо было чуть-чуть выждать.
И, повернув коня, он поскакал обратно, сопровождаемый адъютантом. Уже на командном пункте, спрыгнув с лошади, Чуйков сказал командиру дивизии генералу Лазаренко:
– С характером этот ваш комбат. Отбрил меня начисто. Ничего, я люблю волевых людей. Человек волевой – командир боевой!
Эти слова командарма стали известны всей дивизии, и за Зубачевым ещё больше упрочилась репутация человека твёрдого и прямодушного.
Вскоре после осенних учений в войсках с огорчением узнали, что В. И. Чуйков отозван в штаб округа, где получил новое назначение, а на его место прибыл другой генерал. А ещё несколько месяцев спустя 42-я дивизия из района Берёзы-Картузской, где она стояла, была переведена в окрестности Бреста и в Брестскую крепость. Там, в крепости, капитан Зубачев тоже получил новое назначение – майор Гаврилов выдвинул его на должность своего заместителя по хозяйственной части.
Всегда дисциплинированный и исполнительный, Зубачев с головой погрузился в хлопотливые дела снабжения полка боеприпасами, продовольствием, фуражом, обмундированием. Новая должность считалась более высокой и давала известные материальные преимущества. Да и нелегко было капитану в его сорок четыре года командовать батальоном. И всё же душа у него решительно не лежала к хозяйственной деятельности. Уже вскоре он пришёл к комиссару полка Артамонову.
– Не выходит из меня интенданта, товарищ комиссар, – признался он. – Я же строевой командир по натуре. Поговорите с майором, чтобы отпустил назад, в батальон.
А Гаврилов только отшучивался, но назад не отпускал. И не знал Иван Николаевич Зубачев, при каких обстоятельствах суждено ему снова вернуться к своей привычной командирской работе – уже в страшных условиях окружённой врагом и сражающейся насмерть Брестской крепости.
Впервые фамилия Зубачева стала известна нам из обрывков «Приказа №1», найденных в развалинах крепости. Вскоре после этого оказалось, что в местечке Жабинке Брестский области живёт вдова капитана – Александра Андреевна Зубачева. От неё были получены фотографии героя и биографические сведения о нём. Но рассказать что-либо о действиях Зубачева в дни обороны крепости она, конечно, не могла: капитан с первыми взрывами поспешил к бойцам, даже не успев попрощаться с семьёй – женой и двумя подростками-сыновьями. Они не знали о нём больше ничего.
Только в 1956 году в одном из колхозов близ города Вышнего Волочка Калининской области был обнаружен участник обороны, в прошлом лейтенант, а ныне пенсионер, Николай Анисимович Егоров, который в первые часы войны находился в крепости вместе с Зубачевым. От него мы узнали, куда попал капитан после того, как ушёл из дому.
Н. А. Егоров был в своё время старшим адъютантом того самого батальона, которым командовал Зубачев, но весной 1941 года он получил назначение на должность помощника начальника штаба полка. Война застала его на своей квартире в деревне Речице, рядом с Брестской крепостью. Услышав взрывы, Егоров наскоро оделся, схватил пистолет и побежал в штаб полка.
Ему удалось благополучно проскочить северные входные ворота крепости и мост через Мухавец, находившийся под сильным артиллерийским и пулемётным обстрелом. Но, едва вбежав в правый туннель трехарочных ворот, он почти столкнулся с тремя немецкими солдатами в касках. Они неожиданно появились со стороны крепостного двора. На бегу вскинув автомат, первый солдат крикнул лейтенанту: «Хальт!»
В правой стене туннеля была дверь. Егоров трижды выстрелил из пистолета в набегавших врагов и метнулся туда. Вслед ему под сводами туннеля прогремела очередь.
Помещение, куда вбежал Егоров, было кухней 455-го полка. Большую часть его занимала широкая кухонная плита. Одним прыжком лейтенант кинулся в дальний угол комнаты и присел за плитой, низко пригнувшись. Это было сделано вовремя – следом за ним в кухню влетела немецкая граната и разорвалась посреди помещения. Плита защитила Егорова от взрыва – он остался невредимым. Немцы не решились войти в помещение, и он слышал, как они, стуча сапогами, пробежали дальше.
Немного переждав, он поднялся. В стене кухни была дверь в соседнюю комнату. Он вошёл туда и увидел открытый люк, ведущий в подвал. Из подвала доносился приглушённый говор. Он начал спускаться по крутой лестничке, и тотчас же знакомый голос окликнул: «Кто идёт?» Егоров узнал своего бывшего командира – капитана Зубачева.
Вместе с Зубачевым в подвале оказались какой-то старшина и несколько бойцов. Егоров принялся расспрашивать капитана об обстановке. Но тот откровенно признался, что сам ещё ничего не знает и всего несколько минут назад прибежал сюда из дому.
– Вот кончится артподготовка, пойдём отбивать фашистов, и все станет ясно, – сказал он и уверенно добавил: – Ничего, отобьём!
В помещение над подвалом, видимо, попал зажигательный снаряд. Оно горело, и дым начал проникать вниз. Стало трудно дышать.
Единственное окно подвала, выходившее на берег Мухавца около самого моста, было забито досками. Бойцы принялись отдирать их. И как только окно открылось и в подвал хлынул свежий воздух, все услышали совсем близко торопливый говор немцев. Враги были где-то рядом.
Зубачев подошёл к окну, внимательно прислушался.
– Это, верно, под мостом, – сказал он. – Похоже, что они разговаривают по телефону.
Он осторожно выглянул из этого маленького окошка, находившегося на уровне земли. В самом деле, в нескольких метрах правее, на откосе берега, круто спускающемся к реке, под настилом моста, у полевого телефона лежали два гитлеровских солдата. Красная нитка провода уходила под воду и на том берегу тянулась куда-то в сторону расположения 125-го полка. Видимо, это были немецкие диверсанты, ещё ночью установившие здесь аппарат и теперь корректировавшие огонь врага по крепости.
– Надо сейчас же снять их, – сказал Зубачев. – Егоров, бери двух бойцов и заходи с той стороны моста. Ты, старшина, с двумя людьми атакуешь отсюда. Подползайте ближе и, как только Егоров свистнет, врывайтесь под мост!
Немцы, казалось, чувствовали себя в полной безопасности. Увлечённые телефонным разговором, они не заметили, как Егоров и старшина в сопровождении красноармейцев подползли к ним с обеих сторон. Потом Егоров вложил два пальца в рот, пронзительно свистнул, и все кинулись вперёд. Немцы даже не успели схватить своих автоматов, лежавших возле них на траве. Телефонисты были мгновенно уничтожены, провода оборваны и аппарат брошен в реку. Но артиллерия врага тут же среагировала на это внезапное прекращение связи, и огонь по мосту сразу усилился. Неся с собой трофейные автоматы, Егоров с бойцами кинулись к окну и спустились в подвал.
Немного позже, когда огонь врага стал ослабевать, Зубачев вывел людей наверх. Отправив одного из бойцов на разведку в сторону 84-го полка, он обернулся к Егорову.
– Пробирайся назад через мост к нашим домам комсостава, – приказал он. – Возможно, майор Гаврилов и комиссар ещё там. Если не найдёшь их, установи связь с подразделениями, которые там дерутся, и возвращайся сюда. Встретимся около штаба или в полковой школе – я иду туда.
Час спустя Егоров с трудом добрался до района домов комсостава. Не найдя там никого, он в конце концов пришёл на участок у восточных ворот, где сражались под командованием Нестерчука артиллеристы 98-го противотанкового дивизиона. Вернуться оттуда он уже не смог – немцы вышли к мосту через Мухавец и отрезали путь в цитадель. А на другой день он был тяжело ранен и уже не встретился с Зубачевым.
Судя по всему, в первый и второй день обороны капитан Зубачев сражался на участке 44-го и 455-го полков. А на третий день, 24 июня, он оказался уже по другую сторону трехарочных ворот, в казармах 33-го инженерного полка, куда в это время уже перешли основные силы группы Фомина. Именно тогда в одном из подвалов этих казарм во время бомбёжки собрались на совещание командиры и был написан «Приказ №1».
Здесь, на совещании, среди командиров возник спор, что должен делать гарнизон: пробиваться сквозь кольцо врага к своим или оборонять крепость. Говорят, Зубачев с необычайной горячностью выступил против того, чтобы уходить. «Мы не получали приказа об отходе и должны защищать крепость, – доказывал он. – Не может быть, чтобы наши ушли далеко – они вернутся вот-вот, и, если мы оставим крепость, её снова придётся брать штурмом. Что мы тогда скажем нашим товарищам и командованию?»
Он говорил с такой решительностью, с такой верой в скорое возвращение наших войск, что убедил остальных командиров, и по его настоянию из «Приказа №1» вычеркнули слова: «Для немедленного выхода из крепости». Решено было продолжать оборону центральной цитадели, и Зубачев стал её главным организатором и руководителем.
Правда, уже вскоре и он, и Фомин, и другие командиры поняли, что фронт ушёл далеко и нельзя рассчитывать на освобождение из осады. Планы пришлось изменить – гарнизон теперь предпринимал попытки вырваться из кольца, и Зубачев стал таким же энергичным организатором боев на прорыв, хотя они и не приносили успеха, – враг имел слишком большой перевес в силах.
Капитан особенно подружился в эти дни с Фоминым. Такие разные по характеру, они как бы дополняли друг друга, эти два человека, – решительный, горячий, боевой командир и вдумчивый, неторопливый, осторожный комиссар, смелый порыв и трезвый расчёт, воля и ум обороны. Их почти всегда видели вместе, и каждое новое решение командования было их совместным обдуманным и обсуждённым решением. Даже ранены они были одновременно: Фомин – в руку, а Зубачев – в голову, когда немецкая граната, влетевшая в окно, разорвалась в помещении штаба. А два дня спустя оба – и командир и комиссар – вместе попали в плен, придавленные обвалом с группой своих бойцов. Но если Фомин, выданный предателем, был тут же расстрелян, то Зубачев остался неузнанным, и его с бойцами отправили в лагерь.
О дальнейшей судьбе Зубачева мне удалось узнать, лишь когда был найден майор Гаврилов. Оказалось, что он встретился со своим бывшим заместителем в 1943 году в офицерском лагере Хаммельсбурге в Германии. От одного из пленных Гаврилов узнал, что Зубачев содержится в соседнем блоке лагеря, и попросил подозвать его к проволоке.
Зубачев пришёл, и эти два человека, старые коммунисты, участники гражданской войны, боевые советские командиры, сейчас измученные, измождённые, оборванные и униженные выпавшей им судьбой, стояли по обе стороны колючей проволоки и, глядя друг на друга, горько плакали. И сквозь слёзы Гаврилов сказал:
– Да, Зубачев, не оправдали мы с тобой своих должностей. И командир и его заместитель – оба оказались в плену.
В это время появился часовой, и им пришлось разойтись. Гаврилов заметил, что Зубачев идёт с трудом – он, видимо, был истощён до крайности и болен.
А ещё позднее от одного бывшего узника Хаммельсбурга стало известно, что Зубачев заболел в плену туберкулёзом, умер в 1944 году и был похоронен там, в лагере, своими товарищами-пленными. Только год не дожил он до той победы, в которую так верил с первых часов войны и до последних дней своей жизни.
ДРУЗЬЯ-КРАСНОДАРЦЫ
Жили на окраинной улочке города Краснодара три друга Владимир Пузаков, Анатолий Бессонов и Николай Гайворонский. В детстве это были обычные городские мальчишки, озорные, драчливые, всегда готовые на какие-нибудь отчаянные предприятия, большие любители поиграть в футбол на дворе, посвистеть на стадионе во время матча, поплавать и понырять в Кубани, слазить тайком в чужой сад за яблоками.
Выросли они на одной улице, учились все трое в одной школе, свободное время проводили всегда вместе, а когда подросли, то так же вместе поступили работать на один и тот же завод. Потом пришёл для них срок идти в армию, и трое друзей оказались в Брестской крепости в мастерской по ремонту оружия 44-го стрелкового полка.
Дружбе их вовсе не мешало то обстоятельство, что все трое выросли людьми очень разных характеров, совсем непохожими друг на друга. Нервный, вспыльчивый, склонный к меланхолии, труднее всех переносивший разлуку с семьёй, Анатолий Бессонов казался прямой противоположностью спокойному, невозмутимому Владимиру Пузакову, отличному спортсмену, капитану полковой футбольной команды, которому нипочём были и многокилометровые походы, и военные кроссы с полной выкладкой. А Николай Гайворонский, ещё с детских лет сохранивший смешное прозвище «Маня», весельчак, любитель кино и тоже хороший спортсмен, был как бы золотой серединой между своими такими разными друзьями.
Они и в армии все делали вместе, как, бывало, дома, в Краснодаре. И трудно сказать, кому из троих первому пришла в голову идея сконструировать учебную пушку для тренировки орудийных расчётов так, чтобы не тратить на это обучение снарядов.
Идею эту, довольно остроумную, они разработали втроём с помощью старшего оружейного мастера старшины Котолупенко и, представив командиру полка майору Гаврилову маленький чертёж своего изобретения, заинтересовали его. Троим оружейникам было приказано осуществить их замысел в мастерской, а потом испытать учебное орудие в присутствии командиров.
Две недели они мастерили, вытачивали, подгоняли детали своей пушки. И вот наконец новое орудие было готово. В субботу, 21 июня, друзья опробовали своё детище в мастерской, а на следующий день предстояли уже официальные испытания на полигоне. Всё шло хорошо, и можно было надеяться после испытаний получить поощрение от командования – денежную премию, а то и краткосрочный отпуск домой, о котором мечтали все трое.
Казалось, такие приятные перспективы должны бы породить у них самое радужное настроение. Но если Пузаков и Гайворонский были веселы и полны радостных надежд, то Анатолий Бессонов к вечеру неожиданно захандрил и в ответ на расспросы товарищей признавался, что и сам не понимает, отчего у него стало так тяжело и тоскливо на душе.
Человеческие предчувствия ещё не объяснены наукой, но, как бы то ни было, они существуют, и в первую очередь им подвержены люди нервные, неуравновешенные, легковосприимчивые. И не один Анатолии Бессонов, а и многие другие защитники Брестской крепости рассказывали мне о странном ощущении, которое испытали они в тот последний предвоенный вечер 21 июня 1941 года.
Он был удивительно мирным и тихим, этот предательский вечер. Сонно мигали с глубокого чёрного неба по-летнему крупные звезды. В теплом безветренном воздухе стоял тонкий запах жасмина, цветущие кусты которого смутно белели над Мухавцом. Безмятежным ленивым покоем было полно все вокруг. И это вовсе не походило на предгрозовое затишье – природа не ждала грозы.
Почему же тогда многие люди в тот вечер пережили необъяснимое чувство подавленности, глухой и безысходной тоски, с какими нередко приходит к человеку сознание близкой беды? Не потому ли, что подобно тому, как животные заранее реагируют на приближение бури или землетрясения, люди инстинктивно ощущали близость той чёрной грозовой тучи войны, которая этим лицемерно мирным вечером собиралась совсем рядом, за Бугом, на зелёных лугах и в прибрежном кустарнике, где, завершая последние приготовления, деловито хлопотали у пушек немецкие артиллеристы? Словно чувствовали эти люди, что воздух в крепости пропитан не только сладким запахом жасмина, но и особым электричеством будущей военной четырехлетней грозы, чьи первые смертельные молнии должны были блеснуть на рассвете.
Именно такое ощущение испытал в тот вечер Анатолий Бессонов. Беспричинная тоска сжимала сердце, вспоминались дом, родные, и все вокруг казалось мрачным и безнадёжным.
Он даже не пошёл вместе с Гайворонским в кино, хотя показывали «Чкалова» – фильм, который ему давно хотелось посмотреть. Правда, Пузаков тоже отказался идти – он уже видел эту картину. Они вдвоём побродили по крепости, посидели на берегу Мухавца, слушая доносившуюся сюда музыку – в клубе инженерного полка были танцы, – и рано отправились спать. Уже перед рассветом Бессонов проснулся и вышел во двор казармы покурить. Вокруг было почему-то непривычно темно: даже в окне караульного помещения не горел свет и потухла красная звезда на верхушке Тереспольской башни, которая обычно светила всю ночь.
Прошёл сержант, дежуривший при штабе, остановился, заметив малиновый огонёк папироски, и, вглядевшись в лицо Бессонова, узнал его.
– Вот черт, свет не горит во всей крепости, – пожаловался он. – Наверно, на станции авария.
Но это была не авария. Переодетые немецкие диверсанты уже действовали в крепости и перерезали осветительный кабель – до войны оставался какой-нибудь час.
Бессонов вернулся в казарму и опять заснул. А потом наступило страшное пробуждение среди грохота взрывов, криков и стонов раненых, среди дыма пожаров и белой известковой пыли рушившихся стен и потолков. Полуодетые, они вместе с другими бестолково метались по казарме, ища спасения от огня и смерти, пока сюда не прибежал старшина Котолупенко, который взял на себя командование и кое-как навёл порядок.
И тогда они заметили, что их только двое. С ними не было Николая Гайворонского. Они бросились назад – туда, где спали, и нашли его на своей койке. Он сидел согнувшись, держась обеими руками за живот, и глаза у него были умоляющие и испуганные.
Они положили его и осмотрели рану. Осколок распорол живот, но, видимо, не вошёл внутрь – рана была не очень большой и казалась неглубокой. Бинтов не нашлось, они сняли с одного из убитых бойцов рубашку и туго перетянули рану. Оказалось, что с этой перевязкой Гайворонский может не только стоять, но даже ходить. Он сразу повеселел, взял винтовку и присоединился к остальным бойцам.
И начались страшные дни и ночи крепостной обороны, где время иногда тянулось бесконечно долго в ожидании своих, а иногда неслось вскачь в бешенстве боев, перестрелок, рукопашных схваток. Они то вели огонь из окон подвалов, отбивая немецкие атаки, то с хриплым «ура!» стремительно бежали вслед за отступающими автоматчиками, яростно работая на бегу штыками, то с замирающим сердцем, затаив дыхание, вжимались в землю среди адова грохота бомбёжек, то в минуты затишья ползали по двору, усеянному обломками и трупами, отыскивая патроны и еду в немецких ранцах. И они всё время были втроём, как и раньше, и Николай Гайворонский не отставал от товарищей – рана его хоть и побаливала, но не мешала ему двигаться. Он так и ходил с перетянутым рубашкой животом и даже участвовал в штыковых контратаках.
На третий день они, лёжа в развалинах на берегу Мухавца, попали под огонь немецкого снайпера. Немец нашёл какую-то очень выгодную позицию – он, судя по всему, просматривал большой участок казарм 44-го и 455-го полков. Стоило кому-нибудь неосторожно высунуться из развалин – и его настигала пуля. Человек десять были убиты или ранены за какие-нибудь полтора часа, а определить, откуда стреляет снайпер, не удавалось.
Трое друзей лежали рядом за грудой камней и напряжённо вглядывались в зелёную чащу кустарника на противоположном берегу. Потом старшина Котолупенко, устроившийся тут же, неподалёку, надев каску на штык, медленно стал поднимать её вверх. И тотчас же пуля звонко цокнула о металл, и каска была пробита.
В этот самый момент, случайно подняв глаза, Пузаков заметил осторожное, едва уловимое движение в густой листве высокого тополя на том берегу. Он стал присматриваться, и ему показалось, что в глубине пышной зелёной кроны дерева темнеет какое-то пятно. Он тщательно прицелился и нажал спусковой крючок.
Раздался приглушённый крик, и вдруг, с шумом и треском ломая ветки, сверху рухнула к подножию ствола и осталась лежать неподвижно фигура в пятнистом маскировочном халате. В развалинах закричали «ура!», друзья кинулись обнимать Пузакова, а пять минут спустя сюда приполз старший лейтенант, командовавший этим участком обороны. Узнав, кто снял снайпера, он записал в тетрадь фамилию Пузакова, обещая представить его к награде, как только придут свои.
А на другой день случилась беда с Бессоновым. Он полз около полуразрушенной стены казармы, когда тяжёлая мина разорвалась рядом. Его подбросило этим взрывом, сильно ударило о землю и засыпало кирпичами окончательно обрушившейся стены.
Так и погиб бы он там, бездыханный, заваленный камнями, если бы Пузаков вскоре не обнаружил его исчезновения. И хотя там, где лежал Бессонов, то и дело рвались немецкие мины, Пузаков все же отыскал товарища, освободив его из-под обломков, и ползком притащил на себе в подвал.
С трудом Бессонова привели в чувство. Он был тяжело контужен – ничего не слышал и не мог говорить. Три дня он отлёживался в подвале, и друзья часто приходили навестить его, принося то найденный сухарь, то глоток жёлтой воды из Мухавца. Потом слух и речь немного восстановились, он смог подняться и опять присоединился к товарищам.
В плен они попали тоже втроём, уже в первых числах июля, без единого патрона в винтовках и, как все, оборванные, грязные, изголодавшиеся и изнемогающие от жажды. Особенно трудно было Гайворонскому: рана его загноилась, и он начал заметно слабеть. Казалось просто чудом, что с такой раной он около двух недель оставался в строю. Даже в колонне пленных он шёл самостоятельно и лишь иногда обессилевал, и тогда Пузаков и Бессонов поддерживали его с обеих сторон, помогая идти.
Когда их привели к Бугу и разрешили напиться, они все вошли в реку и пили, как лошади, опустив лицо в воду, пили до тех пор, пока животы не раздулись, словно барабаны, а вода начала идти назад, – казалось, их многодневную жажду нельзя утолить ничем.
Потом пленных вели через польские деревни; женщины выносили им хлеб, овощи, но охрана отгоняла их и безжалостно пристреливала тех, кто ослабел от голода и шёл с трудом. Особенно запомнилась им одна деревня неподалёку от Буга; она была населена только русскими. Все её население высыпало на улицы, женщины громко рыдали, глядя на полуживых, едва передвигающих ноги солдат, и через головы конвоиров в колонну летели куски хлеба, огурцы, помидоры. Как ни бесились немцы, почти каждому из пленных что-то перепало в этой деревне.
В Бяла Подляске, страшном лагере за Бугом, им, к счастью, удалось пробыть недолго – они попали в команду, мобилизованную на работу в лес. И хотя их усиленно охраняли, а участок, где работали пленные, огородили колючей проволокой, они решили бежать – прошёл слух, что на днях всех отправят в Германию, и медлить было нельзя. Они ещё находились вблизи от Буга и могли пробраться на родину, а бежать из Германии оказалось бы гораздо труднее.
Но бежать могли только двое – Пузаков и Бессонов, Гайворонский ходил уже с трудом – силы все больше оставляли его. Когда товарищи рассказали ему о своём намерении, он грустно вздохнул.
– Ну что ж, ребята, счастливого пути, – сказал он. – Мне уже с вами идти не придётся. Останусь жив – после войны увидимся. Только навряд ли…
Они обнялись, и слезы навернулись у них на глаза. Все трое понимали, что Гайворонскому уже не придётся вернуться домой. Друзья расставались впервые и знали, что расстаются навсегда.
На другой день, когда работа подходила к концу и в лесу стало смеркаться, Бессонов и Пузаков, делая вид, что подбирают щепки, пробрались к дальнему углу проволочного заграждения. Сквозь кусты часовой не видел их, и они торопливо перелезли через проволоку и кинулись бежать по лесу. Только отбежав достаточно далеко и выбившись из сил, они остановились.
Через два дня им посчастливилось достать крестьянскую одежду в одной польской деревне. Поляки дали им и немного еды. Но беглецы понимали, что далеко они не уйдут, – измождённые, исхудавшие до предела, они слишком сильно отличались от жителей окрестных сел, и всякий легко узнал бы в них бежавших из лагеря военнопленных. Надо было на время укрыться в надёжном месте, немного подкормиться, восстановить силы и уже потом пробираться за Буг.
Тогда они вспомнили о русской деревне, через которую их гнали по пути в лагерь. Так трогательно, так сердечно отнеслись тамошние жители к пленным, что друзья вполне могли рассчитывать на гостеприимный приём в этом селе.
Они пришли туда и не ошиблись. От самого солтыса (старосты) до последнего деревенского мальчишки – все приняли их как родных. В избу, где их приютили на первую ночь, то и дело набивались люди – каждому хотелось поговорить с советскими. Приходили женщины, принося с собой что-нибудь поесть, и, видя, с какой жадностью беглецы набрасываются на еду, плакали и причитали: «Ой, сыночки! Ой, что ж это с вами сделали проклятые!» Приходили старики и, поинтересовавшись, как и откуда бежали друзья, вдруг спрашивали:
– Вы нам скажите, ребята, как это так получилось, что немец вас бьёт? Мы тут по-другому прикидывали. Думаем, только нападёт на вас Гитлер – капут ему сразу будет. На второй день войны ждали Красную Армию сюда, за Буг. Почему же так оно вышло?
Что могли ответить этим старикам они, два рядовых солдата, которые и сами не могли понять, как это все случилось? Но, торопливо хлебая какой-нибудь борщ или дожёвывая вареники, они все же говорили:
– Подожди, дедушка, дай срок. Придут сюда наши.
Старики долго совещались с солтысом, куда поместить беглецов. Жить в деревне им было нельзя: хотя она и лежала на отшибе, в стороне от главного шоссе, немцы то и дело наезжали сюда и крестьянам уже объявили о строжайшей ответственности за укрывательство бежавших из плена.
Поэтому на другой день обоих друзей отвели за село, где в укромном маленьком лесочке были нарыты свежие окопы и землянки.
– Вот видите, неделю всей деревней работали, – сказал солтыс, который привёл их сюда. – Строили свою оборону, а она и не пригодилась. Мы ведь думали: до границы тут недалеко, и, как только Гитлер на вас нападёт, ваши пушки в ответ стрелять начнут. А тогда и нашей деревне досталось бы. Решили окопы себе вырыть – отсидеться, пока Красная Армия придёт. Так и не дождались – ни одного снаряда от вас не прилетело.
Друзей поместили в землянке, и каждый день деревенские женщины носили им сюда еду.
Изголодавшиеся в крепости, а потом в плену, они сначала никак не могли насытиться и ели почти беспрерывно. Если одна хозяйка приносила им ведро супа, они тотчас же съедали его вдвоём и затем с той же лёгкостью опорожняли большой чугун каши с маслом, который приносила другая женщина. И им самим иногда становилось страшно, не погубит ли их такое количество еды, но истощённый организм все требовал пищи, и они ели и ели…
Только на четвёртый или пятый день они стали наедаться досыта. Но, как долго голодавшие люди, они ещё были больны той странной болезнью, которую так хорошо описал когда-то Джек Лондон в рассказе «Любовь к жизни». Им, как и герою этого рассказа, всегда казалось, что пища скоро кончится, что её опять не будет хватать и надо обязательно сделать запасы. Это был инстинктивный животный страх, поселённый в их душе пережитым голодом. И хотя теперь они не могли справиться со всей едой, которую им по-прежнему таскали сердобольные деревенские хозяйки, оба друга никогда не отказывались от этих приношений, боясь, что иначе люди перестанут их кормить и к ним снова вернётся голод.
Женщина приходила с кастрюлей супа, и они с жадной благодарностью забирали его в свою землянку. Являлась вторая с такой же кастрюлей – брали и это. Приносили пироги, вареники, блины – всё шло туда же, в землянку, «в запас».
Но на другой день предстояло возвращать хозяйкам их чугуны и кастрюли, а съесть всё было бы не под силу даже слону. Приходилось отдавать суп собакам, а потом делать вид, что все съедено. А женщины только жалостливо ахали и удивлялись, но исправно носили такие же полные снеди миски и кастрюли – деревня была не бедной. Зато теперь около землянки беглецов жили все деревенские собаки – большая часть пищи доставалась им, а оба друга по-прежнему панически боялись отказаться от обильного угощения.
Эта болезнь постепенно прошла, они поправились и отдохнули. И тогда солтыс дал им провожатого; они распрощались с гостеприимными хозяевами и на следующий день были уже за Бугом.
Всю зиму они скитались, то работая у крестьян, то пробираясь дальше на восток. В конце 1942 года Бессонова схватили полицаи около города Барановичи, и он был отправлен в лагеря – сначала в Польшу, потом в Германию. Вскоре ему удалось бежать. После многих мытарств зимой 1945 года он встретил наши войска под Краковом и до 1946 года служил в армии.
Владимир Пузаков, разлучённый с другом, год спустя попал в районе Пинска в один из отрядов знаменитого партизана А. Ф. Фёдорова. В 1944 году они соединились с армией, а в марте 1945 года при штурме Бреслау рядовой Пузаков был тяжело ранен – потерял руку.
Друзья встретились уже после войны, когда в Краснодар вернулся демобилизованный Бессонов. Но их теперь осталось двое – Николай Гайворонский погиб в плену, как и предчувствовал.
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ С КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ
От Пузакова и Бессонова, когда мы впервые встретились с ними в 1955 году в Краснодаре, я услышал любопытный рассказ о старшем лейтенанте с Красной Звездой.
Это было на второй день обороны. Крепость уже находилась в плотном кольце, и немцы, заняв расположение 125-го полка, залегли на валах над берегом Мухавца. Несколько раз они пытались перейти через реку и ворваться на Центральный остров, но огонь из окон казарм неизменно отбрасывал их назад.
День клонился к вечеру, с обеих сторон время от времени постреливали пулемёты, но бой, кипевший с таким ожесточением, к ночи постепенно затихал.
И вдруг все – и наблюдатели и стрелки, лежавшие в обороне, – насторожились. На том берегу из кустарника, который рос у подножия занятых немцами валов, появилась фигура человека. Отсюда было видно, что он одет в нашу командирскую гимнастёрку и что в руках у него наган.
Вынырнув из кустов, человек в два прыжка спустился по береговому откосу, сунул наган в кобуру и кинулся в воду. Несколько сильных взмахов руки – и он уже был у нашего берега. Опасаясь провокации, стрелки и пулемётчики взяли незнакомца на мушку. Но тот словно почувствовал это.
– Не стреляйте! Свои! – крикнул он и, стремительно выбежав из воды, вскочил в ближайшее окно казармы.
Вслед ему торопливо стрекотнул немецкий пулемёт, но было уже поздно.
И тогда по всей линии казарм бойцы, неотрывно и взволнованно следившие за пловцом, закричали «ура!». Со всех сторон люди побежали к тому отсеку, куда скрылся незнакомый командир.
Бессонов и Пузаков тоже поспешили туда. Окружённый толпой бойцов, командир стоял, тяжело дыша, и вода ручьями стекала с него. Друзья тотчас же узнали этого старшего лейтенанта: он служил в их полку, и они часто встречали его раньше. Он был без фуражки, но в полной командирской форме, с затянутым ремнём и с портупеей через плечо. На груди у него был орден Красной Звезды – боевая награда за финскую войну.
Отдышавшись, старший лейтенант достал из кобуры наган, тщательно обтёр его носовым платком и, улыбаясь, обвёл глазами собравшихся вокруг него людей.
– Ну, как у вас тут? Плохо? – спросил он и, махнув рукой в сторону города, добавил: – Там тоже неважно. Отступают пока наши.
– Вы оттуда, товарищ старший лейтенант? – полюбопытствовал кто-то.
– Да. Едва пробрался к вам – немцы кругом. Теперь будем вместе драться.
Он принялся выжимать свою одежду. А весть о том, что в крепость пришёл «старшой», в одиночку пробившийся сквозь кольцо немцев, уже летела по обороне, и в отсек приходили все новые и новые люди.
– Командиры есть? – вдруг строго спросил старший лейтенант, обращаясь ко всем.
Через толпу пробрались двое: один – в грязной нижней рубахе, другой – в солдатской гимнастёрке без пояса.
– Мы лейтенанты, – пояснил один. Старший лейтенант оглядел их с ног до головы и презрительно усмехнулся.
– Лейтенанты? – переспросил он иронически. – Не вижу. – И, сразу изменив тон, жёстко и властно добавил: – Даю двадцать минут. Привести себя в порядок и доложить как положено. Иначе расстреляю как паникёров. Бегом марш!
Лейтенанты опрометью кинулись из отсека исполнять приказание. Бойцы молча и одобрительно переглядывались:
«Эге, с этим шутить не приходится. Хозяин пришёл».
И в самом деле, старший лейтенант тут же принялся хозяйничать на этом участке обороны, где до того времени отдельные командиры то появлялись, то снова исчезали и борьбой постоянно руководили главным образом сержанты. Он по-новому расставил стрелков и пулемётчиков, назначил облачившихся в форму молодых лейтенантов командирами взводов, установил связь с участками Зубачева и Фомина. Энергичный, требовательный, смело появлявшийся в самых опасных местах, он одним своим видом, бодрым, решительным, воодушевлял бойцов, и его любовно прозвали «Чапаем».
Настроение людей поднялось с приходом старшего лейтенанта. А он то и дело мелькал здесь и там, беседовал с бойцами, сыпал шутками, записывал отличившихся в бою в толстую тетрадь и во всеуслышание объявлял об их будущем представлении к награде.
Лишь в последние дни обороны Бессонов и Пузаков видели его иным – помрачневшим и молчаливым. Видимо, он уже убедился, что надежды на спасение нет и попытки вырваться из крепости обречены на неудачу. Как-то он появился уже без ордена и без полевой сумки, где держал свою тетрадь. Когда Бессонов спросил его, где орден, старший лейтенант махнул рукой.
– Спрятал, – коротко сказал он. – Может, после войны найдут и орден и тетрадь.
Больше они не видели его, а когда через два дня попали в плен, кто-то сказал им, что старший лейтенант застрелился последним оставшимся у него патроном.
Кто же был этот герой Брестской крепости?
Затруднение заключалось в том, что Бессонов и Пузаков не помнили его фамилии. Но им обоим казалось, что это был помощник начальника штаба 44-го полка старший лейтенант Семененко, тот самый, что упоминался в «Приказе №1».
Долгое время я ничего не знал о судьбе Семененко и считал, что он застрелился, хотя Бессонов и Пузаков не видели этого своими глазами. Потом ещё один найденный мною защитник крепости из 44-го полка вспомнил, что однажды встречал Семененко в лагере в Германии. Значит, версия о самоубийстве не подтверждалась и старший лейтенант мог остаться в живых.
Но реальная возможность искать его следы появилась лишь после того, как в архиве был обнаружен список комсостава 6-й и 42-й дивизий. Как я уже рассказывал, благодаря этому списку удалось найти майора Гаврилова. Но здесь же я встретил и сведения о старшем лейтенанте Семененко.
Он действительно занимал должность помощника начальника штаба полка. Звали его Александром Ивановичем, и он был родом из города Николаева на Украине, где и жил до призыва в армию.
Не вернулся ли А. И. Семененко после войны в свой родной город? Может быть, он и сейчас живёт в Николаеве? Было вполне уместно предположить это – ведь миллионы людей после демобилизации или освобождения из плена возвращались в родные места. И я написал в Николаевский горсовет письмо с просьбой сообщить, не проживает ли у них Александр Иванович Семененко. Предположение моё оправдалось: Семененко в самом деле жил в Николаеве, – товарищи из горсовета прислали мне его адрес. Я сразу списался с ним и в 1955 году приехал в Николаев.
Семененко встречал меня на перроне вокзала. Он оказался большим, широкоплечим человеком с рыжеватым бобриком и крупными чертами лица. Я невольно ойкнул, когда он радостно, от всего сердца пожал мне руку, – Семененко, судя по этому пожатию, обладал поистине медвежьей силой. Несмотря на протесты, он отобрал у меня увесистый чемодан, набитый тетрадями и книгами, и, небрежно помахивая им, повёл меня к своей машине – он работал шофёром в одной из городских автобаз.
Когда мы приехали в гостиницу, я спросил его:
– А где ваша Красная Звезда? Так и не восстановили вам орден?
Семененко со смешком пожал плечами:
– У меня нет никакого ордена. Не заслужил.
– А за финскую кампанию?
– Не было у меня никакого ордена. – Семененко развёл руками.
– Позвольте, а это вы на второй день войны пробрались в крепость и переплыли Мухавец?
Нет, это был не он. Семененко находился в крепости неотлучно с первых минут войны и до того, как попал в плен в первых числах июля. Он был всё время на участках 333-го и 44-го полков, там командовал группой бойцов, отражал танковую атаку немцев на Центральном острове и вместе с каким-то старшиной подбил из орудия одну из немецких машин.
Я спросил, не знает ли Семененко о «Приказе №1», где упомянута его фамилия. Он не знал о нём, но в крепости ему говорили, что по рекомендации Зубачева его назначили начальником штаба сводной группы. Однако немцы в это время вновь заняли церковь и отрезали отряд Зубачева и Фомина от 333-го и 44-го полков. Семененко не мог пробраться на восточный участок казарм, где находился штаб сводной группы, и обязанности начальника штаба за него стал выполнять какой-то другой командир. А он до самого конца оставался в районе 333-го полка.
Итак, к моему разочарованию, Семененко не был тем командиром, который переплывал Мухавец. Но зато он помог мне наконец уточнить личность старшего лейтенанта с Красной Звездой. Этот человек был другом и многолетним сослуживцем Семененко – начальником школы младших командиров 44-го полка, старшим лейтенантом Василием Ивановичем Бытко. Именно он пришёл в крепость на второй день обороны, и именно у него был орден Красной Звезды за финскую кампанию. И как только я услышал, что Бытко звали Василием Ивановичем, я сразу вспомнил о его прозвище «Чапай». Видимо, оно объяснялось не только его смелым и отважным характером, но и тем, что Бытко был тёзкой прославленного героя гражданской войны. Семененко подтвердил это и сказал, что курсанты полковой школы всегда с любовью и гордостью называли своего начальника «наш Чапай».
Уже впоследствии отыскались другие бойцы и командиры, которые в дни обороны крепости сражались бок о бок с Бытко и вместе с ним попали в плен. Они дополнили рассказанное Бессоновым, Пузаковым и Семененко, и история старшего лейтенанта с Красной Звездой теперь вполне прояснилась.
Василий Иванович Бытко был кубанцем, родом из большой станицы Абинской, где до сих пор живёт его семья. Человек волевой, отважный и бесстрашный, он показал себя в армии прирождённым командиром, быстро продвигался по службе и умело действовал в боевой обстановке во время финской войны, за что в числе первых в полку был награждён орденом Красной Звезды. Курсанты полковой школы гордились своим командиром и по первому слову «Чапая» готовы были идти в огонь и в воду.
Война застала Бытко, как и других командиров, на его квартире в крепостных домах комсостава, где он жил с женой и маленьким сыном. Он вскочил с первыми взрывами, поспешно оделся и, наскоро попрощавшись с семьёй, кинулся в расположение полка.
Под обстрелом он пробежал мост через Мухавец и добрался до штаба полка. Там, среди взрывов, дыма и пыли, заволакивающих двор, по которому метались охваченные паникой люди, он собрал часть своих курсантов и повёл их из крепости на окраину Бреста, на рубеж, где приказано было сосредоточиться полку по боевой тревоге.
Он сумел вывести эту группу почти без потерь ещё до того, как враг сомкнул своё кольцо. Присоединив своих курсантов к другим подразделениям, оказавшимся там, Бытко сам не остался с ними. Он помнил, что в крепости дерутся его ребята, и считал, что не имеет права бросать их. И он один ушёл назад. Только на второй день он всё же сумел прорваться на Центральный остров и появился там так, как рассказывали об этом Бессонов и Пузаков. Он принял командование над оставшимися курсантами и бойцами, которые были тут, и стал главным руководителем обороны в районе 44-го полка.
Как известно, все попытки вырваться из крепости были безрезультатными, и наконец наступил день, когда боеприпасы у стрелков и пулемётчиков подошли к концу, а в нагане Бытко остался последний патрон. И тогда люди заметили, что старший лейтенант всячески старается уединиться. Он решил покончить с собой: для него, удалого, горячего кубанца, стойкого коммуниста, полного ненависти к врагу, сама мысль о том, что он может живым попасть в руки гитлеровцев, была страшнее смерти.
Товарищи отгадали его намерение. Когда однажды в минуты затишья Бытко под каким-то предлогом хотел покинуть подвал, они поняли, зачем он уходит. Его окружили и стали уговаривать отказаться от мысли о самоубийстве. Ему доказывали, что его смерть произведёт тяжёлое впечатление на бойцов, что он обязан разделить со своими людьми судьбу, которая их ожидает.
Бытко слушал все это молча, опустив голову, но было видно, что доводы товарищей произвели на него впечатление.
Маленькое окно подвала, в котором происходил этот разговор, было обращено в сторону крепостного двора. Ничего не отвечая на уговоры друзей, Бытко рассеянно поглядывал наружу, углублённый в свои раздумья. И вдруг он увидел невдалеке двух немецких автоматчиков. Воспользовавшись затишьем, гитлеровцы приближались к казармам. Первый автоматчик был уже в нескольких шагах от подвала.
Рука старшего лейтенанта медленно потянулась к кобуре, и он вытащил наган.
– Ну, фашист, – вздохнув, произнёс он. – Хотел я себя, а придётся тебя… И, вскинув наган, он последним выстрелом уложил автоматчика.
В тот же день оставшиеся в живых бойцы этой группы во главе с Бытко и командиром роты младшим лейтенантом Сгибневым пошли в свой последний бой. В сумерках неожиданным рывком они форсировали Мухавец и попытались пробиться в сторону города. В неравном бою маленький отряд был рассеян, и большинство людей, в том числе Бытко и Сгибнев, оказались в плену.
А следующим вечером, когда уже за Бугом пленных гнали к Бяла Подляске, оба командира, пользуясь темнотой, сумели бежать из колонны.
Все думали, что им удалось спастись. Но ещё через два дня в Бяла Подляску привезли избитого, окровавленного Сгибнева, и он рассказал товарищам, что произошло. Беглецы благополучно добрались до границы, но в тот момент, когда они переплывали Буг, на обоих берегах появились немцы. Автоматная очередь настигла Бытко на середине реки, а Сгибнева схватили, едва он вышел на восточный берег.
Курсанты полковой школы недаром звали своего начальника «Чапаем». Бытко не только походил характером на своего прославленного тёзку, не только носил те же имя и отчество, он и погиб от вражьей пули в реке – точь-в-точь так, как Василий Иванович Чапаев.
СЕСТРА
О ней писали уже в первых статьях о Брестской обороне, появившихся вскоре после войны. Рассказывалось о том, как медицинская сестра Раиса Абакумова под взрывами снарядов, под пулемётным огнём выносила с поля боя раненых и как в конце концов она упала, убитая наповал.
Эту молодую, высокую и красивую женщину, хорошую спортсменку, непременную участницу клубной самодеятельности, любительницу песен и танцев, вспоминали потом многие найденные мной герои крепости. Но они помнили её ещё по довоенному времени и лишь знали, что она была в звании военфельдшера – носила три «кубика» на петлицах гимнастёрки – и служила в санитарной части 125-го полка. Долгое время оставалось неизвестным, на каком участке обороны она находилась во время боев. Только после того как отыскались первые защитники Восточного форта, выяснилось, что Раиса Абакумова была именно там, в отряде майора Гаврилова. Люди рассказывали о ней много хорошего. Иные из них прямо были обязаны ей жизнью: рискуя собой, Раиса выползала под огонь на линию обороны и оттуда вытаскивала раненых, относя их в укрытие. Она была организатором и «главным врачом» импровизированного госпиталя, устроенного в одном из казематов форта, бывшей конюшне. Под её руководством женщины самоотверженно ухаживали за ранеными и в самых тяжёлых условиях делали все, чтобы облегчить страдания и спасти им жизнь. Все, кто рассказывал мне о Раисе Абакумовой, с восхищением говорили о ней как об истинной героине и глубоко сожалели о её гибели.
Так было до 1955 года, когда я нашёл под Москвой, в Шатурском районе, доктора Михаила Никифоровича Гаврилкина, который перед войной был врачом 125-го полка, то есть непосредственным начальником Раисы Абакумовой. Он очень тепло вспоминал о ней, но тоже мог рассказать лишь о довоенном периоде её службы – Гаврилкин во время обороны крепости не был в Восточном форту, а оказался в одном из домов комсостава, в группе капитана Шабловского, и потом вместе с ним попал в плен.
Но когда я в разговоре упомянул о том, что Раиса Абакумова была убита, Гаврилкин пожал плечами.
– Вы ошибаетесь, – сказал он. – Раиса не погибла. Моя жена в годы оккупации жила в Бресте, и она часто встречала там Абакумову.
Это известие взволновало меня. А может быть, героиня крепости жива? Но почему же до сих пор она не дала о себе знать: статьи о Брестской обороне не раз появлялись в печати, и в каждой из них говорилось о ней и о её гибели. Неужели эти газеты и журналы никогда не попадались ей на глаза?
Во всяком случае, надо было искать следы Раисы Абакумовой. Но прежде чем они обнаружились, пришлось долго идти, как по цепочке, от одного человека к другому.
Сначала медицинская сестра Людмила Михальчук, которую я разыскал в Бресте, дала мне адрес ленинградского врача Ю. В. Петрова, работавшего до войны в крепостном госпитале. Петров, как оказалось, переписывался со своим бывшим сослуживцем – фельдшером И. Г. Бондарем, находившимся сейчас в Днепропетровской области. Бондарь в одном из писем ко мне сообщал нынешний адрес другого врача из крепости – В. С. Занина, живущего теперь в Москве. А Занин, в свою очередь, знал, где живёт близкая подруга Раисы Абакумовой, медицинская сестра Валентина Раевская.
Именно от В. С. Раевской из Мценска Орловской области я и получил наконец долгожданное известие. Раиса Абакумова была жива и здорова и работала в районной больнице в городке Кромы той же Орловской области.
Уже позднее, когда мы встретились с Раисой Ивановной в Москве, я спросил, знает ли она, что во многих статьях и очерках о ней писали как о погибшей. Оказалось, что однажды ей попался номер «Огонька» с очерком Златогорова, где говорилось о её героической смерти. Она прочла, усмехнулась и сказала сама себе: «Ну и вечная тебе память, Рая!»
По скромности она даже не подумала о том, чтобы написать в редакцию и опровергнуть рассказ о своей гибели.
Перед войной Раиса Абакумова жила в одном из домов комсостава в крепости вместе со своей шестидесятилетней матерью. В ту последнюю предвоенную ночь ей почти не пришлось спать: вечером она с подругой была на гулянье в городском парке и вернулась уже после полуночи, а в половине четвёртого пришлось встать – рано утром в районе Бреста должны были начаться ученья, в которых ей предстояло участвовать.
Она уже оделась и умылась, а мать хлопотала, приготовляя завтрак, как вдруг раздался близкий взрыв, и горшки с цветами, стоявшие на окне, были сброшены на пол. Потом подальше прогрохотал второй, третий, и сразу же взрывы замолотили с бешеной быстротой, и за их гулом внезапно прорвался истошный вой пикирующего самолёта.