Фотофиниш Марш Найо
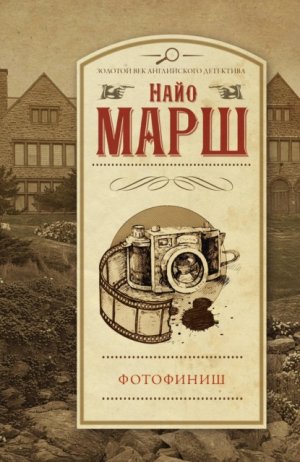
Во время последовавшей за этим паузы помощник комиссара неуверенно напевал себе под нос хабанеру из «Кармен».
— Вы когда-нибудь слышали, как она ее исполняет? — спросил он. — Просто поразительно. У нее есть диапазон — сопрано, меццо-сопрано, и что там еще, есть внешность, в ней есть секс. Пронзает тебя, словно поросенка на вертеле, и при этом запросто заставляет получать от этого удовольствие. — Он бросил на Аллейна один из своих сбивающих с толку взглядов. — У Трой будет хлопот полон рот, а?
— Да, — согласился Аллейн, и, испытывая дурное предчувствие по поводу того, что его ожидает, добавил: — Мне не очень хочется, чтобы она туда ехала.
— Понятно. Собираешься занять твердую позицию, да, Рори?
— В том, что касается Трой, во мне нет твердости.
— Скажи это ребятам из отдела по борьбе с мошенничеством, — сказал шеф и тихонько заржал.
— Только не в том, что касается ее работы. Это необходимость. Для нас обоих.
— Тогда не буду тебя задерживать, — шеф без предупреждения перешел на деловой тон. — Мне просто кажется, что при нынешних обстоятельствах ты все же мог бы поехать. И кстати, ты ведь знаешь Новую Зеландию, так? Да? — Аллейн не ответил, и он продолжил: — Вот что я имел в виду, говоря о совпадении. Приглашения и все прочее. Все просто само идет нам в руки. Нас просят провести небольшое и очень незаметное наблюдение за этим объектом, а тут дружок этого объекта приглашает вас в гости, и вот такие складываются дела, так сказать. Случайно получается так, что ты будешь приглядывать за Трой и ее сварливой моделью. Что скажете?
— Правильно ли я понимаю, сэр, что это приказ?
— Должен сказать, — увильнул от прямого ответа помощник комиссара, — я думал, что ты обрадуешься.
— Полагаю, мне следовало бы радоваться.
— Очень хорошо! — раздраженно воскликнул шеф. — Так какого черта ты не рад?
— Сэр, вы говорили о совпадениях. Так вышло, что из-за абсурдного стечения обстоятельств Трой в большей или меньшей степени оказалась вовлеченной в четыре моих дела. И…
— И судя по всему, вела себя во всех случаях просто великолепно. Так вот в чем дело, да? Ты не хочешь, чтобы она в этом участвовала?
— В общем и целом нет, не хочу.
— Но дорогой мой, ты ведь едешь туда не для того, чтобы заниматься расследованием. Ты будешь вести наблюдение. Не исключено, что там и наблюдать не за чем. Кроме, разумеется, твоей красавицы жены. Ты не будешь ловить убийцу. Вообще никого не будешь ловить. Что?
— Я ничего не говорил.
— Ладно. Это приказ. Позвони жене и сообщи ей об этом. Доброго вам утра.
В Мельбурне все было хорошо. Успех в Сиднее был фантастическим — в артистическом, финансовом и — по крайней мере, для Изабеллы Соммиты — личном плане. Пресса восторженно писала: «Ничего подобного еще не было на нашей памяти». Один журналист отпустил тяжеловесную шутку, написав, что, если бы машины двигались за счет реальных, а не статистических лошадиных сил, то лошадей, несомненно, использовали бы для того, чтобы триумфально провезти диву по городу или пронести ее на руках через бурлящую ликованием толпу.
Оскорбительных фотографий больше не было.
Юный Руперт Бартоломью неожиданно оказался в среде, которую он не понимал, но и не критиковал и в которой с трудом барахтался, пребывая в трудном состоянии блаженства и замешательства. Изабелла Соммита заставила его сыграть свою одноактную оперу. Она слушала ее одобрительно, и это одобрение лишь выросло, когда она поняла: роль сопрано столь объемна, что все остальные актеры выступают в этой опере лишь в качестве отделки. Опера была о Руфи и называлась «Чужестранка». («Очень подходяще», — пробормотал Бен Руби, обращаясь к Монти Реесу, но так, чтобы Соммита не слышала.) Бывали минуты, когда розовые облака, в которых парил Руперт, редели, по спине у него пробегал ледяной холодок, и он задавался вопросом, хороша ли вообще его опера. Он говорил себе, что сомневаться в этом — значит, сомневаться в величайшем сопрано эпохи, и розовые облака снова приобретали прежнюю форму. Но тень беспокойства никогда его до конца не покидала.
Мистер Реес был немузыкален. Мистер Руби наоборот, хоть и не имел музыкального образования. Оба они согласились с тем, что следует проконсультироваться с экспертом; уровень все растущей решимости Соммиты поставить эту оперу на сцене был столь высок, что они подошли к этому как к делу крайней важности. Мистер Руби, притворившись, что хочет изучить произведение, взял ноты у Соммиты. Он обратился к профессионалу из среды австралийских музыкальных критиков и упросил его по старой дружбе высказать свое сугубо личное мнение об опере. Профессионал согласился и сказал, что опера никуда не годится.
— Сильно разбавленный Менотти[3], — сказал он. — Не давай ей даже прикасаться к этому.
— Ты можешь сам ей это сказать? — умоляюще спросил мистер Руби.
— Ни за что! — воскликнул великий профессионал и добавил, словно ему это только что пришло в голову: — Она что, влюбилась в композитора?
— Старина, — с чувством вздохнул мистер Руби, — ты попал в самую точку.
Это было правдой. В свойственной ей несколько свирепой манере, Соммита влюбилась. Байроновская внешность Руперта, его трогательный взгляд и чистое, беспримесное обожание, с которым он к ней относился, сложились воедино и сумели добиться цели. На этой стадии у Соммиты случился грандиозный скандал с ее австралийским секретарем, который ей воспротивился, а когда она его уволила, сказал, что он и сам собирался уходить. Тогда она спросила Руперта, умеет ли он печатать на машинке, и, услышав утвердительный ответ, тут же предложила ему эту работу. Он принял предложение, отменил все запланированные встречи, и его поселили в тот же астрономически дорогой отель, в котором остановилась его работодательница. Он имел дело не только с ее корреспонденцией. Его сделали одним из ее сопровождающих в театр; ему было позволено присутствовать, когда она занималась вокальными упражнениями. Он ужинал с ней после спектакля и задерживался дольше остальных гостей. Он был в раю.
Однажды вечером, после того как была выполнена вся эта рутина и мистер Реес ушел спать пораньше из-за приступа несварения, Соммита попросила Руперта подождать, пока она переоденется в более удобную одежду. Этой одеждой оказалось рубиновое шелковое неглиже, которое, возможно, было удобным для той, на ком было надето, но зрителя заставило задрожать от мучительного волнения.
У него не было никаких шансов. Она едва приступила к прелюдии в свойственной ей пугающей манере, как уже оказалась в его объятиях — точнее, это она его обнимала.
Час спустя Руперт Бартоломью плыл по длинному коридору в свой номер, и ему безумно хотелось петь во весь голос.
— Первая! — ликовал он. — Моя самая первая! И подумать только — Изабелла Соммита!
Он, бедняжка, был рад-радешенек.
Насколько было известно ближайшим компаньонам мистера Рееса, его не особо беспокоили шашни его любовницы. Казалось, он не придавал им никакого значения, но утверждать это наверняка было невозможно, поскольку он был на удивление неразговорчив. Много времени — а точнее, большую его часть — он проводил в обществе секретаря, управляя, как многие предполагали, рынком ценных бумаг и отвечая на междугородние звонки. К Руперту Бартоломью он относился совершенно так же, как и к остальным поклонникам Соммиты: настолько нейтрально, что это едва ли вообще можно было назвать отношением. Время от времени при мысли о мистере Реесе Руперта беспокоили внезапные приступы неприятных размышлений, но он был слишком глубоко охвачен невероятным восторгом, чтобы слишком уж тревожиться.
Именно в этой сложившейся ситуации мистер Реес полетел в Новую Зеландию, чтобы осмотреть свой новый, только что построенный дом на острове.
Вернувшись через три дня в Мельбурн, он обнаружил письма от четы Аллейнов, принявших его приглашение, и Соммиту, пребывавшую в состоянии крайнего волнения.
— Дорого-о-ой, — сказала она, — ты мне все покажешь. У тебя ведь есть фотографии дома? Мне понравится? Потому что должна сказать тебе, что у меня большие планы. Ах, какие планы! — воскликнула Соммита, таинственно жестикулируя. — Ты ни за что не догадаешься.
— И что же это за планы? — спросил Реес обычным ровным голосом.
— Ах, нет, — поддразнила его она, — тебе придется потерпеть. Сначала фотографии, и Руперт тоже должен их увидеть. Скорее, скорее, снимки!
Она открыла дверь спальни, выходящую в гостиную, и пропела двумя великолепными нотами:
— Руперт!
Руперт сражался с письмами от ее поклонников. Войдя, он увидел, что мистер Реес разложил на кровати несколько глянцевых цветных фотографий дома на острове.
Соммита была очарована. Она восклицала, мурлыкала, ликовала. Несколько раз даже начинала смеяться. Пришел Бен Руби, и фотографии снова разложили для просмотра. Она обнимала всех троих по отдельности и более или менее всех разом.
А затем, внезапно перейдя к практической стороне дела, Соммита сказала:
— Музыкальный салон. Дайте-ка взглянуть на него еще раз. Да. Какого он размера?
— Насколько я помню, — ответил мистер Реес, — шестьдесят футов в длину и сорок в ширину.
Мистер Руби присвистнул.
— Ничего себе размер, — заметил он. — Больше похоже на мини-театр, чем на комнату в доме. Ты собираешься давать концерты, дорогуша?
— Лучше! — вскричала она. — Разве я не говорила тебе, Монти, дорого-о-й, что у нас есть планы? Ах, мы составили такой план, Руперт и я! Верно, caro?[4] Да?
— Да, — сказал Руперт, бросив неуверенный взгляд на мистера Рееса. — То есть… чудесные.
Лицо у мистера Рееса было на редкость бесстрастным, но Руперту показалось, что по нему пробежала тень покорности. Лицо же мистера Руби выражало глубочайшее опасение.
Соммита величественным жестом обхватила правой рукой плечи Руперта.
— Это милое дитя, — сказала она так, словно была его матерью, — этот обожаемый друг, — вряд ли она могла выразиться еще откровеннее, — он гений. Это говорю вам я — я, которая знает. Гений. — Все молчали, и Соммита продолжила: — Я живу с этой оперой. Я изучила эту оперу. Я изучила главную партию. Руфь. Все арии, соло, дуэты — их два — и ансамбли. Все, абсолютно все они несут на себе клеймо гения. Я использую слово «клеймо», — поправилась она, — не в смысле мученичества. Наверное, лучше сказать «они несут знамя гения». Гений! — закричала она.
Глядя в эту минуту на Руперта, можно было подумать, что слово «мученичество» все же подходит больше. Его лицо побагровело, и он нервно ерзал в ее объятиях. Она не слишком нежно встряхнула его.
— Умница, умница! — воскликнула Соммита и громко его поцеловала.
— Так мы услышим твой план? — спросил мистер Реес.
Поскольку на часах было семь вечера, она погнала их в гостиную и велела Руперту приготовить коктейли. Он с радостью скрылся в недрах прохладного шкафа, где хранились напитки, лед и бокалы. Остальные обменялись несколькими отрывочными и едва слышными репликами. Мистер Руби пару раз прокашлялся. Неожиданно, так что Руперт пролил предназначенный для мистера Рееса виски с содовой, раздались звуки стоявшего в гостиной фортепиано: зазвучало вступление к тому, что, как он надеялся, станет грандиозной арией его оперы, и великолепный голос душераздирающим пианиссимо[5] запел: «Одна, одна среди чужих».
Именно в этот момент, без всякого предупреждения, Руперта с катастрофической уверенностью посетило озарение: он ошибся в своей опере. Даже самый прекрасный на свете голос не мог сделать из нее больше того, чем она была — она навсегда останется третьесортным произведением.
Бесполезно, подумал он. Опера до нелепости банальна. А потом пришла следующая мысль: она неспособна здраво ее оценить. Она немузыкальна.
Он был уничтожен.
Глава 2. Дом на острове
Прекрасным ранним весенним утром чету Аллейн встретил в новозеландском аэропорту предсказуемо роскошный автомобиль и повез их по дорогам, которы словно по линейке расчерчивали равнины до самого горизонта. Где-то по левую руку был невидимый глазу Тихий океан, а прямо перед ними начинались предгорья. Это были внешние бастионы Южных Альп.
— Нам повезло, — сказал Аллейн. — В пасмурный день гор не видно, и равнины выглядят убийственно. Ты хотела бы их написать?
— Не думаю, — ответила Трой после некоторого раздумья. — Все это выглядит каким-то жестоким. Пришлось бы искать определенный стиль. У меня такое чувство, что люди лишь передвигаются по поверхности. Они не развивались вместе с этим пейзажем. Они не включены в его анатомию. Какая дерзость! — воскликнула она. — Я едва приехала в страну, а уже делаю обобщения.
Водитель, которого звали Берт, оказался дружелюбным и очень старался впечатлить своих пассажиров. Он указал им на горы, на которых устроили свои фермы и пастбища для овец первые землевладельцы.
— А то место, куда мы едем, Уэйхоу Лодж — там разводят овец? — спросила Трой.
— Нет, что вы. Мы едем в Уэстленд, миссис Аллейн. Это Уэст-Кост. Там сплошные лесозаготовки и шахты. Уэйхоу — довольно большое озеро. А дом! Знаете, во сколько он, по слухам, ему обошелся? В полмиллиона. Или даже больше, как говорят. Такого больше нигде в Новой Зеландии нет. Вы удивитесь.
— Мы о нем наслышаны, — кивнул Аллейн.
— Да? Все равно вы удивитесь. — Он повернул голову к Трой. — А вы художница? Мистер Реес подумал, что вы захотите сделать фото на вершине перевала. Мы там пообедаем.
— Вряд ли, — сказала Трой.
— Вы будете писать портрет знаменитой леди, верно?
Тон у него был сардонический. Трой ответила утвердительно.
— Не хотел бы оказаться на вашем месте, — вздохнул водитель.
— А вы рисуете?
— Я? Конечно, нет. Мне бы не хватило терпения.
— Для этого требуется не только терпение, — мягко сказал Аллейн.
— Да? Может, и так, — согласился водитель. Последовала долгая пауза. — Значит, ей придется сидеть неподвижно?
— Более или менее.
— Думаю, получится скорее «менее», чем «более». Говорят, она прямо-таки знаменитость.
— Всемирно известная.
— Так говорят. Да-а, — сказал водитель с задумчивой усмешкой, — что ж, пусть говорят. Ну и темпераментная она! Можно ее и так назвать. — Он присвистнул. — Не одно, так другое. Вот с собакой, например. У нее была одна из этих новомодных собак, белая борзая с длинной шерстью. Босс ей подарил. В общем, собака заболела, они пригласили ветеринара, тот сказал, что она безнадежна и что ее надо усыпить, чтоб не мучилась. Из-за этого заболевает она. Кричит, стонет, просто нечто. В конце концов босс велит с этим покончить, мы с ветеринаром отнесли ее под навес, он дал ей хлороформ и потом сделал укол, и мы закопали ее. Черт! Когда ей сказали об этом, она вела себя так, как будто мы убийцы. — Он цыкнул зубом при воспоминании об этом.
— Мария, — продолжил он вскоре, — это ее личная помощница, или горничная, или как там это называется, говорила, что в Австралии случился какой-то скандал с газетчиками. Но вы-то все об этом знаете, мистер Аллейн. Мария считает, что вы взялись за это дело. Это так?
— Боюсь, что нет, — сказал Аллейн.
Трой как следует пихнула его локтем.
— Ну, она так думает. Вы же детектив. Мария ведь иностранка. Итальянка. С ними надо держать ухо востро. Они вечно волнуются.
— А вы живете там? В доме?
— Верно. Пока что. Когда они уедут, на острове останется только смотритель со своей семьей. Монти Реес построил гараж и лодочный навес на берегу озера, на его катере вы доберетесь до дома. У него, между прочим, даже свой вертолет есть. Никаких проблем — вызывает его, когда нужно.
Разговор прервался. Трой стало интересно, называет ли водитель своего работодателя «Монти Реес» в лицо, и она решила, что это вполне возможно.
Дорога через равнины неуловимо поднималась все выше на протяжении сорока миль, и, если оглянуться назад, становилось понятно, на какой высоте они находятся. Вскоре они уже глядели вниз на русло широкой реки, в которой переплетались бирюзовые и белые струи воды.
К полудню они добрались до вершины и пообедали припасами из корзины, запив их вином из сумки-холодильника. Их сопровождающий пил крепкий чай из термоса.
— Я же за рулем, — пояснил он, — а впереди еще серпантин. — И принялся развлекать Аллейнов историями о несчастных случаях в ущелье.
Воздух на вершине был чудесный: свежий, с ароматом кустов мануки, тут и там торчащих из теплой, поросшей травой земли. Теперь они были ближе к вечным снегам.
— Пора нам ехать, — сказал Берт. — Увидите, как сильно все изменится, когда проедем перевал. Оно вроде как неожиданно бывает.
На вершине стоял видавший виды указатель с надписью: «Перевал Корнишмен. 1000 метров».
На коротком отрезке дорога шла прямо, а потом нырнула в совершенно другой мир. Как и сказал водитель, это было неожиданно. Настолько неожиданно, ново и резко, что еще долгое время спустя у Трой было такое чувство, будто существовала некая согласованность между этим моментом и последовавшими затем событиями — словно, преодолев перевал, они попали в край, который подготовился и ждал их.
Это был мир очень темного тропического леса, бархатом покрывавшего изгибы скрытой под ним земли. Тут и там поблескивали водопады. Над лесом возвышались сверкавшие на солнце снежные пики, но солнце не достигало земли в самом низу, где тонкой нитью по ущелью грохотала река.
— Ее отсюда слышно, — сказал Берт, остановив машину.
Но сначала они слышали лишь пение птиц — ровные, повторяющиеся, несравненно дикие звуки. Через минуту Трой сказала, что она, кажется, слышит реку. Водитель предложил им подойти к краю дороги и посмотреть вниз. У Трой страшно кружилась голова от высоты, но она пошла, уцепившись за руку Аллейна. Словно с театральной галерки, она взглянула вниз, на верхушки деревьев, и увидела реку.
Берт, продолжавший снабжать их полезной информацией, рассказал, что можно различить крышу машины, которая шесть лет назад улетела вниз с того места, где они стоят.
— Вот как, — заметил Аллейн, обнял жену за плечи и отвел ее к машине.
Они двинулись вниз по серпантину.
Повороты этого чудовищного спуска были настолько крутыми, что казалось, будто движущиеся в одном направлении машины приближаются друг к другу и едут на разных уровнях. Они поравнялись с одной машиной и потихоньку ползли позади нее. Навстречу им из ущелья поднималась другая машина. Ее шофер съехал на самый край, и вторая машина протиснулась по внутренней стороне дороги в полудюйме от них. Водители кивнули друг другу.
Аллейн по-прежнему обнимал Трой за плечи.
— Первое место за отвагу, миссис А., — прошептал он ей на ухо. — Ты великолепно держишься.
— А чего ты от меня ожидал? Что я стану выть, словно банши?[6]
Вскоре дорога стала прямее, и Берт переключился на самую высокую скорость. Они добрались до подножья ущелья и поехали вдоль реки, ревущей так громко, что они едва могли расслышать друг друга. Внизу было холодно.
— Вот вы и в Уэстленде, — прокричал водитель.
Уже совсем ввечеру, после двухчасовой поездки через мокрый, пахнущий перегноем лес, который новозеландцы называют «буш», они выехали на более открытую местность и остановились у крошечной железнодорожной станции под названием Каи-каи. Здесь они забрали пакет с частной почтой для обитателей Уэйхоу Лодж и еще двадцать миль ехали параллельно железной дороге, а затем обогнули холм, за которым лежало огромное зеркало воды — озеро Уэйхоу.
— Ну вот, — объявил Берт. — Вот вам и озеро. И остров.
— Подкрепите меня вином![7] — воскликнул Аллейн и потер виски.
Вид открывался ошеломляющий. В этот час поверхность озера была совершенно гладкой, и в ней отражался ослепительно пылавший закат. В озеро вдавались удлиненные островки суши со стройными деревьями, отражавшимися в воде. В рамке этих деревьев, вдали, виднелся остров, а на нем — дом мистера Рееса.
Дом был спроектирован знаменитым архитектором в современном стиле, но он был построен и расположен так удачно, что казался органично вписанным в окружавший его первобытный пейзаж. Покрытое травой пространство перед домом окружали величественные деревья с темной листвой. На берегу располагалась пристань, у которой стоял катер. На фоне полыхающего заката нелепо, словно назойливое насекомое, висел в воздухе вертолет. Когда они подняли на него глаза, он исчез за домом.
— Я во все это не верю, — сказала Трой. — Это чей-то сон. Это не может быть правдой.
— Вы считаете? — спросил водитель.
— Считаю, — ответила Трой.
Они свернули на дорогу, которая шла между кустов и древовидных папоротников к берегу озера, где находился гараж, пристань, лодочный навес и колокол на миниатюрной колокольне. Они вышли из машины в вечерние запахи мокрой земли, папоротника, мха и холодной озерной воды.
Берт ударил в колокол, и через озеро полетела одна-единственная нота. Потом он заметил, что их уже увидели с острова и наверняка катер за ними уже отправили. Вечер был такой тихий, что слышался рокот мотора.
— Над водой звуки далеко слышно, — пояснил Берт.
Закат достиг высшей точки. Все видимые объекты вблизи и вдали стали резко очерченными и позолоченными. Лица у всех троих покраснели. Окна далекого дома заполыхали огнем. Через десять минут все поблекло, и пейзаж стал холодным. Трой и Аллейн немного прошлись по берегу; Трой смотрела на дом и думала о находившихся в нем людях. Почувствует ли Изабелла Соммита, что здесь самое подходящее место для демонстрации ее великолепия, и как она будет выглядеть в «удобной студии» с высокими окнами, сама такая яркая, на фоне заката, подобного тому, что только что догорел?
— Это самое настоящее приключение, — пробормотала Трой.
— Знаешь, — сказал Аллейн, — немного абсурдно, но все это напоминает мне один из викторианских романов Джорджа Макдональда, где персонажи находят зеркало и выходят из этого мира в иной, где живут странные создания и происходят необъяснимые события.
— Может бы, — задумалась Трой, — вход в этот великолепный дом окажется нашей парадной дверью, и мы вернемся в Лондон.
Они заговорили о доме и о том, как сбалансированно возвышаются над пейзажем его башни. Вскоре к пристани подплыл катер, оставляя за кормой расходящийся след на гладкой как шелк воде. Это было большое, дорогое судно. Рулевой вышел из рубки и бросил водителю причальный канат.
— Знакомьтесь, Лес Смит, — сказал Берт.
— Здорово, — поздоровался рулевой. — Как дела, Берт? Хорошо доехали?
— Без проблем, Лес.
— Ну и чудненько.
Аллейн помог им уложить багаж. Трой помогли перебраться на катер, и они поплыли обратно.
Трой и Аллейн устроились на корме.
— Ну вот, — сказал Аллейн. — Тебе нравится?
— Начало прекрасное. Здесь душераздирающе красиво.
— Будем надеяться на удачу, — весело сказал он.
Возможно, из-за того, что их первый день оказался таким длинным и трудным после перелета из Англии, первый вечер в доме прошел для Трой как во сне.
Их встретили секретарь мистера Рееса и еще один мужчина, смуглый, разодетый словно стюард на корабле, который нес их багаж. Они проводили Аллейнов в их комнату, чтобы те могли «освежиться». Секретарь, моложавый и многословный мужчина с волосами соломенного цвета, пояснил, что мистер Реес говорит по телефону, но встретит их, когда они спустятся; и что остальные переодеваются к ужину, но им можно не беспокоиться, так как остальные «вполне их поймут». Ужин будет через четверть часа. В комнате есть поднос с напитками, и он предлагает гостям ими воспользоваться; и он знает, что они сущие ангелы и простят его, но мистеру Реесу требуются его услуги. Затем он, словно спохватившись, рассыпался в приветствиях, сверкнул улыбкой и удалился. Трой посетила смутная мысль о том, что он невыносим.
— Не знаю как ты, — сказала она, — но я отказываюсь быть «вполне понятой» и собираюсь переодеться. Мне нужно как следует умыться и сменить одежду. И выпить, кстати.
Она открыла свой чемодан, порылась в нем и выудила комбинезон, который, к счастью, был сшит из немнущегося материала. Затем она пошла в ванную, оборудованную словно дворец для короля водопроводчиков. Аллейн переоделся молниеносно — в этом он был специалистом — и смешал два коктейля. Они сели рядышком на огромной кровати и осмотрелись.
— Все это сделал какой-нибудь американский супер-дизайнер интерьеров, тебе не кажется? — сказала Трой, отхлебнув коктейль из бренди с сухим мартини.
— Ты считаешь? — спросил Аллейн, передразнивая шофера Берта.
— Считаю, — сказала Трой. — Через ковер нужно пробираться, просто так по нему не пройдешь.
— Это не ковер. Это примерно двести овечьих шкур, сшитых вместе. Местный колорит.
— Мы, конечно, можем сколько угодно хихикать, но давай признаем: все это действительно производит потрясающее впечатление. Но все какое-то нечеловеческое. Вот если бы где-нибудь нашлось что-то потрепанное или неподходящее.
— Мы, — засмеялся Аллейн. — Мы подходим под оба эти определения. Допивай, нам лучше не опаздывать.
Спускаясь на первый этаж, они смогли в полной мере оценить холл с гигантским пылающим камином, с развешанным по стенам смертельным оружием всех видов, с ткаными гардинами в стиле маори и большой полуабстрактной деревянной скульптурой, изображавшей обнаженную беременную женщину с самодовольной усмешкой на лице. Из-за одной из дверей доносились звуки беседы. Один настойчивый мужской голос звучал громче остальных. Последовал взрыв общего смеха.
— Боже правый, — прошептал Аллейн, — да тут собралась целая компания гостей.
В холле стоял смуглый мужчина, относивший в их комнату багаж.
— Прошу в гостиную, сэр, — без всякой необходимости сказал он и распахнул дверь.
В дальнем конце длинной комнаты стояла группа из десятка человек, преимущественно мужчин. В центре всеобщего внимания находился персонаж с величавой седой бородой, стриженными ежиком волосами, в бархатном пиджаке с мягким галстуком, в монокле и с цветком в петлице. Он вел себя как опытный raconteur[8], который, сказав mot[9], старается сохранить бесстрастное лицо. Его слушатели едва пришли в себя после приступа веселья. Секретарь с соломенными волосами, державший в руке бокал, даже похлопал пальцами левой руки по запястью правой, изображая аплодисменты. В этот момент он как раз повернулся, увидел Аллейнов и склонился к кому-то, сидевшему на диване, повернутом спинкой к двери.
— Ах да, — сказал голос, и мистер Реес встал и подошел, чтобы поприветствовать своих гостей.
Он был небольшого роста, смуглый, и с небольшим количеством того, что иногда называют «жирком про запас». Глаза у него были большие, лицо закрытое — из тех, которые легко забываются, так как ничего не выражают.
Он пожал чете Аллейнов руки и сказал, как рад принять их в своем доме; обращаясь к Трой, он добавил, что для него честь и привилегия оказать ей гостеприимство. В его речи проскальзывал небольшой американский акцент, но в целом голос, как и сам его обладатель, казался нейтральным. Он официально представил Аллейнов остальным. Рассказчика звали синьор Беппо Латтьенцо; он поцеловал Трой руку. Полный джентльмен, который был похож на оперного тенора, им и оказался — это был знаменитый Родольфо Романо. Мистер Бен Руби пошутил: все они знают, что у Трой получится лучше, чем вот это — и указал на огромный формальный портрет, изображавший платье Соммиты, увенчанное ее маской. Затем настала очередь потрясающе красивого молодого человека, казавшегося очень встревоженным, — Руперта Бартоломью; хорошенькой девушки, чье имя Трой, которую всегда сбивали с толку массовые знакомства, не уловила; и крупной леди с глубоким голосом на диване, которую звали мисс Хильда Дэнси; и, наконец, показался джентльмен с еще более глубоким голосом и веселым загорелым лицом, который объявил, что он новозеландец и что зовут его мистер Эру Джонстон.
Выполнив свой долг хозяина и познакомив между собой гостей, мистер Реес удержал подле себя Аллейна, проследил, чтобы ему налили выпить, отвел его в сторонку и, как заключила Трой по изменившемуся и ставшему очень внимательным выражению его лица, завел с ним серьезный разговор.
— У вас был очень длинный день, миссис Аллейн, — сказал синьор Латтьенцо с сильным итальянским акцентом. — Чувствуете ли вы, что все сигналы времени, — тут он быстро повращал пухлыми руками, — совершенно перемешались?
— Именно так, — кивнула Трой. — Думаю, это последствия смены часовых поясов.
— Приятно будет лечь в постель?
— Боже, да! — выдохнула она, вынужденная горячо с ним согласиться.
— Идите сюда, садитесь, — синьор Латтьенцо повел художницу к дивану, стоявшему поодаль от того, где расположилась мисс Дэнси. — Вы не должны начинать рисовать, пока не будете готовы, — сказал он. — Не позволяйте им заставлять вас.
— О, надеюсь, завтра я буду готова.
— Я в этом сомневаюсь, а еще больше сомневаюсь в том, что в вашем распоряжении будет ваша модель.
— Почему? — быстро спросила Трой. — Что-нибудь случилось? То есть…
— Случилось? Это зависит от того, как посмотреть. — Он пристально поглядел на нее. Глаза у него были очень живые и блестящие. — Вы, очевидно, не слышали о грандиозном событии. Нет? Тогда я должен сказать вам, что послезавтра вечером мы станем слушателями самого первого представления совершенно новой одноактной оперы. Это будет мировая премьера, — объявил синьор Латтьенцо чрезвычайно сухим тоном. — Что вы об этом думаете?
— Я ошеломлена, — сказала Трой.
— Вы будете еще больше ошеломлены, когда услышите оперу. Вы, конечно, не знаете, кто я.
— Боюсь, мне известно лишь, что ваша фамилия Латтьенцо.
— Так и есть.
— Наверное, мне следовало воскликнуть: «О нет! Неужели тот самый Латтьенцо?»
— Вовсе нет. Я скромная личность — педагог по вокалу. Я беру человеческий голос и учу его узнавать самое себя.
— И вы…
— Да, я разобрал на части самый выдающийся вокальный инструмент нашего времени, снова собрал его и, вернул владелице. Я три года работал как лошадь, и наверное, я единственный человек, на которого она обращает хоть какое-то внимание в профессиональном смысле. Мне велено быть здесь, так как она желает, чтобы я впал в восторг от этой оперы.
— А вы ее видели? Или надо говорить «читали»?
Он поднял глаза к потолку и сделал отчаянный жест.
— О боже, — пробормотала Трой.
— Увы, увы, — согласился синьор Латтьенцо.
Интересно, он всегда так неосмотрителен с незнакомцами, подумала художница.
— Вы, разумеется, обратили внимание, — продолжил он, — на светловолосого молодого человека с внешностью средневекового ангела и с выражением душевной муки на лице?
— Да, обратила. У него замечательная голова.
— Задаешься вопросом, какой дьявол вселил в эту голову мысль, будто она может сочинить оперу. И все же, — сказал синьор Латтьенцо, задумчиво глядя на Руперта Бартоломью, — я полагаю, что ужас перед премьерным спектаклем, который, без сомнения, испытывает это бедное дитя, не совсем обычного свойства.
— Нет?
— Нет. Я думаю, он осознал свою ошибку и теперь чувствует себя ужасно.
— Но ведь это чудовищно. Это худшее, что может случиться.
— Значит, такое может произойти и с художником?
— Я думаю, художники еще в процессе работы понимают, что то, что они делают, плохо. Я знаю, что я это понимаю. Наверное, у сочинителей и, судя по вашим словам, у музыкантов нет этого временного промежутка, когда они могут достичь ужасного момента истины. Эта опера и в самом деле так плоха?
— Да. Плоха. Тем не менее примерно трижды можно услышать небольшие знаки, которые заставляют сожалеть о том, что ему потакают. Для него ничего не жалеют. Он будет дирижировать.
— А вы говорили с ним? О том, что не так?
— Еще нет. Сначала я позволю ему услышать эту оперу.
— Ох, — запротестовала Трой, — но зачем же?! Зачем ему проходить через это? Почему просто не поговорить и не посоветовать ему отменить представление?
— Во-первых, потому, что Соммита не обратит на это никакого внимания.
— А если бы он отказался?
— Она поглотила его, бедняжку. Он бы не отказался. Она сделала его своим секретарем, аккомпаниатором, композитором, но главное и самое разрушительное — то, что она сделала его своим любовником и поглотила его. Это очень печально, — вздохнул синьор Латтьенцо, и глаза его сверкнули. — Но теперь вы понимаете, — добавил он, — что я имею в виду, когда говорю, что Ла Соммита будет слишком engage[10], чтобы позировать вам, пока все это не закончится. А после она, возможно, будет слишком разъярена, чтобы усидеть на месте хотя бы полминуты. Вчера была первая генеральная репетиция. А послезавтра — представление! Рассказать вам об их первой встрече и о том, как все это случилось?
— Пожалуйста.
— Но сначала вам нужно подкрепиться и чего-нибудь выпить.
И синьор Латтьенцо начал этот интересный рассказ:
— Представьте себе! Их первая встреча. Все составляющие для мыльной оперы: странный молодой человек, бледный как смерть и прекрасный как Адонис, с горящими глазами, с кончика носа стекает вода, голодным взором смотрит на свою богиню в час ночи под проливным дождем. Она подзывает его к окну своей машины. Она добра, а вскоре становится еще добрее. И еще добрее. Он показывает ей свою оперу — она называется «Чужестранка» и посвящена ей. Поскольку большую часть оперы занимает роль Руфи и едва героиня заканчивает радовать публику одной колоратурой, как начинается следующая, она впечатлена и проявляет благосклонность. Вы, конечно же, знаете ее знаменитое ля третьей октавы?
— Боюсь, что нет.
— Нет? Выше только достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса. Этот одержимый молодой человек позаботился о том, чтобы включить эту ноту в ее арию. Кстати, должен сказать вам, что, хотя это великолепное создание поет как Царица Небесная, в музыкальном смысле она глупа как пробка.
— Да бросьте!
— Поверьте мне. Это правда. Перед вами сейчас компания, собранная ради этого фарса огромной ценой. Бас — новозеландец и достойный преемник Иниа Те Виата[11]. У него роль Вооза, и поверьте мне, «Чужестранка» для него совершенно неподобающее произведение. Милая Хильда Дэнси на диване будет петь Наоми, у которой в опере лишь один дуэт, горстка речитативов и партия контральто в слабом попурри на тему Bella figlia dell’amore[12]. Там к ней присоединяется меццо-сопрано — маленькая Сильвия Пэрри, которая как раз сейчас беседует с композитором. Она, так сказать, синьора Вооз. Далее вступает романтический элемент в лице Родольфо Романо — это главный сборщик колосьев, который с первого взгляда начинает обожать Руфь. Нечего и говорить, что она доминирует в квартете. Я, наверное, кажусь вам очень черствым? — сказал синьор Латтьенцо.
— Вы кажетесь мне очень забавным, — сказала Трой.
— Но язвительным? Да?
— Ну… возможно, безжалостным.
— Если бы мы все были такими…
— Что?





