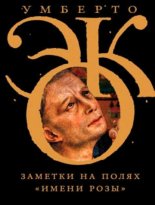Снежная королева Каннингем Майкл

– Не знаю, – говорит он. – Эндрю – он был бы против?
– Нет. Или так: даже если бы что-то его напрягало, быть против он бы себе не позволил. Быть против… Эндрю себя другим представлял.
– Скучаешь по нему? – спрашивает Тайлер.
– Нет.
– А тебе это не странно?
– Ну да, кое-чего мне теперь правда не хватает. В основном такого, честно говоря, о чем особо и не расскажешь. Сам понимаешь, двадцать восемь лет, в постели… Ладно, не будем. Зато с наркотиками охолонула немного.
– Он любил свою дурь, да? Но ведь и ты тоже.
– Ну, мне нравилось иногда понюхать вечерком. А Эндрю… ему это было гораздо нужнее.
– Так бывает.
– А кто, – говорит она, – как ты думаешь, все последние месяцы кокс покупал?
– Догадываюсь кто.
– Дело даже не в деньгах. Просто с какого-то момента я почувствовала… Знаешь, отстегивать двадцатки дилеру своего неприлично молодого любовника – лучше бы не знать, что это такое. Ты уж мне поверь.
– А я и верю, – говорит он.
– Бет тоже не стала бы возражать. Если бы мне показалось, что ей не понравится, я бы к тебе и близко не подошла.
– Но ты же ей все равно не рассказывала.
– Не из-за тебя, – говорит она.
– Не из-за меня, а потому что…
– Потому что не хотела ей лишний раз напоминать, что она умирает, что кому-то придется ее заменить. В том или ином смысле.
Тайлер меняется в лице, но остается при этом неподвижным.
– То есть вот что ты делала? – говорит он. – Брала на себя часть ее обязанностей?
– Если честно, да. Поначалу.
– Заменяла мне подружку, которая выдохлась?
– Сначала. Потом все стало по-другому.
– Мне сорок семь. И я выгляжу ровно на свой возраст.
– Мне пятьдесят шесть. Ты для меня действительно несколько молод.
– В детстве я был красавчиком. Просто уродился таким. А теперь, знаешь, очень тяжело. Тяжело, когда на тебя больше никто не засматривается.
– Я засматриваюсь.
– Ты не в счет. Я имею в виду посторонних. Тех, кто может выбирать, смотреть на меня или нет.
– Мне гораздо важнее, – говорит она, – что ты так заботился о Бет.
– На моем месте любой так же заботился бы.
– У тебя и опыта-то не было.
– А мне как-то казалось, что был.
– Ты не отшатнулся. Я видела. При тебе ее пожирала смерть, и не один раз, а два, и ты крепко ее держал. Для тебя она была все та же.
– Ну, просто… А что, кто-то мог бы по-другому?
– Запросто. И многие. А я сюда, между прочим, пешком пришла.
– Из Уильямсберга?
– Ага. Пешком через мост топала.
– Зачем?
– А ты зачем залез на карниз?
– Я первый тебя спросил.
– Мне вдруг вступило дойти до тебя. Тебе – выйти из квартиры, но так, чтобы не на улицу. К обоим желание пришло одновременно. Чувствуешь логику?
– Наверно. Хотя нет. Не очень.
– Мне уйти?
– Нет, – говорит он. – Может, ляжешь, полежишь тут со мной немножко? Я до тебя не дотронусь.
– Дотрагивайся на здоровье.
– Здесь темно.
– У вас что, и лампочек не осталось? Вы действительно всё роздали?
– Остался диван. И телевизор.
– Единственные вещи, без которых тебе не обойтись.
– Тут так хорошо. Давай полежим.
– Давай.
От фонарей в парке расходятся болезненно-бледные круги, одну пирамидку света от другой отделяют области несгустившейся беспокойной темноты.
– Надеюсь, это не до ночи? – спрашивает у Баррета Сэм.
Баррет по пути то и дело смотрит на небо. Он ничего не может с собой поделать, во всяком случае, когда оказывается в Центральном парке. В небе, как всегда, все как обычно.
– Нет, – говорит он. – Я бы ни за что не обрек тебя на вечер в обществе Эндрю и Стеллы. Но тут просто так вышло, что он позвонил.
– Центральный парк с самого начала был предназначен для богатых. Ты об этом знал? – говорит Сэм.
– Что-то такое слышал.
– В середине девятнадцатого века планировали будущую застройку Нью-Йорка. Тогда в этих местах были только леса и фермы.
– Да-да, про это я знаю.
– Мнения отцов города разделились. Одни хотели устроить все по примеру Лондона, разбить тут и там много небольших парков. Но победила другая партия, которая хотела гигантский парк, расположенный за много миль от мест, где жили бедняки. Фредерику Лоу Олмстеду[32] было велено не проектировать ничего, что любит простой народ, – ни парадного плаца, ни площадок для игры в мяч.
– Надо же, – говорит Баррет.
– Представь себе, как в окрге взлетели цены на недвижимость. И получилось, что бедным достался даунтаун, а богатым – аптаун. Что и требовалось доказать.
– Что и требовалось доказать.
– Тебе не надоело? – спрашивает Сэм. – Я не слишком занудствую?
– Нет, – отвечает Баррет. – Я тоже, можно сказать, зануда.
На ходу он тайком смотрит на Сэма долгим пристальным взглядом. В профиль лицо Сэма выглядит суровее, чем анфас, и лучше отвечает общепринятым критериям красоты. Нос кажется заметнее, а купол лба более эффектным архитектурным изгибом стыкуется с непокорными вихрами. Если смотреть сбоку, Сэм отдаленно напоминает Бетховена.
Вроде бы у японцев есть для этого специальное слово – ма. Оно означает (существует ли оно на самом деле, или Баррет выдумал его и облагородил посредством азиатской эстетики?) то, чего не увидишь с одной точки; то, что меняется по мере движения наблюдателя. Ма есть у зданий. У садов. И у Сэма.
– Что ты сказал? – говорит Сэм.
– Ничего.
Сэм смеется. Природа снабдила его глубоким музыкальным смехом – так звучат деревянные духовые, когда настраиваются перед началом концерта.
Эндрю и Стелла ждут их на Земляничной поляне. Тесно прижавшись друг к дружке, они сидят на скамейке у круглой мозаики. Они похожи на нищих молодых путешественников, не отчаявшихся и не сломленных (пока), но уже ощутивших первую усталость от странствий; как раз вошедших в ту пору, когда, пусть и едва заметно, в душах начинает сгущаться беспомощность; еще не одержимых желанием обрести цель пути, но с недавних пор задумывающихся о ней и пораженных этим – они-то надеялись конец проскочить, навеки остаться скитальцами, которым хватает для счастья выпросить мелочи у прохожих, поживиться в мусорных баках и изредка с комфортом переночевать в зале ожидания какого-нибудь автовокзала.
Эндрю и Стелла сейчас как двое юных любовников, которые только-только – к их грустному изумлению – начали осознавать, что материнские звонки (детка, уже поздно, пора домой) перестали быть досадной помехой, какой всегда до сих пор были; что вместо упрека они – чего обоим меньше всего на свете хотелось – слышат в них любовь и нежность; что материнские голоса, материнская тревога обретают непреодолимую силу притяжения.
Эндрю со Стеллой о чем-то негромко, но увлеченно разговаривали и не заметили, как подошли Баррет и Сэм.
– Привет, – окликает их Баррет.
Эндрю оглядывается и во весь рот улыбается Баррету.
– Привет, привет, – говорит он.
Что такое, Эндрю постарел? Нет, этого не может быть.
Баррет виделся с ним несколько месяцев назад. Лицом он по-прежнему мраморное изваяние из музея. Но какая-то перемена все-таки намечается. Не теплится ли под безупречной кожей пока еще не видная глазу гниль? Не обещает ли раньше срока сделать из Эндрю развалину? Или это просто так кажется в потемках?
Стелла понимающе улыбается Баррету, словно с трудом сдерживая смех. Она могла бы быть дочерью мечтательной юной богини, умудрившейся каким-то образом понести от сокола. В ней много птичьего – не умильного, а резкого и порывистого. В ее миниатюрном сожении, в молочно-бледных тонких руках и длинной гибкой шее – выверенная молниеносность хищника. Она маленькая, но никак не хрупкая.
Эндрю вскакивает на ноги и в своей обычной манере победителя на высоте плеча протягивает Баррету раскрытую ладонь; Баррет ее пожимает. Точно так же он протягивает руку Сэму, с которым однажды случайно виделся на Орчард-стрит.
– Здравствуй, Эндрю, – говорит Сэм.
Стелла остается сидеть. Баррет подходит к ней, на что она явно и рассчитывала.
– Привет, Стелла, – говорит он.
Она пронзает его своим соколиным взглядом. В нем нет угрозы – ну или почти что нет, – Баррет для нее не добыча. Но при этом она дает понять, что смотрит на него и вообще на все со своей огромной высоты, откуда тень кролика ей видна так же ясно, как люди видят огни приближающегося поезда.
– Привет, Баррет, – говорит она.
Звонкий, по-девичьи нагловатый голос плохо сочетается с ее обликом. Из тела хищной птицы к нему обращается девушка, по-видимому, довольно простодушная и незлая. Кто знает, какая она на самом деле?
На правах хозяина этой таинственной вечеринки для своих Эндрю говорит:
– Спасибо, ребята, что пришли.
– Прекрасный вечер, – говорит Баррет. – И один из последних. Слышите глухой рокот? Это зима. Она всего в миле от нас.
– Ага, точно, – говорит Эндрю.
Мысли Баррета занимает Сэм, который стоит молча и, скорее всего, недоумевает, что он тут делает и как его сюда занесло.
– Что ж, – говорит Баррет. – Может быть, пойдем куда-нибудь, выпьем?
– Мы по барам не ходим, – отзывается Стелла.
– Как знаете, – говорит Баррет. – А хотите, мы с Сэмом сходим купим бутылочку вина.
– Мы не пьем, – говорит Стелла.
– И кстати, правильно. Пить вредно. Вот я, например, пью – и посмотрите, во что превратилась моя жизнь.
Стелла вперилась в него внимательным хищным взглядом, как если бы он говорил на полном серьезе. Похоже, что, как и Эндрю, она не понимает ни шуток, ни иронии – в местности, откуда она родом, этот язык не в ходу.
Баррет взглядом обещает Сэму вытащить его отсюда, как только это будет в человеческих силах.
Не обращаясь к Баррету, а скорее просто в его направлении, Стелла произносит негромко:
– Ты увидишь нечто чудесное.
Баррет оборачивается к ней. Он ощущает сейчас зыбкость ее материальной природы – заключается она не в утонченности и хрупкости, а в том, что Стелла чуть-чуть просвечивает, как будто плоть ее состоит из материи более податливой, более уязвимой для ссадин и шрамов, чем у большинства людей; как будто она недостаточно тщательно представила в уме свое физическое обличье.
– Ты о чем? – спрашивает Баррет.
С тем же многозначительно-полурассеянным лицом, тем же тихим гипнотическим голосом заклинателя Стелла говорит:
– Ты увидишь нечто чудесное. Скоро.
– И что же это, по-твоему, такое будет? – спрашивает Баррет.
Она качает головой.
– Понятия не имею. Просто я немного медиум.
На этих словах она выходит… нет, не из транса, ничем подобным тут и не пахнет; она выходит из оцепенения, с которым взирала на пустоту у себя перед носом.
Они же под кайфом, оба, и она, и Эндрю. Как Баррет этого сразу не заметил? Казалось бы, жизнь с Тайлером должна была его кое-чему научить.
– Великолепно, – говорит он. – Буду ждать с нетерпением.
Тут вступает Эндрю, как заскучавший муж на званом ужине, которому невмоготу стало слушать женский щебет, и поэтому он решил с дружелюбным напором перевести разговор на сравнение чешуйчатой и гонтовой кровли или на исключительные достоинства приобретенного им музыкального центра.
– Да, между прочим, – говорит он. – Я тут хотел тебе одну вещь сказать. А по телефону не хотелось.
– Что за вещь? – спрашивает Баррет.
– И еще подумал, если встречаться для этого, то в Центральном парке, а не где-нибудь там еще.
– Прекрасно. Я тебя слушаю.
Эндрю бросает взгляд на Стеллу и Сэма, подозрительный и в то же время заговорщицкий, мол, не волнуйся, с этими людьми все в порядке, этим людям можно доверять.
– Я видел свет. Ну, тот, про который ты мне рассказывал, – говорит он Баррету.
Баррет не понимает, что на это отвечать. Он снова смотрит на Сэма. Сэм понятия не имеет, о каком свете идет речь. Он как будто очутился в компании иностранцев, говорящих на неизвестном ему языке, и ему остается только стоять молча с добродушной полуулыбкой на как бы что-то понимающем лице.
– Вчера вечером, – говорит Эндрю, – я шел домой. По Ютика-авеню, ну ты знаешь. Мы в Краун-Хайтс сейчас живем.
– В огромной квартире, – с горделивым вызовом добавляет Стелла. – С нами куча людей живет. Хороших людей.
Она как будто расписывает добродетельные достоинства – простоту нравов, глубокую человечность отношений – маленькой, никому в мире не интересной страны.
– Короче, я посмотрел вверх, – говорит Эндрю. – Как будто кто-то мне велел посмотреть вверх. И там был он.
– Свет, – говорит Баррет.
– Он… это самое… мерцал, – говорит Эндрю. – Прямо над головой. Такая кучка звезд. Но ниже, чем звезды. И зеленый такой. Ближе сюда, к Земле, в смысле. Ближе звезд.
– Ты действительно его видел, – говорит Баррет.
– Видел, видел, – говорит Стелла. Моему парню надо верить.
– Вот это я и хотел тебе рассказать, – говорит Эндрю. – Что я тоже его видел. Ну и понятно, где еще об этом рассказать, как не тут, в парке.
– Это… просто потрясающе.
– Жутко красиво было.
– Ага.
Баррет с удивлением замечает, что весь дрожит. Может ли то, что говорит Эндрю, быть правдой? Да, может. Исключать этого нельзя. Разве не Эндрю первому он рассказал про свет? Разве не действовал он тогда по наитию? Баррет всегда списывал тот момент откровенности на вожделение и кокаин. Но вдруг он знал, отчего-то догадывался, что Эндрю, прекрасному простаку Эндрю, единственному из его знакомых хватит… невинности, чтобы ему поверить? И чтобы самому увидеть свет?
Была еще, конечно, Лиз, но она упорно утверждала и утверждает до сих пор, что им обоим все это помстилось.
Новая реальность, лучше прежней, начинает вступать в свои права. Оказывается, есть на Земле малое сообщество простых людей (а ведь Бог всегда благосклонен к простым людям?), открытых видениям.
Что если Баррета (и Эндрю, и даже, возможно, циничную Лиз) со дня на день ждет откровение; что если они одними из первых узнают, что их творец снова ради них явился в мир?
Все может быть. Ничто в данный момент не указывает на то, что этого быть не может.
Баррету удается унять дрожание в голосе.
– Итак, говоришь, кучка звезд?
– Ну да. Таких… скорее, бирюзовых.
– А ты при этом… почувствовал что-нибудь?
– Почувствовал, что на меня Бог смотрит. Вроде как изучает.
Да. Вот оно.
Трое паломников, которым подмигивают небеса…
Баррет с трудом, запинаясь, выговаривает:
– Узнаю. То есть да, я тоже это чувствовал. Этот… изучающий взгляд. Нацеленный на меня.
– Однозначно.
– Просто… просто поразительно.
– Однозначно поразительно.
Какое-то время все молчат. Баррет старается не забывать про Сэма, бедного Сэма, который стоит в стороне и недоумевает, какого черта, но Сэм все поймет, ему придется понять, Баррет все ему объяснит. Баррет не сошел с ума и не бредит. Необъятный и доселе не дававший о себе знать отец решил наконец показать детям, что их видит и за ними приглядывает, что они не заблудились навсегда в лесной чаще…
– И да, слушай, – говорит Эндрю. – Я тут хотел тебя кое о чем попросить.
– Конечно. Проси о чем хочешь.
Эндрю улыбается своей безупречной улыбкой, ничуть не натужной и не искусственной; это в чистом виде обворожительная мужская улыбка.
– У меня проблемка образовалась. Небольшая такая проблемка.
– И какая же?
– В общем, с деньгами.
– А-а.
Ничего, кроме “а-а”, у Баррета произнести не получается; озадаченная досада – единственная эмоция, какую ему удается вложить в этот односложный выдох.
Эндрю перестает улыбаться. В том, как легко и быстро улыбка сходит у него с мигом потемневшего лица, чудится что-то тревожное, словно уже начинают проглядывать первые симптомы затаившейся хвори – обозначается слабый намек на сыпь, кашель становится глубже и влажнее, чем обычно.
– Я должен денег одному человеку, – говорит Эндрю.
– Ясно.
Баррет ждет, ничего другого ему сейчас не остается. Близится нечто грозное, вот-вот накатит приливная волна – это понятно Баррету по тому, как в только что прозрачной воде у кромки летнего пляжа поднимается зеленая муть.
– Занесло меня немного, – говорит Эндрю. – Сам знаешь, как бывает.
– Знаю.
– Этот самый человек – он долг с меня требует.
Чтобы деньги отдал.
Есть какой-то человек, которому Эндрю задолжал денег. Это человек хочет получить долг скорее раньше, чем позже.
– Понимаю, – говорит Баррет.
– Ну то есть я и хотел спросить – не подкинешь несколько баксов?
– Не подкину ли я несколько баксов.
– Мы же оба свет этот видели.
Баррет не находит слов. Он не успел пока подготовиться к новому откровению – к антиоткровению. Его хотят надуть. Эндрю ничего такого не видел. Ему просто срочно понадобились деньги. Зная, как легко Баррет поддается на обман, как свято верит в бывшее ему видение и какой властью он над Барретом обладает (почему некоторые воображают, будто красивые дети не догадываются о своей власти над окружающими?), Эндрю решил, что с Баррета без труда можно получить взнос в Фонд Видевших Свет.
Стелла выступила его подручной. Он подучил ее: подкинь этому типу “прозрение” медиума, чтобы он потом поверил, что видели-то все одно, но, увы, порознь.
– Мы же друзья? – говорит Эндрю. – А я оказался на мели, и мне, типа, нужна помощь друга.
Баррет будто со стороны слышит собственные слова:
– У меня нет денег. Я, собственно, практически ничего не зарабатываю. Я работаю у Лиз в магазине.
– Не, постой, – говорит он. – Я много-то и не прошу. Мне просто позарез надо, непонятно, что ли?
– Все мне понятно, – отвечает Баррет. – Но помочь тебе я ничем не могу.
– Я видел свет. Мне небеса священные подмигнули. А это же для нас тобой не просто так…
– На самом деле ты ничего не видел.
– Ты что, не понял, я же сказал…
– Сколько тебе нужно? – спрашивает Сэм.
В кафе навязчиво светло. Тайлер обеими руками держит свою кружку кофе. Лиз заказала маленький чайник чаю, но так к нему и не притронулась.
– Не поверишь, но я ни разу не был в Калифорнии, – говорит Тайлер.
– Много кто ни разу не был в Калифорнии.
Это кафе на одном из не самых оживленных отрезков Авеню Си явно пользуется популярностью среди людей, у которых что-то не ладится в жизни. Женщина с ослепительно-оранжевыми волосами громче, чем это необходимо, спрашивает про суп дня. Двое мужчин в темных очках спорят, есть ли разница между цементом и бетоном или это одно и то же.
– Там есть городок Кастровилль, – говорит Тайлер. – Артишоковая столица мира.
– Ради нее, по-твоему, и стоит в Калифорнию ехать?
– Нет. Но это так… по-калифорнийски.
– Наверно.
– В Кастровилле каждый год проводят фестиваль артишоков. С парадом. И с выборами королевы. На коронацию ее одевают в платье из артишоковых листьев. И знаешь, кого там однажды выбрали королевой? Мерилин Монро.
– Откуда ты все это знаешь?
– Я новостной наркоман.
– Это было в новостях?
– Возможно, на выборы мы будем в Калифорнии, – говорит он.
– Да.
– Может так сложиться, что мы попадем на фестиваль артишоков и как раз будем смотреть, как шествует по узким улочкам девушка в платье из артишоковых листьев, когда объявят, что победили Маккейн с Пейлин.
– Слишком многое для этого должно совпасть.
– Ну да. Просто мне кажется, в этом будет такой извращенный кайф – узнать о том, что страна решила полностью и окончательно скатиться в тартарары, наблюдая, как машет зевакам симпатичная девица в артишоковом платье.
– Ты прямо как помешанный.
– Что, извини? Нет, “помешанный” – это про странные увлечения. Одержимые заводят семнадцать кошек. Одержимые собирают все видеоигры, вышедшие с начала семидесятых. А меня интересуют судьбы мира. Ты находишь это ненормальным?
– Если хочешь со мной в Калифорнию, тебе придется завязать с наркотиками, – говорит Лиз.