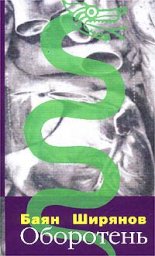Не знает заката Столяров Андрей

Глава первая
За окном поплыла платформа, поезд мягко затормозил, проводник, громыхнув замками, открыл дверь вагона. В проходе зашевелились. Крупный мужчина, стоящий передо мной, повернул голову:
– Я – на машине. Может быть, вас подвезти?
Это был мой сосед по купе. Вчера вечером мы не обменялись с ним и десятком слов. Впрочем, как и с двумя другими, удивительно похожими на него. Где только таких производят? Все трое – нечеловеческих габаритов, все трое – в деловых плотных костюмах, все трое – не снимающие пиджаков даже в душноватом купе. В первый момент я было решил, что они из одного ведомства и что прав Сергей Николаевич, терпеливо беседовавший со мной всего час назад: пасти меня могут начать еще на вокзале. Вот вам и доказательство. Неприятное это было чувство, когда, заглянув из прохода внутрь, я натолкнулся на три обращенных ко мне тускло безразличных физиономии. Чувство, что влезаешь в капкан. Чувство, что все завершилось, еще не успев начаться. И только когда мужчины, отдав билеты проводнику, открыли портфели и деловито уткнулись каждый в свою газету, сердце у меня отпустило, и я тоже, щелкнув замком «дипломата», отгородился от них только что купленными «Московскими новостями».
– Спасибо, меня встретят.
Это было не так. Никто меня не встречал, и до квартиры, согласно договоренности, я должен был добираться самостоятельно. Однако вчера, уже около семи вечера, Борис действительно заявился ко мне домой с каким-то весьма осторожным, сдержанным, очень вежливым человеком – лет сорока, в таком же деловом плотном костюме – представил его как «специалиста в своей области», и тот, усевшись напротив и предложив обращаться к нему Сергей Николаевич, почти три часа накачивал меня всевозможными правилами и наставлениями. Причем я довольно быстро сообразил, что данный Сергей Николаевич, если только это было его настоящее имя, может быть, и является «специалистом в своей области», скорее всего является, иначе бы он здесь не возник, но вот реальную ситуацию, в которой мне предстоит очутиться, не представляет. Вероятно, Борис не счел нужным посвятить его в суть событий. И потому инструктаж по большей части сводился к вещам, которые мне очевидно не требовались. Чередовать, например, звонки с сотового телефона звонками из автоматов, автомат выбирать по принципу «третий – четвертый» от места, где производятся оперативные действия. Если же понадобится передать действительно важную информацию, то купить новую трубку, осуществить контакт, после чего трубку немедленно выбросить. По сотовому телефону, с которого сделан звонок, я берусь вычислить вас в течение часа, сказал Сергей Николаевич. Вот в таком духе, въедливым голосом, повторяя одно и то же по три – по четыре раза. Вчера меня это чрезвычайно злило. Я не понимал, зачем это нужно. И, главное, с какой стати Борис втягивает в эту историю новых людей? Ведь даже если предположить, что Сергей Николаевич в данном вопросе ни сном ни духом, выяснить кто мы и чем занимаемся, для него большого труда не составит. Круг посвященных таким образом расширяется, а это, в свою очередь, означает, что на поле появляются новые игроки. Ситуация нагружается дополнительными оттенками, становится непредсказуемой. Одни тянут туда, другие – сюда. Ну что? Нам это надо?
В общем, я был ужасно зол на Бориса. В конце концов я не мальчик, чтобы меня подобным образом дрессировать. Я в этой системе уже почти пять лет, а за такое время невольно научишься выделять и оценивать каждый шорох. Каждую тень, которая откуда-нибудь на тебя упадет. Шорох – это только сегодня шорох, тень – это только сегодня лишь слабая тень, а завтра – это уже катастрофа, обвал, сдвиг политической почвы. Не успеешь моргнуть, как окажешься под тоннами мусора. Чутье здесь вырабатывается мгновенно. Тем более, что и смысла в подобной дрессуре нет. За три часа никакими специальными навыками не овладеешь. Не научишься ни стрелять, ни драться по-настоящему, ни избавляться от слежки, ни самому скрытно следовать за «объектом». Ни пользоваться служебной аппаратурой, ни защищаться от прослушивания и наблюдения. А, главное, мне это совершенно не нужно. Если там требуется профессионал, пусть посылают профессионала. Если же посылают меня, обычного человека, нечего забивать мне голову ерундой.
Правда, мое раздражение, выражавшееся главным образом в том, что держался я с подчеркнутой вежливостью, на что, впрочем, ни Сергей Николаевич, ни тем паче Борис внимания не обращали, не шло ни в какое сравнение с тем зарядом враждебности, в который немедленно превратилась Светка. Кто-кто, а Светка подобного отношения не переносит. При всей ее светскости, позволяющей безболезненно выдерживать три-четыре фуршета в неделю, при всей ее страстной нацеленности на карьеру, при всем ее чисто московском умении отодвигать личную жизнь ради нужной встречи или знакомства, одно правило она таки соблюдает незыблемо: ее дом – это ее дом, ее крепость, ее бастион, никто не смеет вторгаться сюда без приглашения. В этом она, надо сказать, совершенно права. Когда, умотанный, точно цуцик, вваливаешься поздно вечером к себе в квартиру, то психологически очень важно знать, что вместе со щелчком дверного замка закончились на сегодня и все проблемы. Что бы там во внешнем мире ни произошло, какие бы пертурбации ни возникли, хоть президент, перекатавшись на лыжах, объявил бы себя императором Владимиром I, но ранее девяти часов следующего дня это ко мне отношения не имеет. Вся наша группа, включая Бориса, уже усвоила: звонить сюда с девяти вечера до девяти утра бесполезно, подойдет Светка, выслушает, непреклонным голосом скажет, что обязательно передаст. И все, настаивать бесполезно. Светка пожмет плечами и, вежливо попрощавшись, повесит трубку. Нет такого дела, которое нельзя было бы отложить на завтра; мне нужен муж, а не тряпичная кукла…
Она нам даже чая не предложила. Вместо этого было продемонстрировано каменное лицо, скрипучий голос, плотно закрытая дверь в соседнюю комнату. Это проняло даже Бориса. Во всяком случае, по дороге на Ленинградский вокзал, когда мы, выскочив из-под развязки на набережной, остановились у красного огня светофора, он искоса поглядел на меня и сказал, смущенно похмыкав:
– Будешь звонить домой, передай мои извинения…
– Да, ладно… – махнул я рукой.
Я бы и так передал – безо всяких просьб с его стороны.
А Борис побарабанил пальцами по рулю и прищурился, будто свет встречных фар был ему невыносим.
– Просто мне хочется, чтобы ты оттуда вернулся. И не просто вернулся, но обязательно – в целости и сохранности. Ты нужен мне здесь.
– В самом деле? – переспросил я, поскольку ни о чем таком Борис раньше не заикался.
Расточать похвалы сотрудникам – не его черта.
– В самом деле. Имей это в виду.
Кстати, примерно так же выразилась вчера и Светка.
Дождавшись, видимо в последней степени нетерпения, пока Борис и Сергей Николаевич выйдут на лестницу, она опять-таки демонстративно, с треском захлопнула за ними дверь, а потом вдруг припала ко мне, так что перехватило дыхание.
– Только возвращайся, возвращайся, пожалуйста…
Будто я отправлялся не в Петербург, а в одну из «горячих точек».
– Ты что, Светка?..
– Пожалуйста, пожалуйста, возвращайся…
Она была не похожа на саму себя. Растерянное лицо, глаза, полные слез, синеватые тени в мешках, как после недели бессонницы.
Никогда раньше такого не было.
– У меня – предчувствие…
– Какое?
– Что ты не вернешься…
Голос у нее прерывался.
Она дрожала.
Я нагнулся и осторожно, насколько мог бережно, поцеловал ее в горячие губы.
Интересно, что предчувствия возникли не только у Светки. Еще утром, когда детали поездки обсуждались на рабочем заседании группы, Аннет (между прочим полная светкина противоположность) навалилась на стол, так что тот скрипнул, и решительно заявила, что у нее есть принципиальные возражения.
– Ехать должен кто-то другой, – сказала она, поочередно придавливая каждого неприязненным взглядом. – Мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, быть может, потребуются какие-то неординарные действия. И человек, который этим займется, от решений которого будет зависеть все, должен быть способен их предпринять. Я понимаю, почему была выбрана именно эта кандидатура, я понимаю также, что других вариантов у нас, вероятно, нет, но как раз те ее качества, которые в данный момент представляются положительными, в полевой обстановке могут сыграть негативную роль. В общем, я – против. – Она повернулась всем телом и перевела взгляд на меня. – Ничего личного, разумеется. Это – только работа…
Я промолчал. Для меня не было новостью, что Аннет, пожалуй, единственная из всей группы, мне не вполне доверяет. Собственно, это не было новостью ни для кого. Аннет тем и отличалась от остальных, что вопросы, укутываемые обычно ватой иносказаний, могла сформулировать прямо и откровенно. Качество, надо признать, очень редкое. Особенно в той среде, где все разговоры, как правило, ведутся на полутонах, на полувздохах, на многозначительных паузах, где никто никогда ничего прямо не скажет, где принято лишь намекать на истинные намерения, чтобы потом, если понадобится, придать намеку абсолютно противоположный смысл. За это Борис ее и ценил. Это помогало реконструировать начальные координаты. И еще Аннет ценили за то, что в ее внезапных высказываниях действительно не было ничего личного. Не было подспудного желания задеть человека. Только потребности дела, только стремление отделить главное от второстепенного. И я, например, почти не обиделся, когда прошлой осенью, это уже, фактически, после пяти лет моего пребывания в группе, Аннет вдруг объяснила, почему она мне все-таки не доверяет. Ты – не наш человек, сказала она. Ты – не наш и по-настоящему нашим никогда не станешь. Ты смотришь на нас, как на ловкачей, торгующих пустотой. Такие, знаешь, смешные виртуальные персонажи. Покемоны, кривляющиеся по замыслу режиссера. Измысливающие трюки и фокусы, пускающие мыльные пузыри. Мы – это мы, а ты – это ты, единственный и неповторимый… Это, кстати, не значит, что на тебя нельзя положиться, сказала она. Наоборот, я считаю, что ты – один из самых надежных людей в нашей группе. Как раз положиться – в обыденном смысле – на тебя можно. Ты не предашь: для этого ты слишком чистюля, тебя не купишь: сама мысль о том, что можно продаться, кажется тебе абсурдной. Но я просто знаю, что может возникнуть некая ситуация, некий конфликт, предугадать который сейчас нельзя, где ты ни с того ни с сего скажешь «нет», и мы очутимся по разные стороны баррикад. Потому что мы для тебя – ничто… Это, кажется, конец ноября, спешка, сдача очередного проекта, поздний вечер, офис, залитый электрическим светом, мокрые хлопья снега, сползающие по оконным стеклам… Хотя, вру, конечно, обиделся. Нельзя не обидеться, если тебе говорят подобные вещи. И как бы потом я ни старался держаться с Аннет по-прежнему, слабая трещинка в наших отношениях все-таки появилась. Слабенькая такая, неуловимая, с волосок, ощутимая, тем не менее, почти в каждом слове.
Вот и сейчас меня тоже – слегка кольнуло.
Однако, самое любопытное оказалось не это.
Борис положил карандаш, который он, взяв за кончик, задумчиво покачивал в воздухе, и чрезвычайно мягко, как он всегда обращался к Аннет, спросил:
– Аннушка, ты могла бы это чем-нибудь мотивировать?
– Нет, – сказала Аннет, прижав руки к груди, – мотивировать не могу. У меня только предчувствие.
И вдруг опять всем крупным телом повернулась ко мне:
– Откажись!.. Не езди!.. Прошу тебя!.. Ничего хорошего из этого не получится…
Так что предчувствий с этой поездкой хватало. И если переживания Светки еще можно было пропустить мимо ушей: Светка просто ревновала меня к «петербургскому периоду» жизни, то от предчувствий Аннет отмахиваться не следовало. Не тот это был человек. Мы и в самом деле почти пять лет проработали вместе, я убедился – раз уж Аннет сочла нужным о чем-то предупредить, к этому стоит прислушаться. И вот тут я не мог не подивиться необычайной проницательности Бориса. Тому, как вчера он, будто снег на голову, свалился на нас вместе со своим вежливым Сергеем Николаевичем. Необычайно точный был ход. Ведь в противном случае мне сначала вымотала бы всю душу Светка, это уж непременно, она в такие минуты становится неуправляемой, а после этого я стал бы грызть себя сам – вспоминая утренней разговор и пытаясь соотнести высказывание Аннет, со сложившейся ситуацией. Есть у меня, к сожалению, такой недостаток. Вцепившись один раз в какую-либо тематику, я, как бульдог, уже не отпускаю ее, пока все на станет окончательно ясным. Думаю о ней дни и ночи, каждое событие, каждый документ, попадающийся на глаза, рассматриваю исключительно из этих координат. Ни на минуту не прекращается это шизофреническое, мучительное вникание в материал. Остановиться я уже не могу. И с одной стороны, это, разумеется, хорошо, еще не было случая, чтобы мне не удалось в результате представить проблему с предельной отчетливостью, умение выделить суть, как считает Борис, вообще – одно из главных моих достоинств, но с другой стороны, у такого способа размышлений есть и отрицательные черты. Непрерывное проникновение в суть, ежедневная, ежечасная концентрация на чем-то одном выматывает до крайности. На меня нападают бессонницы, длящиеся иногда по целой неделе, я перестаю есть, пить, нормально воспринимать окружающее, становлюсь раздражительным, вспыльчивым, могу на самый безобидный вопрос ответить ужасной грубостью. Светка это мое состояние уже знает и в такие периоды старается держаться от меня подальше; не отвечает, если я вдруг вспыхиваю, скрывается у себя в комнате, весь день не подает признаков жизни. Ей со мной бывает очень не просто. Вот так в мире всегда – с одной стороны, с другой стороны… Хочешь чего-то добиться, значит – плати…
В общем, Борис молодец. Если бы не его отвлекающая терапия, бессонница в эту ночь была бы мне обеспечена. Я и так плохо сплю в поездах. Не знаю уж, что на меня действует, может быть, атавистический, с древних времен страх подсознания: новые земли – это новые непредсказуемые опасности, однако сам дымный запах вокзалов, крик поездов, пронзающий небо, уходящие в даль полосы рельсов, вызывают у меня ощущение безнадежности. Кажется, что я уже никогда не вернусь обратно, что уеду – и мир за моей спиной бесшумно развалится. В поездах я обычно сплю часа три-четыре. Даже, пожалуй, не сплю, а пребываю в некой расплывчатой дреме: лежу, слушая железное громыхание буферов, сигналы об отправлении, перекличку людей на ночных перронах, вижу за стеклами синеватые станционные тени, смутные окна домов, жмущихся к железнодорожному полотну, сыроватые просторы полей, черный лес, ужасно придвигающийся к вагонам. То, о чем коренной горожанин обычно не думает. Внезапно начинаешь догадываться, что мир не таков, как только что представлялось, что ты – вовсе не центр вселенной, не средоточие ее дум, и если вдруг ты по каким-то причинам исчезнешь, если уйдешь в никуда, в серое пространство за горизонтом, этого никто не заметит. Тебя нет, ты не существуешь, ты никому не нужен…
Я был очень благодарен Борису. Он сделал вчера именно то, что следовало. Не только снял стресс, переключив меня на подробности нудного профессионального инструктажа, но еще и каким-то образом привел в рабочее состояние. Я чувствовал себя не манекеном, набитым тряпками, чего в тайне боялся, а отдохнувшим, свежим, встряхнувшимся, готовым к деятельности человеком. Легкий звон стоял во всем теле. Меня даже не слишком пугало то, о чем Борис поведал вчера напоследок. Вчера он вообще был не очень словоохотлив, не крутился, как заводной, не дергался, не частил, словно куда-то опаздывая, не рассказывал анекдотов, которых знал великое множество, не пробрасывал, посмеиваясь, истории о политиках, с коими имел дело. Казалось, у него кончились силы, отпущенные на жизнь. Паузы между репликами провисали на пять-шесть кварталов. И лишь когда мы, проскочив тень моста, притормозили у светофора, попав в молчание и наблюдая, как тащится через перекресток тяжелый гофрированный фургон, Борис, видимо, через силу, заставляя себя, объяснил, что ситуация складывается на редкость плохая, трудная складывается ситуация, давно мы в такие ситуации не попадали, и он не то чтобы ждет, что я поставлю все с головы на ноги, но без продвижения в этом вопросе будет еще труднее.
– Злотникова что, в самом деле убили? – спросил я напрямик.
И Борис, даже сморщившись, настолько ему, вероятно, не хотелось что-либо говорить, ответил, что официальная точка зрения еще не выработана. Дело запутанное, следов насилия нет, однако ничего другого предполагать не приходится.
– У него рот был забит землей, – после некоторого молчания добавил он.
У меня стянулась кожа на лбу. Повеяло холодом, будто мокреть из-за окна ворвалась внутрь салона.
– Это еще зачем?
– Откуда я знаю… Никто не знает… Наше российское вуду… Шучу, конечно…
Видно было, что он не шутит. Светофор уже переключился с красного на зеленый, а он так и сидел еще пару секунд, не трогаясь с места.
Хорошо час был поздний, и очереди машин за нами не выстроилось.
Вот, даже это меня не слишком пугало. В Москве был дождь, водяной блеск проспекта, вспорхи красных огней, несущихся по нему к краю ночи. Лицо Бориса в полумраке салона имело цвет сырого картофеля. В голосе – глухота. Он точно уже смирился с роковой неизбежностью. Буквально чувствовалось, как бесшумно, не вызывая даже легкого дуновения, обваливаются целые пласты нашей жизни. Ничего нельзя было сделать… А в Петербурге, едва я ступил на перрон, вдруг хлынуло отовсюду такое яркое, такое пылкое, такое горячее солнце, дробящееся в стеклах вагонов, разогревающее асфальт, что все московские страхи показались мне вымышленными. Они не имели надо мной никакой власти. Они остались там – за дождевой, расплывчатой пеленой. Они как сон вытекали из памяти. Я был свободен, и ничто ни к чему меня не обязывало. Наверное, я был самым счастливым человеком на свете. Ведь хоть на неделю, хоть дня на три, хоть на сутки вырваться из Москвы! Из круговорота цепляющихся друг за друга текущих дел, из вереницы муторных обязательств, принимаемых то добровольно, то по служебной необходимости, из бесконечного крутежа бумаг, телефонных звонков, встреч, совещаний. Каждое последующее дело наслаивается на предыдущее, все – сверхсрочно, ничего нельзя отложить. Быстрее, быстрее! Так – день за днем, месяц за месяцем. Некогда вздохнуть, некогда оглянуться вокруг. Проходят годы, проходит жизнь.
Это, наверное, одно из главных отличий московской жизни от петербургской. В Москве, если уж ты включился в деятельность какого-нибудь определенного сектора, перестаешь принадлежать самому себе, быстро встраиваешься в существующую жесткую иерархию, пусть не сразу, но начинаешь идти туда, куда тебя направляют. Есть, разумеется, в этом и свои преимущества. Почти исчезает, например, риск остаться один на один с распахивающейся впереди, пугающей пустотой, с неизвестностью, которая непонятно, что предвещает. Все за тебя решено, все определено, все указано. Прокрутился как следует – получил за это вкусную репку. А с другой стороны, если глянуть из более высоких координат, то картина вовсе не вдохновляет: как-то незаметно обрастаешь таким количеством постромков, что уже ни единого шага не можешь сделать самостоятельно. Перестаешь быть чем-то отдельным, становишься частью громадного механизма с фиксированными степенями свободы. Только успевай поворачиваться, чтобы не искрошили соседние шестеренки.
Впервые за последние годы я был предоставлен самому себе. Никто надо мной не висел, никто, по крайней мере сейчас, не требовал немедленного отчета о моих действиях. Я был свободен, как птица, выпущенная из клетки. Сколько невероятных возможностей открывалось! Можно было познакомиться с девушкой, шествующей от меня на шаг влево: вероятно, москвичка, с толстой дорожной сумкой, оттягивающей плечо; предложить ей помочь, пригласить куда-нибудь, там посмотрим. Или можно было запеть «Гимн великому городу», его торжественные аккорды как раз выплывали из репродукторов, я и забыл, что у Петербурга теперь есть свой гимн. Или как мальчишке с гиканьем побежать по платформе, поддать ногой жестяную банку, брошенную кем-то из пассажиров – чтобы она сверкнула дугой, чтобы со звоном ударилась в угол при входе. Давно у меня не было такого приподнятого настроения. Надо, надо освобождаться иногда от гнета условностей. Ведь для чего пьют водку? Чтобы освободиться. Для чего устраивают карнавалы? Чтобы, сбросив тесную маску приличий, несколько часов побыть в другом измерении. Ведь задохнуться можно в том упорядоченном мирке, который постепенно смыкается вокруг тебя. Того нельзя, этого тоже нельзя. Туда не ходи, сюда не смотри, об этом даже не думай. Причем с каждым годом мирок все теснее, все меньше в нем воздуха, все реже соприкосновение с неизведанным. Словно пребываешь в пожизненном заключении.
Ничего такого я, конечно, не сделал. Странно выглядело бы со стороны, если бы вполне респектабельный человек, типичный московский «фирмач», если судить по внешности: костюм, галстук, начищенные ботинки, вдруг с гиканьем наподдал бы ногой по банке. Боюсь, что меня неправильно поняли бы. Кстати, вот и ОМОН – четверо крепких парней в серой форме ощупывали глазами приехавших. Морды – будто вырубленные топором. Попробуй, объясни им насчет свободы. Сразу же схлопочешь дубинкой по ребрам. Так что, мальчишеский мой порыв был подавлен. Напротив, следуя инструкциям, которые весь вечер вбивал в меня Сергей Николаевич, я чуть ссутулился, придал лицу хмурое, озабоченное выражение и зашагал вместе со всеми, старясь ничем не выделяться из толпы пассажиров.
На тот случай, если за мной все-таки наблюдают.
Чувствовал я себя дурак-дураком: кому это надо организовывать за мной слежку? Не такая уж я значительная фигура. И вместе с тем исключить этой версии тоже было нельзя. «Хвост» мне мог прицепить загадочный Сергей Николаевич, он с Борисом, конечно, но у подобных людей, как правило, бывают и собственные интересы. «Хвост» мне могли навесить наши друзья-соперники из фирмы «Сократ», которые, вычислили, наконец, наш коннект с Петербургом – тут им представлялась возможность проверить некоторые догадки. «Хвост» по тем же самым соображениям могла пустить за мной одна из спецслужб – тоже ломают головы над нашим нынешним статусом: с чего бы это рядовая аналитическая группа получила выход на самый верх? И, наконец, «хвост» мне мог прицепить сам Борис, он ведь, как известно, не оставляет без внимания ни одной мелочи. Причем Борис объяснил бы это исключительно интересами дела: я же не затем тебя контролирую, чтобы на чем-то словить, просто со стороны виднее – где, какие могут быть совершены ошибки. Глаза, исполненные дружелюбия, проникновенный голос, лицо человека, озабоченного прежде всего твоей безопасностью. В самом деле, что здесь такого?
Впрочем для себя этот вопрос я закрыл еще несколько лет назад. Я хорошо помню, как примерно месяца через три после моего появления в группе (эти три месяца были испытательным сроком, решалось – подхожу я им или нет), где-то в середине рабочего дня ко мне неожиданно заглянула Аннет и с непонятным смешком предложила немного проветриться: погода хорошая, что ты тут скрючился, как таракан? А в кафе на Сретенке, которое она выбрала, по-моему, «методом тыка», взяв пару кофе, а себе еще и пятьдесят коньяка, не понижая голоса, словно вокруг не кипела медленная толпа, объяснила, что поскольку мы работаем с политиками первого ряда, делаем документы, по которым потом, вероятно, будут приниматься стратегические решения, то скорее всего нас регулярно прослушивают. И не просто прослушивают, а записывают некоторые фрагменты «на перспективу». Ничего страшного, с улыбочкой сказала Аннет. Неприятно, конечно, но такова специфика нашей профессии. Хочешь жить спокойно – иди в парикмахеры… И затем, все также не понижая голоса, посоветовала соблюдать определенные правила: не употреблять при разговоре по телефону некоторые ключевые слова: «президент», «правительство», «министерство», «коллегия», «комитет», не называть никаких фамилий, имен клиентов, географических пунктов, не открывать в кабинете форточку, не снимать защитной решетки с окна, никогда не создавать деловых документов на том компьютере, с которого осуществляется электронная связь. Не обсуждать рабочие проблемы с женой.
– В общем, все это – ерунда, – сказала Аннет в заключение. – Если тебя захотят записать, то все равно запишут. Никакие предосторожности не помогут. Другое дело, что они , разумеется, не всесильны. У них , как и у всех, нехватка денег, аппаратуры, хороших специалистов. Они не в состоянии отследить все на свете. Поэтому самые элементарные меры иногда оказываются эффективными. – Она снисходительно на меня посмотрела и затушила тонкую сигарету в крохотной пепельнице. – Да ты не переживай. Говорю – ерунда все это. Допивай кофе, пошли работать…
Кстати, я не так уж и переживал. Видимо, интуитивно ждал чего-то такого. Однако, помню, что пару недель после разговора с Аннет держалось неприятное чувство. Будто меня окунули во что-то пахучее. Как раз незадолго до этого прошла по телевидению запись о развлечениях человека, «похожего на Генерального прокурора», и у меня была неплохая возможность примерить эту ситуацию на себя. Примерка оказалась не утешительной. Первые дни, даже просто целуя Светку, я буквально вздрагивал от того, что этот мой поцелуй может быть потом воспроизведен. Я уже не говорю про все остальное. Причем, бесполезно было бы, например, «чистить квартиру»: во-первых, дорого, а во-вторых, я отчетливо понимал, что микрофон и все прочее появятся здесь уже на следующий день. Техника слежения достигла ныне такого уровня, что бороться против нее – все равно что пытаться вычерпать океан. Усилий много, результат – нулевой. Это надо было воспринимать просто как плату за прикосновение к власти, как своеобразный налог на то, что теперь я зарабатываю раз в десять больше, чем любой мой бывший приятель из Петербурга. Никто ведь не заставляет. Не хочешь – не зарабатывай. Отойди в сторону, занимайся исключительно своими делами.
Со временем я, конечно привык. Нет такой ситуации, к которой человек был бы не в состоянии приспособиться. Я тоже каким-то образом приспособился. Лишь иногда, вспоминая об этом, вдруг на пару мгновений деревенел, точно откуда-то, из другого мира, веяло на меня мерзким холодом. Что с тобой? – удивлялась Светка. Ничего-ничего, просто задумался…
Это было, как прикосновение смерти. Как непроизвольная мысль о том, что помимо радостей жизни, существует еще и жутковатая чернота, проступающая из небытия в самый неподходящий момент. О ней можно забыть, от нее можно отгородиться тысячью пустяков, ее можно вытеснить куда-то на периферию сознания, но совсем избавиться от нее нельзя. Она, точно тень, сопровождает каждое наше движение. Вот и сейчас, несмотря на все мое приподнятое настроение, несмотря на солнце, на жаркий утренний воздух, меня точно пронизывал мокрый сквозняк. Он заставлял внимательнее вглядываться в окружающее, видеть во всякой мелочи проблески зловещих предзнаменований. Вон омоновцы в серой форме посмотрели на меня более пристально, чем на других: может быть, у них есть мой портрет, и они зафиксировали мое прибытие в город. Или вон бомж в затрапезной куртке, в пузырчатых брюках разглядывает коричневую пивную бутылку. Как попал бомж на охраняемую привокзальную территорию? Может быть, это вовсе не бомж, а оперативник из соответствующих органов. Сейчас он скользнет по мне деланно равнодушным взглядом, отвернется, продемонстрировав отсутствие интереса, дождется, пока я скроюсь за ближайшим углом, а потом поднесет бутылку ко рту и еле слышным шепотом сообщит, что «объект проследовал в направлении Лиговского проспекта».
Я понимал, что таким образом искажаю реальность, привношу в нее смыслы, которых она в действительности не имеет. Занятие, между прочим, не безопасное. Начинаешь дергаться, вести себя не адекватно складывающейся обстановке, совершать рискованные поступки, иными словами, накликать на себя несчастья. Эту механику я хорошо представлял. И тем не менее, ничего не мог с собой сделать. В какой-то мере успокоился лишь тогда, когда, миновав турникеты, преграждающие доступ к перронам, прошел по относительно свободной площадке перед пригородными электричками и через короткий спуск, вдоль которого выстроились частники, предлагающие машины, вырвался наконец на простор Лиговского проспекта. К остановке посередине его приближался двухвагонный трамвай. Зажегся на другой стороне сигнал перехода. Бурный людской поток хлынул в направлении Невского.
Только тогда я позволил себе немного расслабиться.
Хотя в данный момент расслабляться как раз и не следовало.
Именно сейчас мне предстояло пройти первый «репер».
В науке это называется «критерием воспроизводимости». Считается, что какое-либо явление действительно существует, если оно проявляет себя всякий раз, когда для этого созданы соответствующие условия. Если яблоко, сорвавшееся с ветвей, будет каждый раз падать на землю, значит гравитация – это факт, а не выдумки досужих ученых. С другой стороны, существование Бога, во всяком случае в христианском его воплощении, подвергается постоянным сомнениям уже не первую тысячу лет именно потому, что его присутствие в мире проявляется далеко не после каждой молитвы. Если бы, скороговоркой произнося слова «Отче наш, иже еси на небеси…», мы в ответ каждый раз узревали бы неземное сияние, охватывающее свод небес, сверкающий трон из золота, где восседает белобородый старец, по шесть странных «с очами внутри» животных ошую и одесную, то, наверное, ничего сверх этого уже не потребовалось бы: уверовали бы самые непримиримые скептики, все человечество объединилось бы в одном мистическом откровении, не было бы больше ни войн, ни несправедливости, только «на земле – мир, а в человеках – благоволение».
Правда, тогда это был бы уже другой мир и другие люди.
С моими же намерениями это соотносилось следующим образом. Когда три недели назад, после первого трагического происшествия в Петербурге, происшествия, которое вызвало нечто вроде приступа паники в определенных кругах, туда, то есть в Санкт-Петербург, быть может, излишне поспешно откомандировали А. Злотникова, чтобы он на месте разобрался в чем дело, то Саша Злотников, вообще говоря, человек очень сдержанный, аккуратный, на квартиру, которая была ему предназначена, почему-то прямо с поезда не пошел, а точно так же, как я, выбрался из вокзала на Лиговку, пересек ее, свернул налево, направо и затем целый час провел в неком кафе, расположенном на углу тихого переулка.
Впрочем, ничего необычного в его действиях не было. Кафе это, кстати, носившее скромное название «Орион», нашел сам Борис в одну из прошлых своих «петербургских» поездок. С его точки зрения, оно имело ряд неоспоримых достоинств. Во-первых открыто с семи утра, так что если даже и приезжаешь на раннем поезде – пожалуйста, небольшой зальчик с пятью-шестью столиками к твоим услугам. Обстоятельство, кстати говоря, существенное. Деловая жизнь в Санкт-Петербурге, как и в Москве, начинается не раньше десяти-одиннадцати часов. Куда деваться приезжему? Особенно, если дождь, мокрый снег, холод, слякоть на тротуарах. Петербург обычно погодой не балует. А во-вторых, кафе это хоть и находилось в относительной близости от вокзала, но в таком месте, что далеко не каждый мог о нем знать. Неизбежной вокзальной толкучки там не было. Борис, чаще всех ездивший в Петербург, клялся-божился, что более двух-трех людей он тут никогда не видел. Тоже, знаете, фактор немаловажный. Ведь устаешь от людей. Хочется забиться куда-нибудь в дальний угол. И наконец, главным, по крайней мере с его точки зрения, было то, что кофе в этом заведении подавали вполне приличный. Кофе Борис разве что не поклонялся. Когда он произносил «мокко» или «арабикум», глаза его затуманивались, а пальцы начинали непроизвольно двигаться в воздухе. Он будто пересыпал что-то невидимое. Казалось, лицо его овевает ветер пустыни, ноздри втягивают жаркую сухость песка, глаза видят ниточку каравана, бредущего между барханов. Он любил цитировать рассуждение Ибн Мусада о том, что в кофейных зернах скапливается эманация солнца; человек, пьющий кофе, усваивает энергию Космоса непосредственно, это возвышает его, защищает от земных неурядиц. Рассуждение из трактата «О скрытой сущности мира», шестнадцатый век. Причем Борис обязательно добавлял, что вот чай, например, по своему духу – это не европейский напиток. Чай завезен к нам с Востока, где принципиально иные понятия об аксиоматике бытия. Поэтому чай – успокаивает, умиротворяет, а кофе – будит, требует деятельностной активности. Кофе пришел к нам с Юга. Ислам – это продолжение христианства…
Кстати, именно из-за этих его неосторожных высказываний нас считали придерживающимися исламской ориентации.
Мнение, надо сказать, не слишком приятное.
Бориса это, впрочем, не волновало.
– Начихать, – говорил он. – Главное, что у нас есть внятное позиционирование. Ради бога, пусть нас этикетируют по этому признаку. Ничего, ярлык в данном случае важнее реального содержания…
В одном он был прав. Кафе и в самом деле выглядело прилично. Чистенькие столики – на двух, от силы на трех человек, лохмы фиолетовых традесканций, подсвеченные откуда-то изнутри. На стенах, декоративно шероховатых, – графические изображения Петербурга: корабль, окутанный дымом пушечного салюта, силуэт Невского, силуэт Петропавловской крепости. Что хорошо, действительно почти нет посетителей. Лишь в углу, попыхивая сигаретами, отдыхали за бокалом вина две девицы, профессия которых не вызывала сомнений. Обе повернулись ко мне, впрочем без особого интереса, и я ответил им взглядом усталого, не привлекательного человека: дескать, бедный, честный командировочный, приехавший на два дня, замотанный своими проблемами. Девицы продолжили разговор. Между прочим, как я мельком отметил, обе – молодые, обе – исключительно симпатичные. И пока я брал кофе у третьей девицы, распоряжающейся за стойкой, пока нес чашку к столику у окна, пока устраивался, зная, что сидеть мне здесь следует не менее часа, я расслабленно думал, что конкуренция все-таки – великое дело. Разве можно сравнить этих путан с тем, что было еще совсем недавно? Никакой ярко-соломенной гривы, отталкивающей вульгарностью, никаких малиновых губ, жирных от ядовитой помады, никаких откровенных мини и декольте вот досюда. Наоборот – сдержанный элегант, приглушенные, со вкусом подобранные тона, на одной – даже костюмчик, обшитый по лацканам тонким темным шнуром. Такую можно и в театр пригласить. И в филармонию, и на выставку. И если бы не их вечерние одеяния, все-таки выглядящие в девять утра несколько вызывающе, я решил бы, что это студентки, которые перед лекциями забежали сюда на чашечку кофе.
Впрочем, одно другого не исключает.
И я был настолько погружен в эти мысли, объятый тишиной, свободой, солнечным утром, ошеломляющим после дождливой Москвы, одиночеством, неизвестностью, которая на меня надвигалась, что не сразу заметил, как возле моего столика кто-то остановился и услышал вопрос, когда его задавали, наверное, уже в третий раз.
– Извините… Не помешаю?..
Я в таких случаях всегда теряюсь. Будь на моем месте, скажем, Борис, он бы не задумался ни на секунду. Вероятно, вежливо улыбнулся бы, смягчая отказ, и решительно, но никоим образом не обидно ответил бы, что хочет побыть один. Или что, к сожалению, у него уже назначена встреча. Нашелся бы, что сказать. У Бориса бы не задержалось. Я же, досадуя на помеху, только и смог, что неразборчиво буркнуть:
– Пожалуйста…
По-моему, не слишком любезно.
Шаркнул отодвигаемый стул. Повесив на спинку сумочку, устроилась напротив меня какая-то девушка. Однако, кажется, не из тех, что сидели в углу. Откуда она взялась? Вроде бы, никакой девушки не было. И тотчас, будто по мановению незримой руки, возникла перед ней чашечка кофе. Это, не дожидаясь распоряжений, отреагировала девица, дежурившая за стойкой.
Кстати, мне она кофе не принесла.
Лишь после этого я поднял глаза.
Так я впервые увидел Геллу.
Конечно, если бы я тогда знал, к чему приведет эта встреча, какие необыкновенные следствия она за собой повлечет, во что это в конце концов выльется и как повлияет на мою дальнейшую жизнь, то я, скорее всего, не сказал бы Гелле ни слова – в тот же момент поднялся бы, вернулся бы на вокзал, взял бы в кассе билет и первым же дневным поездом уехал бы обратно в Москву. А до отбытия поезда носа бы с вокзала не высунул. Тогда, вероятно, события пошли бы по другому сюжету. Не распахнулись бы так широко крылья мрака, остался бы жив Борис, я сам не оказался бы втянутым в то, что и по сю пору не до конца понимаю. Все могло бы сложиться иначе. Однако, ни о чем таком я в эту минуту, разумеется, даже не подозревал и потому, кроме легкой досады, ничего не почувствовал. Я лишь хотел посидеть спокойно, один, не отвлекаясь на досужие разговоры.
Девушку, впрочем, моя хмурость не обескуражила. Она отпила кофе, каким-то образом ухитрившись растянуть это действие чуть ли не на десять секунд, поставила чашечку, довернула ее – к себе яркими буквами, длинным ногтем отодвинула блюдце с песочным кольцом, положила обе руки на столик и спросила с необычайной приветливостью – словно мы были знакомы уже много лет:
– Голова не болит?
Я даже не запомнил, как она была одета в тот день. Позже Гелла сказала, что на ней был светлый летний костюм: жакет, блузка, брюки, на шее – кулон в виде янтарной капли с запечатанной в ней мелкой мошкой. Привет из эпохи хвощей и папоротников.
Вполне может быть.
Лично я смог припомнить только кулон, и то – очень смутно.
Не хотел я тогда никаких новых знакомств.
– С чего ей болеть?
Девушка пожала плечами:
– У всех петербуржцев в Москве начинает болеть голова. Не от выпитого, конечно, от самого города. Это – такой закон. Нам, вероятно, требуется время, чтобы привыкнуть…
Тут она попала в самую точку. Первые полгода жизни в Москве у меня действительно почти каждый тень ныло в висках. Начиналось это обычно после обеда, к вечеру немного усиливалось и продолжалось, ни на секунду не ослабевая, как правило, до самой ночи. Боль была тупая, мерно пульсирующая, тяжелая, как будто мозг разбухал, не помещаясь под черепом. Никакие таблетки, никакие лекарства не помогали. Причем, боль иногда переползала и на ночное время, и тогда до трех, до четырех, до пяти утра я, как аллигатор, ворочался в липкой бессоннице. Утром вставал – пошатывался от слабости. Не представляю, как мне тогда удалось выдержать. Прошло это, насколько я припоминаю, где-то зимой. Однажды вечером, после очередного сабантуя в редакции (а сабантуи эти устраивались у нас два раза в неделю) я возвращался к себе домой, в Уткину заводь и вдруг, пересекая снежный пустырь, с каким-то удивлением сообразил, что голова у меня сегодня, против обыкновения, не болит. Коньяк, что ли, помог? И вчера, кажется, не болела, и позавчера. С тех пор, по-моему, вообще никогда не болела.
Правда, в данный момент я насторожился:
– Откуда вы знаете, что я – петербуржец?
Девушка снова пожала плечами.
– Кто же, кроме бывшего петербуржца, пойдет в это кафе? Москвичи о нем, наверное, не догадываются. А настоящие петербуржцы, те, кто в Москву ездит лишь по делам, в кафе после поезда не пойдут, они поедут домой. – Она выдержала небольшую паузу. – Кстати, меня зовут Гелла.
Ну, уж мимо такого я, конечно, пройти не мог.
– Согласно авторскому описанию, Гелла была рыжей. Огненно-рыжей, если не ошибаюсь. Кроме того, глаза у нее были зеленые и распутные. Извините, опять – согласно авторскому описанию…
– Вы забыли добавить, что «сложением она отличалась безукоризненным».
– Тогда бы мне пришлось добавить и остальное. Что «на ней не было ничего, кроме кокетливого кружевного фартучка» и… м-м-м… сейчас вспомню… «белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки»…
Гелла дотронулась до своей чашки.
– Хорошо, что вы не добавили, – сказала она. – Не все следует облекать в слова. Несказанное важнее сказанного. Главное все равно никакими словами не выразить.
– Этот дискурс Хайдеггера мне знаком…
– Вот, и «дискурс» вы произносите правильно, с ударением на втором слоге.
– В Москве я говорю – д и скурс.
– С волками жить – по волчьи выть, – ответила Гелла. – Что же касается остального, то я – рыжая, рыжая, честное слово. При этом освещении незаметно. И глаза у меня тоже – зеленые. Вот, посмотрите…
Она выпрямилась и повернула голову так, что на нее упал свет из окна.
Теперь я видел и сам. Волосы у нее были темные, цвета каштановой скорлупы, непослушные, образовывающие вдоль лица чуть взвихренные на концах острые пряди, но одновременно и с пламенной рыжиной, с переливом, будто огонь, просверкивающий из глубины. Казалось, они сейчас вспыхнут от солнечного тепла. И то же самое произошло с глазами. Пока Гелла сидела к свету спиной, зрачки ее были темными, заполненными коричневой мглой. Ничто не могло бы в них отразиться. Когда же она повернулась, чтобы попасть в сноп лучей, радужки посветлели и загорелись весенней зеленью.
У меня перехватило дыхание.
Гелла мне кого-то напоминала.
И вместе с тем дело было не в этом. Что-то пробудилось во мне самом. Бывают в жизни мгновения, когда с беспредельной ясностью прозреваешь вдруг истинную суть вещей. Случаются они очень редко, и, как правило, не имеют последствий: гаснут, как искры, попавшие в удушливую материю бытия. Остается лишь сожаление о том, чего не было. И вот, когда у Геллы красноватым жаром вспыхнули волосы, когда сверкнула загадочная зелень в глазах, со мной, вероятно, произошло нечто подобное. Сердцем, вдруг кувыркнувшимся в пустоту, занывшими верхушками легких, где не хватило воздуха, я вдруг почувствовал, что все легенды о женщинах, выходящих из пены, рожденных городскими туманами, мелькающих, как наваждение, среди лиц в толпе, все эти красивые возвышенные сказания, в которые уже никто не верит, на самом деле – реальность, проступающая иногда сквозь морок обыденности. Даже тот тривиальный, до стертости заезженный миф, что некогда человек был разделен сотворившим его демиургом на две половины – с тех пор они мучительно ищут друг друга; пока не найдут, не обретут ни счастья, ни успокоения. Гелла была предназначена для меня. Не представляю, что она сама чувствовала в этот момент, наверное ничего, поскольку, прикоснувшись пальцами к волосам, не торопясь, не выказывая волнения, опустила ладони. Был только силуэт в летнем сиянии. Но я, по крайней мере еще две-три секунды, был абсолютно уверен, что если она сейчас меня позовет, даже не позовет – кивнет снисходительно, поманит пальцем, то я, не рассуждая, пойду за ней, куда бы она ни направилась. Бог с ней, с Москвой, с работой, с Борисом, с заданием, от которого, по его словам, зависело наше существование, с Сашей Злотниковым, с Аннет, с незавершенным проектом, ждущим в компьютере. Все это не имело значения. Я даже о Светке подумал сейчас, как о чем-то очень далеком. Причем тут Светка? Светка тут ни причем. Тут нечто совершенно иное.
В пальцах у меня скопилась мелкая дрожь. Я обернулся и посмотрел на девушек, сидящих в противоположном углу. Обе они сочувственно покивали.
Гелла истолковала мой взгляд по-своему.
– Нет, я – не из этой компании, – сказала она. – Просто я сюда иногда захожу. С девушками у меня хорошие отношения. Они не против, что я время от времени разговариваю с посетителями. Разумеется, если человеку есть что сказать.
– Что вы!.. – воскликнул я. – Как вам могло прийти в голову!..
Мне, наверное, не надо было оглядываться. Мгновение истекло. Рыжее солнце в волосах Геллы погасло. Пропала удивительная зелень в глазах. Ничего не случилось. Никто меня никуда не позвал. Я вдруг вспомнил, что приехал сюда вовсе не за тем, чтобы знакомиться с девушками. Не за тем. С девушками я мог знакомиться и в Москве. Здесь же у меня были другие задачи. Я приехал, чтобы, если получится, выяснить, почему в небольшой, практически никому не известной организации, именуемой «Петербургское гуманитарное объединение „Невский клуб“, сначала был найден мертвым руководитель, и обстоятельства смерти выглядели достаточно странно, а потом, когда на его место был прислан другой, я имею в виду Сашу Злотникова, то его через несколько дней тоже обнаружили мертвым, причем (подробность ужасная) рот у него был забит землей.
Мне хватало своих проблем. Гелла, вероятно, это почувствовала. Она поднялась и, коротко извинившись, сказала, что, к сожалению, ей надо идти. Половина десятого, пора на работу.
– Желаю, чтобы у вас все сложилось удачно.
После чего исчезла, оставив меня в некоторой растерянности. Потому что к тому времени у меня возникла пара вопросов. Во-первых, откуда Гелла узнала, кто я такой? (А в том, что Гелла об этом знала, не было никаких сомнений). И во-вторых, чего, собственно, она от меня хотела?
Ответы на эти вопросы я получил.
Правда, тогда, когда это было уже не нужно.
Глава вторая
Светка мне однажды сказала:
– Предупреждаю тебя на полном серьезе. Если я случайно узнаю, что у тебя какие-нибудь ширли-мырли с одной из тех фифочек, которые тусуются на ваших мероприятиях, то я, честное слово, залеплю тебе пощечину, так что подскочишь, тресну сковородкой по голове, переколочу в доме всю посуду, изрежу на кусочки твой лучший костюм, полгода потом будешь вымаливать у меня прощения. Может быть, и прощу. Правда, не факт. Однако, если до меня вдруг дойдет, что ты хотя бы на секунду влюбился, понимаешь – не просто попрыгать, а еще и испытываешь какие-то чувства, то вот этого я тебе не прощу никогда. Тоже – даю честное слово. Больше ни разу в жизни даже не посмотрю в твою сторону. Если хочешь, могу поклясться. Любить ты будешь только меня.
Она сказала это так, что я поверил. И даже некоторое время, как идиот, был горд индульгенцией, которую от нее получил. Ведь это была самая настоящая индульгенция, отпущение тех грехов, которые еще только могут быть когда-нибудь совершены. Не у каждого такая индульгенция есть. Стыдно вспоминать, что я тогда думал об этом. Действительно идиот. И лишь позже, где-то, наверное, через год, я внезапно сообразил, что индульгенция эта в определенной мере взаимная. Светка тоже могла что-то иметь с одним из тех гавриков, которые непрерывно трутся у них в редакции. У них ведь там – проходной двор. Какие-то непризнанные художники, заросшие, как бродяги, какие-то поэты, не написавшие, по-моему, ни единого стихотворения, какие-то устроители выставок, какие-то неведомые поп-группы, жаждущие раскрутиться. Разве трудно подобрать себе среди этого что-нибудь необременительное? Меня и в самом деле будто ударили сковородкой по голове. Несколько дней я ходил оглушенный, воспринимая все, как сквозь толщу воды. Осторожно присматривался к Светке, прислушивался, пытаясь уловить в звуках голоса лицемерие. Ничего такого я, разумеется, не уловил. Наверное, я был слишком наивен, считая, что фальшь обязательно влечет за собой какие-то внешние проявления. В том-то и дело, что не влечет. Не влечет, не влечет. И это правильно. Иначе бы нормальная жизнь была невозможной.
В конце концов, чтобы не мучаться, я решил так. Пока мне самому не в чем себя упрекнуть, пока сам я чист и скрывать ничего не требуется, до тех пор я не должен подозревать в чем-то и Светку. Какое я имею на это право? Вообще, мелкие удовольствия, которые в случае с «индульгенцией» станут доступны, несопоставимы с тем, что при этом теряешь. Светка меня устраивала во всех отношениях. Кто еще выдержит мужа с таким характером? Кто еще выдержит человека, который с тобой как бы вместе, но при этом – отдельно? Который способен на целые недели погружаться в себя, проводить дни в молчании, огрызаться, причем раздраженно, на самое невинное замечание, бормотать что-то, уставившись невидящим взором в пространство, часами лежать среди книг на тахте, сплетая и расплетая пальцы? А мое отвращение к светским тусовкам? А мои не такие уж редкие приступы всепоглощающего отчаяния? Это когда вдруг перестаешь понимать самые элементарные вещи, все распадается, превращается в хаос случайно всплывающего материала, никаких связей между унылыми фактами, никаких проблесков, никакого смысла во тьме, кажешься себе отсталым, безнадежно тупым, твердо знаешь, что останешься таким навсегда. Кто может не обращать на это внимания? Кто может перевести в шутку неосторожно прорвавшееся раздражение? Нет, лучше Светки мне никого не найти. Я так решил еще несколько лет назад и, честное слово, чувствую себя теперь гораздо увереннее. Во всяком случае на семинарах, куда, как Светка справедливо заметила, Борис имеет обыкновение приглашать всяких «фифочек» – утверждает, что это исключительно для создания атмосферы – так вот на семинарах этих у меня больше нет никаких сложностей. И если я, например, болтаю, пью кофе с одной из «фифочек», если прогуливаюсь с ней на природе в промежутках между дискуссиями, то я именно пью кофе, болтаю, прогуливаюсь – никакого подтекста в данном случае не присутствует. Конечно, я – не бесплотный ангел. Конечно, определенные мысли регулярно приходят мне в голову. Мужчины по природе своей склонны к полигамии. Однако мысли эти не имеют последствий. Они приходят и уходят, не воплощаясь ни в какие конкретные действия.
Так что, суть данной проблемы Светка уловила правильно. Никаких «фифочек», никаких «одуванчиков», по терминологии того же Бориса, можно было не опасаться. Но тут был случай совершенно иного рода. Впервые за много лет я испугался по-настоящему. Ведь в каждом мужчине, каким бы рохлей он ни был, живет втайне мечта о женщине, которая ему предназначена. Точнее, предназначена только ему. Ему одному и никому другому. С годами эти мечтания угасают. Смиряешься с тем, что имеешь, и больше уже ни на что не рассчитываешь. И, тем не менее, полностью они никогда не проходят. Стоит лишь уловить странный взгляд, брошенный на тебя исподволь, стоит лишь ощутить на лице ветер нового приключения, как все правила рассыпаются, надежда вновь оживает, ангел на легких крыльях летит в неизвестность. Здесь было, чего бояться. Ведь испугаешься, если внезапно поймешь: все, что воздвиг в своей жизни ценой сумасшедших усилий, все, что к настоящему времени приобрел, все, что казалось незыблемым, абсолютно надежным, может распасться буквально от одного дуновения.
Вот почему после неожиданного ухода Геллы я немедленно взял вторую чашечку кофе, пересел, так чтоб можно было облокотиться о стену, и сидел, не двигаясь, почти не дыша, наверное с полчаса. Я видел, как разгоралась солнечная духота в переулке, видел, как докурив и допив вино, ушли девушки с углового столика, как явился и сел на их место грузный, килограммов наверное, на сто двадцать, мужчина с модной ныне небритостью щек – назаказывал с десяток салатов, ромштекс – завис над ними всей массой, будто опасался, что отберут, предостерегающе выставлял локти в стороны, кожаный черный пиджак топорщился на плечах. Я старался успокоиться и ни о чем не думать. Переждать какое-то время, потом будет легче. Я уже догадывался, что именно так на меня подействовало. На меня так подействовал Петербург.
Санкт-Петербург, конечно, необыкновенный город. Это ощущают и те, кто родился в нем, и те, кто приезжает сюда всего на несколько дней, чтоб своими глазами впитать его неземное очарование. Сотни стихотворений, тысячи книг посвящены этому городу: хрупким мостам, замершим в светящемся воздухе, узким каналам, набережным, причудливым фонарям, просторам его площадей, громадам дворцов, отраженных в воде, улицам, где царит звонкая каменная тишина, лестницам, тесным дворам, переходящим один в другой. Альбомы, изданные на прекрасной бумаге, открывают то легкое золото шпилей, касающихся небес, то колоннаду собора, распахивающуюся вдоль проспекта, то виснущий в пустоте многоокончатый эркер, то ангела в облаках, осеняющего город благословением. Выходят статьи, где исследуется философия Петербурга, его способность создавать миражи – мороки, затмевающие рассудок. Петербург называют городом грез. И все авторы, какими бы восторженными метафорами ни выражали они свое представление о «северном чуде», схожи в одном: жить в Петербурге трудно. Помню, как поразило меня несколько лет назад прочитанное в каком-то малотиражном журнале, посвященном культуре, высказывание одного из историков, что Петербург и создан был не для жизни. Ведь как возникали обычные города: у воды, на перекрестках дорог, на холмах – где людям было удобно существовать. Сначала – две-три скорлупки, боязливо жмущиеся друг к другу, далее – деревенька, поселок, вязнущий в грязи городок, где пробиваются первые каменные строения, затем – нечто среднее, плод скудоумия и тщеты: еще не то, но уже и не это, и только позже, значительно позже – действительно город, главенствующий над преображенным ландшафтом. Нажитое пространство, как святость в намоленной иконе, проступает не сразу. Несколько поколений должны раствориться во времени, несколько разных эпох должны образовать дымку прошлого, чтобы из памяти, которую они о себе оставляют: из любви, из детских надежд, из солнечной невесомости по утрам, из прощаний, из чуткой прохлады воздуха, из забывшихся слез, из лени, из безразличия старости образовалась бы аура бытия, магнетический, призрачный, почти неразличимый настой, который, пропитывая собой настоящее, спасает его от распада.
А с Петербургом было иначе. Он возник сразу, будто во мгновение ока, из ничего, из северной пустоты, в воображении своего нетерпеливого основателя – как парадиз, как государственная мечта, как будущий рай – и лишь потом был овеществлен в камне и дереве. Нажитого, согревающего душу пространства здесь не было. Не было легоньких паутинок, связывающих вчера и сегодня. И не случайна легенда финского, кажется, происхождения, что Петербург, как сказочное видение, сначала был создан на небе, и только затем силою заклинаний опущен на землю. Убогий чухонец, лопарь, чудь белоглазая, пляшущие на капищах, подметили главное: вмешательство сверхъестественных сил. Иначе нельзя объяснить, откуда среди болот, бормочущих торфяными ручьями, средь топей, осоки, низкорослых черных деревьев, склоняющихся под ветром, средь скудной земли, средь холода и серых дождей возникло это колдовское великолепие. Оно было сродни мороку, брезжащему сквозь туман. И не раз потом те, кто любил или проклинал этот город, те, кто пытался его понять или спастись от него, говорили, будто пророча, что Петербург и распадется как морок: задрожит, беззвучно развеется, уйдет в никуда, оставив после себя те же чахлые пустоши. Разве можно жить в чьем-то воображении? Петербург и застраивался первоначально не отдельными зданиями, пригодными для житья, а сразу же – колоссальными пространственными ансамблями. В колоннадах, полных мокрого воздуха, в каменных гигантских пролетах, в перспективах аллей сквозили пустоты небытия. Город был обращен к небу, а не к земле. Он был открыт вечности, а не времени. Обыкновенная жизнь не имела здесь никаких прав и проникала сюда исподволь: из чердаков, из подвалов, из кривоватых окраинных улиц, из задних дворов-колодцев, всегда погруженных в сумерки. Считается, что в Петербурге, как нигде, властвует смерть.
Город в своей истории умирал несколько раз. Он умирал, когда Екатерина I, после смерти деспотического супруга, стремясь, видимо, обозначить новую жизнь, перенесла столицу в Москву. Тогда зарастали лопухами проспекты, взлетал по ночам с площадей волчий вой, в ставнях заколоченных особняков свистел невский ветер. Казалось, что Петербургу «быть пусту». Он умирал во время гражданской войны, которая, как гигантский насос, вытянула из него почти все население. Можно было пройти от Пряжки до Марсова поля, пересечь каналы, Сенную площадь, Невский проспект, не встретив ни единого человека. Блистало солнце осколками стекол, в Гостином Дворе, где сейчас шествуют неутомимые толпы, пробивалась чахоточная трава. Тишина царила такая, что шарканье ног по булыжнику разносилось до края мира. Петербург умирал во время блокады, в долгую, холодную зиму 1941 – 1942 годов, когда окна черных квартир, где давно уже никого не было, смотрели на фантастическую белизну снежных улиц. В городе царила графика небытия. И умирал он на исходе советской эпохи – забытый, превращенный в провинцию, задыхающийся от былого величия. Ветшали дворцы, убитые табличками учреждений, выкрашивались гранитные плиты на набережных, темнели дома, год за годом впитывающие копоть обыденности. Иначе и быть не могло в городе, построенном на костях. Смерть ни на секунду не давала забыть о себе. Вот жутковатый пролет, куда бросился Гаршин, Чехов потом приходил, заметил: «Ужасная лестница»… А вот «Англетер», где покончил с собою Сергей Есенин: не в Москве, о которой написан был дикий «кабацкий» цикл… На плацу Семеновского полка, изуродованном сейчас коробкой ТЮЗа, совершена была гражданская казнь Достоевского: надели саваны, колпаки на головы, первую тройку привязали к столбам, «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни, государь-император собственноручно начертал „Быть по сему“, команда „Клац!“, тут, в последний момент – помилование… И позже, на этом же самом месте – Перовская и Желябов. Уже никаких помилований. Не та эпоха. Перовской, когда приковывали к повозке, прищемили кандалами ладонь. Сказала: больно. Ничего, ответил жандарм, будет еще больнее… А через дорогу, через Загородный проспект, в двух шагах – квартира Распутина. „Черный демон“ последнего императора. Тоже – отравили, прострелили грудь, бросили в прорубь, под лед, в жуткую воду… Я помню, как некоторое время назад, просматривая текущие новости, прочел в одной из заметок о ремонте тротуаров на Невском: обнаружилось, что поребрики их сделаны из могильных плит. Никто и не знал. Привезли, вероятно, с разоренного кладбища. А в другой заметке, несколько ранее, сообщалось, что Петербург стоит на громадном геопатогенном разломе. Действует какое-то излучение, пробивающееся чуть ли не от земного ядра. Уровень суицида здесь выше, чем в других городах. Опять же – белые ночи, которые, как считают медики, порождают депрессию…
Больше я не мог себя сдерживать. Согласно графику, составленному Борисом, мне следовало провести в кафе еще по крайней мере десять минут. Именно столько времени провел здесь Саша Злотников.
Время, вероятно, имело значение.
Однако, мне было уже все равно.
Я расплатился с девушкой, дремавшей за стойкой, подхватил свой портфель – там, помимо необходимых вещей, лежали распечатки загадочного «петербургского текста» – чиркнул сначала по переулку, затем – по Пушкинской улице и, перейдя утопленные в булыжнике рельсы, по которым трамваи не ходили, вероятно, уже несколько лет, очутился на ее продолжении, носившем, правда, другое название. Я был рад, что здесь все осталось по-прежнему: то же плоское двухэтажное здание, из-за редких беспорядочных окон более похожее на часть крепостной стены, те же эркеры на другой стороне, те же створки ворот, вероятно, уже лет двести схваченные тяжелой цепью. Улица была не слишком широкая, длинная, перечеркнутая трещинами асфальта, тянущимися к водостокам, но в отличие от других петербургских улиц без пронзительной прямоты; у первого же перекрестка она надламывалась, далее шла наискось, прорезывая встречные переулки, а в конце ее, насколько я помнил, будто черт из коробки, высовывалась из глухого торца чугунная морда лошади. Там находилась ветеринарная клиника. Ничего здесь не изменилось за десять лет. И нисколько не изменился двор, в который я торопливо свернул: такой же тесный, прямоугольный, вздымающий штукатурку стен до самого неба.
Наверное, я глупо выглядел в этот момент. Стоит взрослый, вроде бы серьезный и ответственный человек, в костюме, при галстуке, с кожаным «дипломатом», поблескивающим дороговизной, и, как мальчишка задрав голову, обозревает верхние этажи. Пускай, меня это ни в малейшей степени не волновало. Мне было безразлично сейчас – кто и что обо мне подумает. Я смотрел на раструбы водосточных труб, поддерживающие крышу, на белесые, точно ослепшие, стекла квартир, где протекало непонятное, таинственное существование, на скудные солнечные отражения, сбегающие до земли, и чувствовал что с каждой секундой пропитываюсь особенным петербургским воздухом, что он преображает меня, делает другим человеком, молекула за молекулой вымывает тревожную московскую суету. Я словно выздоравливал после болезни. Ведь Петербург – это не только смерть, взмахивающая бесшумными перьями, не только кромка надежд, срывающихся в черную бездну, не только эшафот, дробь барабанов, порхающий в клочьях ветра посвист безумной флейты. Петербург – это еще и теплынь летних каналов, полных сонного времени, стыки плит, шуршащие над набережной тополя, желтый зов окон откуда-то издалека, россыпь звезд, соляной крепкий месяц, отражающийся в воде, это сказочные переулки, озаренные фонарями, вязь оград, за которыми крутятся силуэты иного мира, жизнь, распахнутая на все стороны света… А белые ночи – это не только депрессия и шизофрения, не только тоска о несбыточном, останавливающая сердце, это еще и то необыкновенное время, примерно с мая по август, когда магическое сияние сфер изменяет пейзаж: дома, низкие подворотни, мосты, площади, улицы. Чудится тогда, что само пространство светится колдовством: по другому распределяются городские тени, бел тополиный пух, черна изнанка листьев, подрагивающих от малейшего движения воздуха, с фантасмагорической ясностью очерчиваются перспективы. Все так далеко и одновременно – так близко. И как будто именно в это мгновение одинокий Мечтатель провожает глазами счастливую пару, удаляющуюся от него по набережной, и в уединенном домике на Васильевском острове важный министерский чиновник превращается в наглого раскормленного кота, бледный офицер, сводимый с ума тайной трех карт, прокрадывается к старухе-графине, а через огромную Покровскую площадь, что в Коломенской части города, торопится титулярный советник в новой шинели – пугливо оглядывается, втягивает голову в плечи, жмурит глаза. И уже поднимаются перед ним зловещие тени…
А еще Петербург – это вот такие тихие каменные дворы, образующие анфиладу, где время как будто распределено по разным эпохам. В ближнем дворе – век двадцатый: пара-тройка машин, асфальт, кодовые замки на дверях. В среднем – уже матерчатые занавески на окнах, лысый булыжник, расхлябанные, кривые, просевшие створки парадных; время здесь отступило на сто лет назад. А в самом дальнем, стиснутом обычно желтовато-серыми стенами, – черная, в едкой закиси, никогда не просыхающая земля, гранитный валун, неизвестно как попавший сюда, выползающая из-под него цепкая жилистая крапива. Это, вероятно, еще на сто лет раньше. И если поднять голову и посмотреть на голубой квадрат неба, врезанный между крыш, на плывущие в нем облака, на золотистое марево скрытого за домами солнца, то легко представить себе, что все это существует одновременно: и чиновник, пробирающийся через пустынную площадь, и дробь барабанов в декабрьской мерзлоте плаца, и Мечтатель, бредущий по набережной, и скрип жесткого блокадного снега под санками, и горячий пух, и трель сотового телефона, и извозчик на козлах, и мерцающий синевой экран телевизора. И все это – Петербург…
Сейчас я, однако, находился в первом дворе. Память моя не простиралась так далеко. Она охватывала период всего в несколько лет, которые для меня, правда, были значительнее всех предшествующих эпох. Вон там, на шестом этаже, находилась квартира: ранней осенью я распахивал рамы и вглядывался в небо над городом. Нигде, наверное, нет столько звезд, сколько над Петербургом. Яркие, словно промытые, скапливаются они над крышами, и от звона их, рожденного высотой, начинает ныть сердце. А напротив, через узкий прямоугольник двора, этажом ниже жила тогда одна девочка. Мы с ней обменивались тайными знаками: она поднимала ладони и показывала на пальцах, когда выйдет из дома. Кроме нас, никто ни о чем не догадывался. Летом это было светлое платье в таинственном полумраке, зимой – сквозь медленный снегопад – теплота электричества с прильнувшей к перекрестью рам смутной фигурой. Осенью и весной, в дождь и в солнце, утром, днем вечером… Потом девочка выросла, мы долго бродили с ней по улицам, тянущимся к Витебскому вокзалу: звенели трамваи, сворачивая на Загородный проспект, распахивался летней прелестью сад за зданиями одноэтажных казарм, а над пологим спуском к каналу, отчеркивающему центральную часть города, воспламенялись закаты такой изумительной красоты, что вода меж гранитных стенок казалась ожившим золотом. Поцеловались мы на Вознесенской протоке, под громадными тополями, помнящими, наверное, еще времена Бирона. И ничего, что свистела флейта над Семеновским плацем и что сбоку от ТЮЗа, пред эшафотом, выстроилось оцепление гренадеров. Жизнь не обращает внимания на подобные мелочи. Через какое-то время девочка стала моей женой, а еще года через четыре я уехал из Петербурга.
Я больше никогда не видел ее. Начиная с того памятного момента, когда вышел из этой квартиры, не подозревая еще, что сюда уже не вернусь. Я даже ничего не слышал о ней все эти годы. Она исчезла, перейдя в область воспоминаний, в ту изменчивую, наполовину вымышленную реальность, которую каждый создает сам для себя. И сейчас, глядя с низу двора на окна верхнего этажа, на открытую форточку, на смутные, еле различающиеся за стеклами занавески, я подумал, что, наверное, можно было бы эту девочку отыскать. Она, скорее всего, по-прежнему живет в Петербурге, там же работает, ходит, скорее всего, по тем же улицам. Не так уж сложно это и сделать. Вот только зачем? Какой в этом смысл? Вспоминать, как мы лежали животами на подоконнике и, сцепив пальцы, чтобы ни на секунду не расставаться, смотрели на улицу, где после дождя дышала редкая для города свежесть, где плескалось и капало со всех крыш, где спешили прохожие, озабоченные своими делами, и где никто, никто не догадывался о нас? Мы даже не разговаривали друг с другом. Не было у нас необходимости разговаривать. И так было ясно, что это – уже навсегда…
Дверь в парадную была заперта. Причем, видимо, изнутри, поскольку кодового замка на ней не имелось. Скорее всего, она была заколочена – когда я дернул сильнее, то створки дрогнули, будто сцепленные деревянными брусьями. Я не очень понимал, как это возможно. Ведь дом – жилой, люди как-то должны сюда попадать. Или, может быть, пробили дверь с другой стороны? Впрочем, неважно. Обходить весь квартал, разыскивая ее, я не буду. Что прошло, то прошло, то сгинуло, действительно, навсегда. Не надо ни о чем вспоминать.
Порыв мой угас. В мрачноватом проеме арки, ведущей на улицу, я оглянулся. Все, я сюда уже не вернусь. Никогда, никогда, как бы мне этого ни хотелось. Даже если опять окажусь в этих местах. Той жизни, что когда-то была, больше не существует.
И ведь бывают же такие удивительные совпадения. Когда я уже совсем поворачивался, чтобы уйти, где-то, по-видимому на середине лестничного пролета, хлопнула дверь, звук рухнул вниз – сила воздушной отдачи прокатилась по всему дому.
Судя по шорохам, даже посыпалась штукатурка.
Створка парадной чуть отошла, обнаружив за собой душную черноту.
Я не поверил своим глазам.
Оказывается, парадная вовсе не была заперта.
Наверное, это был знак судьбы. Судьба, если, разумеется, верить в нее, дает нам иногда странные предупреждения. Обычно мы не обращаем на них внимания, с досадой отмахиваемся, отбрыкиваемся, недоумеваем, мы не хотим их видеть, хотя они, как огненные «мене, текел, фарес», пылают перед глазами. И только когда на нас с грохотом обрушивается камнепад, когда происходит нечто, переворачивающее жизнь вверх тормашками, мы с изумлением обнаруживаем, что первые признаки катаклизма отчетливо проявляли себя еще бог знает когда. Жизнь как роман: сюжетный ход не возникает в ней ниоткуда. Он подготавливается заранее, тысячью предварительных мелочей. Тем более, что в моем случае были особые обстоятельства. Однако, как в литературе мы редко бываем умнее автора: глубинное содержание книги, как правило, не сразу доходит до нас, так и за шумом обыденности, которую мы принимаем за жизнь, не сразу различаем потрескиваний надвигающегося обвала.
Я здесь исключения не представляю. Я вовсе не гений, я – самый обыкновенный, без каких-либо способностей человек. Предвидеть, предугадывать, прозревать – не моя стихия. И хотя у меня есть, видимо, определенная склонность к аналитическому мышлению, отсюда никак не следует, что я способен считывать «опережающую реальность». Аналитика ведь не занимается предсказанием будущего. Аналитика изучает процессы, текущие в настоящем. Разумеется, она может представить некое прогностическое обобщение, однако именно – обобщение, а не фактуру, включающую в себя строгие «что? где? когда?». Здесь тот же известный «принцип неопределенности»: чем конкретней прогноз, тем меньше вероятность, что он когда-либо осуществится. И наоборот: чем большей вероятности прогнозирования требуется достичь, тем меньшую определенность мы вынуждены ему придавать. Самое трудное – связать частное с общим. По крохотной косточке ящера восстановить весь ход эволюции. Повторяю: у меня таких способностей нет. И потому, увидев черную щель парадной, как будто предвещающую собой будущий мрак, я даже не попытался понять что это может в данной ситуации означать. Для меня здесь все было завершено. Я лишь пожал плечами, перехватил в другую руку портфель, который мне уже надоел, и, свернув из подворотни направо, решительно зашагал в сторону Загородного проспекта. До квартиры, где я должен был поселиться, отсюда было минут пятнадцать ходьбы. Я очень хорошо помню эти минуты. Вероятно, последние мгновения безмятежности, которые мне были отпущены. Океан светлого жара омывал город. Тени жались к фундаментам и боялись высунуться из подвалов. На глазах просыхали трещины, скопившие сырость ночи. Я шел и думал, что дань прошлому, тревожившему меня, теперь отдана, брошен прощальный взгляд, совершен обряд расставания. Более оно не будет заслонять настоящее. Меня это радовало. Ностальгия полезна лишь малыми дозами, гомеопатически, иногда – чтобы дымка ретроспективы оттеняла сегодняшние реалии. Это – правильно. Это придает жизни большую глубину. Если же ее принимать стаканами, как до сих пор происходило со мной, то она отравит каждый вдох, каждый выдох. В общем, достаточно. Книга тех лет прочитана до конца. С треском захлопнута, убрана с глаз долой. Сейчас я приду, встану под душ, далее, выбросив из головы все, возьмусь за работу. Единственное, чего я хочу. Скорее, скорее…
Меня охватывало нетерпение.
Я убыстрял шаги.
Правда, если б я догадывался, что меня ждет, я бы, наверное, не торопился.
Квартира на Бронницкой улице была снята примерно два года назад, когда Борис, сначала относившийся к Клубу как к некоей интеллектуальной забаве, неожиданно понял, что, собирая случайные камешки под ногами, наткнулся на золотую жилу. Может быть, даже не на золотую – на платиновую, урановую, бериллиевую, может быть, на алмазную трубку – не знаю, с чем это лучше сравнить. Любопытно, что при всем его колоссальном чутье он понял это не сразу. Первая запись, которая была сделана исключительно в рабочем порядке, ушла наверх, насколько я понимаю, чисто случайно. Борис просто воткнул ее в один из отчетов как иллюстративный материал. Отчет – это ведь не просто фитюлька на две страницы. Отчет требует «периферии», которая указывала бы на объем произведенной работы. Всякие аудио или видео приложения этому очень способствуют. Так что запись ушла, о ней благополучно забыли. И даже когда, примерно через неделю после отправки, к Борису, якобы совсем по другому вопросу, зашел Сева Микешин из администрации президента и, обсудив этот якобы не терпящий отлагательств вопрос, уже в конце разговора как бы между прочим заметил, что запись вызвала некоторый интерес, у вас что – новая группа образовалась? занятно, занятно, нельзя ли еще что-нибудь посмотреть, то даже это Бориса нисколько не насторожило. Он со спокойной совестью отдал еще две кассеты, которые ему к тому времени переслали. Его легкомысленное отношение к данному материалу выразилось хотя бы в том, что он даже не потрудился снять копии. О чем впоследствии, естественно, сожалел, поскольку получить оригиналы обратно было уже невозможно. Остается только гадать, что содержалось в тех записях. Их более никто никогда не видел. Единственное, что Борис при тех обстоятельствах сделал – внес факт передачи материалов в свой личный реестр, маленький такой твердый блокнот, застегивающийся на замочек. Потому что если уж оказываешь услугу, это надо непременно фиксировать. Иначе все сбрасывается со счетов уже через полчаса. И только когда Сева Микешин опять где-то через неделю появился вторично и, не прикрываясь уже никакими дымовыми завесами, прямым текстом сказал, что он в этих материалах заинтересован, любопытные материалы, нельзя ли получать их более-менее регулярно, выразил даже готовность покрыть соответствующие расходы, только тогда Борис начал о чем-то догадываться.
– У меня будто лампочка в голове зажглась, – объяснял он несколько позже. – Слыханное ли дело, чтобы Микешин сам предлагал финансирование? Тут кто угодно насторожился бы. На моей памяти – это вообще единственный случай…
Далее последовали интенсивные переговоры, при которых ни одна из сторон не называла вещи собственными именами. Сева Микешин – потому что таков был привычный ему стиль общения, а Борис – потому что понятия не имел об истинной ценности этих записей. Какое соглашение было ими выработано, неизвестно, в подробности своих соглашений Борис нас никогда не вводил, считал, что не следует забивать голову пустяками, однако записи заседаний велись с тех пор регулярно, доставлял их из Петербурга в Москву уже особый курьер, а их копии (копии теперь обязательно делались) хранились в сейфе, купленном специально для данной цели. В общем, из ситуации было выжато все, что можно. Разумеется, кроме самых первых кассет, насчет которых оставалось лишь кусать локти. Впрочем, ошибка Бориса была вполне естественной. Кто мог представить тогда, что дело обернется именно так? Даже сейчас, по прошествии времени, оно выглядело не слишком реалистично.
– Ты в это действительно веришь? – нерешительно спросил я, когда три дня назад был более-менее посвящен в суть проблемы.
До этого я знал о ней понаслышке.
Бориса мой вопрос, вероятно, задел. Он то ли сам чувствовал чрезмерную необычность происходящего и, будучи вынужденным в данный момент с этим считаться, одновременно боялся, если все вдруг окажется пшиком, попасть в дурацкое положение. Репутация трезво мыслящего аналитика была для него превыше всего. То ли, напротив, как с ним это бывало, опережая события, уже строил далеко идущие планы и в настоящее время опасался лишь одного – что своими необдуманными поступками я могу им помешать.
А может быть, все было иначе. Быть может, Борис уже тогда начинал догадываться о сути происходящего, чувствовал жутковатый сквозняк, которым потянуло из Петербурга, и понимал, что двумя смертями дело не ограничится. Впереди у нас – крупные неприятности.
Во всяком случае ответил он достаточно нервно.
– Что значит «верить»? Ты можешь мне объяснить, что значит «верить»? Если человек таскает в кармане каштан, подобранный много лет назад на бульваре в Париже – ты, видимо, знаешь, о ком идет речь, – ни на секунду не расстается с ним, сжимает в кармане во время ответственных заседаний, то, вероятно, это ему действительно помогает. Подстраивает, например, психику, создает настроение. Не следует его в этом разубеждать. Потому что оно выполняет свою главную функцию: оно работает. Здесь – то же самое. Я готов поверить во что угодно: в мистику, в магию, в астрологию, в заклинание духов, в любую чертовщину – лишь бы работало. Не забывай, с каким контингентом мы имеем дело.
Насчет «контингента» он попал в самую точку. С тех пор, как года два или три назад я узнал, что в Генеральном штабе, оказывается, существует подразделение военных астрологов, то есть людей, на основе прогнозов которых планируются и проводятся операции (штурм Грозного, например, в первой Чеченской кампании был начат при соответствующем расположении звезд), меня уже ничто больше не удивляло. А когда Гек Сорокин, отвечающий в нашей группе за связи с депутатами Думы, рассказал, кстати, безо всякой иронии, как-то вскользь, что в здании на Охотном ряду существует некая «энергетическая картина», чеканка по меди, изображающая древнерусского витязя, висит на втором этаже, сразу за туалетами, и если ждешь откуда-нибудь неприятностей, надо коснуться щита, а если жаждешь сокрушить оппонента, провести рукой по копью, обе детали уже сверкают от прикосновений, то я воспринял это как нечто обыденное. Ну – витязь, ну – прикасаются, ну – сверкают. И как нечто совершенно обыденное воспринимал я тот факт, что депутат от одного из северных округов выписал себе в Москву настоящего, потомственного шамана – тот поставил в гостиной чум, накрыл его оленьими шкурами, и перед каждым важным голосованием проводит камлание: разжигает костер, бьет в бубен, пляшет вокруг, поет до изнеможения, потолок в депутатской квартире черен от копоти. А другой депутат, возглавляющий, кстати, довольно влиятельный комитет, ничего не решает, не посоветовавшись предварительно с одной из московских путан, считает, что у нее – дар прозрения. Был даже скандал, когда другой депутат пытался эту путану перекупить. Половина политиков имеет личных астрологов, остальные склоняются к экстрасенсам, астралу, гнозису, белой и черной магии. Кстати, черная, мне говорили, стоит дороже. Ну, еще бы, варить крыс и жаб в полночь! А еще есть целая группа (донес тот же Сорокин), которая, считая не патриотичным использование разлагающих западных технологий, обращается за вдохновением к древним Славянским Ведам (написанным, между прочим, двумя бойкими московскими журналистами); к кабинете у этой группы висит маска Даждь-бога, украшенная рогами козла, а все заседания у них начинаются с песнопений в честь Перуна и Велеса.
Повторяю, я уже ничему этому не удивлялся. Более того, услышав от Гека историю о «прозорливой путане» (говорят, что она предсказала чуть ли не половину правительственных назначений), я в шутку предложил Борису написать проект «Звездной лиги»: неформального объединения магов, астрологов, экстрасенсов и колдунов, обращенных к политике, делающих соответствующие прогнозы. Курировать такое объединение мог бы спецотдел ФСБ, все равно никакая другая организация с подобным проектом не справилась бы. А особым образом форматируя «предсказательный горизонт», можно было бы ощутимо влиять на политическую ситуацию. Честное слово, с моей стороны это была только шутка. И я был прямо-таки ошарашен, когда Борис на полном серьезе ответил, что такой проект уже давно существует, они его сделали примерно за год до дефолта, проект интересный, более того – очень перспективный проект, однако имеет трудности с инсталляцией: внутри самого ФСБ существует сейчас несколько конкурирующих структур, ни одна не согласна отдать данный проект под контроль оппонента. Были в прошлом переговоры, достичь компромисса не удалось. Видимо, время таких проектов еще не настало. И слава богу, сказала Аннет, которая присутствовала при разговоре. Если такое время настанет, нам всем будет хана. Ну, это мы еще посмотрим, сказал Борис. Если успеем и если нам разрешат посмотреть, сказала Аннет.
У них это был давний спор. Борис полагал, что развитие нынешней ситуации, конечно, может пойти по самому худшему варианту, мы не застрахованы ни от чего, достаточно глянуть на морды, которые иногда попадаются в правительственных коридорах: нелюдь, вурдалаки при галстуках, история их так ничему и не научила. Но с другой стороны, хорошо это или плохо, нас охраняет сама профессиональная принадлежность: грамотные аналитики понадобятся любому правительству, вспомни хотя бы «чикагских мальчиков» при Пиночете, никто не станет резать курицу, несущую золотые яйца, ладно – не золотые, пускай обычные, зато – регулярно, по доступной цене, главное – гарантировано, без сальмонеллеза. То есть, Борис считал, что хотя трансформация власти в сторону диктатуры имеет весьма высокую вероятность: в стране достаточно сил, жаждущих упрощения социальной среды, но в общем и целом нам беспокоиться не о чем. Мы выживем при любом социальном раскладе. Разве что придется использовать при проектировании другую идеологическую упаковку.
Аннет придерживалась иной точки зрения. Конечно, аналитиков в Москве меньше, чем, например, постовых, говорила она, но, будем честными сами с собой: аналитиков тоже хватает. Набрать новую группу трудности не составит. Тем более, что ЛПР (лица, принимающие решения) даже в принципе не способны отличить истинную аналитику, от гадания на кофейной гуще. Для них все равно, что наши проекты, сделанные на конкретном материале, что проекты Паши Вальковского, которые тот просто высасывает из пальца. Они не в состоянии оценить разницу. Вальковский для них даже лучше, поскольку прекрасно чувствует конъюнктуру. Они услышат то, что хотят. А какое отношение это имеет к реальности – дело десятое. Реальность ведь никого не интересует. Реальность – это то, с чем никто не хочет иметь дела. Потому что реальность непредсказуема. А все заняты только тем, что выдают сногсшибательные прогнозы. Поэтому не надо иллюзий. Не надо морочить голову себе и другим. Ничего уникального мы собою не представляем. Если наши позиции в данный момент несколько предпочтительнее, это лишь потому, что мы случайно нажали нужную кнопку. Мы тоже держимся на шаманстве. На шаманстве, на заклинании духов, на почти бессмысленном словоговорении. Мы ничем не лучше Паши Вальковского…
Под шаманством Аннет подразумевала «петербургский проект», о котором я тогда практически ничего не знал. Борис с самого начала работы придерживался железного правила: каждым проектом занимаются только его непосредственные исполнители. Остальные, конечно, могут привлекаться в случае необходимости, получать какие-то частные указания, даже разрабатывать их, но им вовсе не обязательно быть в курсе всего. Чем меньше знаешь, тем спокойней живешь. Правда, теперь я как раз был полностью в курсе и, представляя себе проект целиком, вынужден был согласиться с Аннет. Действительно – шаманство чистой воды. Я вспоминал, как всего лишь позавчера, сидя напротив Бориса в его кабинете, и, полуприкрыв глаза, что, как считается, способствует медитации, слушал чуть задыхающийся, приподнятый голос: «Нет, ты утонешь в тине черной, / Проклятый город, Божий враг. / И червь болотный, червь упорный / Изъест твой каменный костяк»… И потом, безо всякого перехода: «В черных сучьях дерев обнаженных / Желтый зимний закат за окном. / К эшафоту на казнь осужденных / Поведут на закате таком»… И далее, словно человек продолжал давно начатый монолог: «Как вам нравится буква „з“? Как будто ножом по стеклу… Вот это и есть Петербург… Как писал Достоевский, самый умышленный город на свете… Страшное метафизическое начало… Ведь даже во всеми любимых белых ночах, есть какая-то необъяснимая дьявольщина… Все эти дворцы, площади, пустые улицы, странный свет, тревожный, безумный, красивый… Вот Павел I прогуливается себе и вдруг догоняет его некто в черном плаще, высокий такой, говорит: „Тебе жить не долго. Бедный Павел… “ Это они там – неподалеку от Медного всадника… А ведь с ним идет его приближенный, он спрашивает: „С кем вы беседуете, ваше императорское величество?“. И Павел в ответ: „Ты разве не видишь?“… Я понимаю, что Павел I был не самый психически устойчивый человек, но это и Петербург, его темная сила… Ведь кладбище в центре города. Разве можно, чтобы в центре города – кладбище?.. Ведь, что такое история российской монархии?.. Петр I убил своего сына, Екатерина II – мужа… Александр I дал согласие на заговор против отца, тоже – убили, задушили шарфом… Потом Николай I и декабристы… Зачем повесил?.. Ну, ладно, повесил, государственная измена, но почему не разрешил похоронить по обряду?.. В какую-то яму, с известью, на Голодае… Вот что-то такое, непреодоленное зло… Страшное это пророчество: „Петербургу быть пусту“… Помните, наверное, пьяный дьячок на колокольне первой Троицкой церкви?.. Кстати, церковь эта потом сгорела… Всегда – в октябрьские, в ноябрьские вечера, все революции, перевороты у нас – в октябре, в ноябре… И главный наш символ, наш главный миф – бронзовый всадник на каменном постаменте… Автор памятника, между прочим, был не такой уж выдающийся скульптор… И вот, в этом городе, вдруг – ничего подобного не было… Этот истукан, он до сих пор гонится за бедным Евгением… Продолжается и сейчас… Ведь бывают такие дни, месяцы, годы – нечем дышать… Словно болезнь… Во многих дневниках сказано»…
Как раз это мне было понятно. Я тоже помнил то время, сгинувшее, казалось бы, без следа, время, когда нечем было дышать. Я возвращался домой, опустошенный бессмысленностью очередного тусклого дня, и, попадая в стоячую тишину квартиры, выгороженной из тьмы, тут же, как обреченный на казнь, начинал слышать гулкий стук сердца. И уже до ночи не мог его успокоить: вокруг, как в неземном пространстве, не было воздуха… Или я приезжал в институт, вымороченный, уплотненный, состоящий, по-моему, из одних коридоров, и, усаживаясь за компьютер, где медленно, как в аквариуме, проплывали разноцветные графики, тоже вдруг начинал ощущать, что воздуха в помещении не осталось и что если я немедленно отсюда не выйду, не сделаю вдох, то просто упаду без сознания… Или в бесконечные выходные дни, чувствуя, что молчание комнат становится невыносимым, я под тем предлогом, что мне надо подумать, выбирался из дома и двигался куда-нибудь в сторону Новой Голландии. Разворачивались передо мной улицы, выкрашенные унынием, под ногами, как панцири древних существ, потрескивали сухие листья, горький запах тоски пронизывал собой мироздание. И вот тоже, стоя, например, где-нибудь на набережной Фонтанки, вглядываясь в лепнину домов, теснящихся на другой ее стороне, в дуги мостов, поддерживаемые своими черными отражениями, в фиолетовые, будто из сгущенного неба, купола Троицкого собора, я опять чувствовал, что воздуха не хватает. Начинала мерцать теневая ноющая боль в груди. Как будто ткань сердца растягивалась, охватывая колкую пустоту, и, не в силах справиться с ней, готова была лопнуть от напряжения. Казалось, что ничего больше не будет. Я родился не там, не тогда, не так, непонятно зачем. Каждое мгновение бытия было напрасным. Полной грудью я вздохнул лишь на Ленинградском вокзале в Москве, когда, вздернутый бессонницей в поезде, вышел на асфальтовый, полукруглый, подиум перед зданием, и увидел впереди площадь, забитую суматошным транспортом, зубчатую кирпичную башенку в наплывах глазури, путепровод, возносящееся за ним здание какого-то министерства. Это была совсем другая страна, другая вселенная, другая жизнь…
Сейчас я тоже задыхался от воспоминаний. И потому, вероятно, не сразу обратил внимание на одну странную вещь, которая при других обстоятельствах бросилась бы в глаза. Лишь когда я пересек широкий солнечный двор на Бронницкой, когда открыл дверь парадной и, с удовольствием прикасаясь ладонью к деревянным перилам, поднялся на площадку между первым и вторым этажом, я внезапно почуял тухлый земляной запах, исходящий неизвестно откуда, и заметил, что по ступеням лестницы, опережая меня, тянется наверх отчетливая цепочка следов. Причем краешек сознания просигнализировал мне, что такие же следы были и во дворе, и, возможно, на улице. Только я, поглощенный своими мыслями, этим действительно пренебрег. Теперь же они просто приковывали взгляд: расплющенные нашлепки земли, карабкающиеся по середине пролета. Как будто человек, прежде чем явиться сюда, топтался в жидкой грязи. И, видимо, он делал это не слишком давно: середка следов просохла, приобретя беловатый, пыльный оттенок, зато окаймление их еще поблескивало влажными комьями.
Из меня точно выдернули какой-то стержень. Следы, поднимаясь на следующую площадку, шли внутрь той самой квартиры, где мне предписано было остановиться. Я видел приоткрытые двери, вертикальную узкую полосу темноты между ними, тусклый солнечный луч, упертый в филенку. Сомнений быть не могло. Вон и номер, «двенадцать», вычеканенный на медной табличке. Мне даже не нужно было сверяться с записями. Кто-то заранее знал, что я прибуду сюда, и этот кто-то ждал сейчас моего появления.
Это был очень неприятный сюрприз.
И тут я сделал колоссальную глупость. В жизни, вообще-то, положено делать глупости, иначе пропадают какие-то важные обертоны. Что это за жизнь, если в ней все логично? Однако, есть «умные глупости», они к лицу самому рассудительному человеку: выводят его из привычной среды, как говорят социологи, увеличивают пространство решений. И есть «глупые глупости», свойственные дуракам, никакого пространства решений они, естественно, не увеличивают, напротив – обедняют его, сужают до фатальной воронки. Получается то же самое, только гораздо хуже.
Я совершил именно «глупую глупость». Вместо того, чтобы немедленно сообщить о случившемся, запросить помощь, как мне вдалбливал Сергей Николаевич, проводя инструктаж, я осторожно, чуть ли не на цыпочках поднялся к квартире, потянул на себя дверь и просочился в прихожую.
Не знаю, что я там намеревался узреть. Прихожая была как прихожая – с вешалкой, на которой висел чей-то забытый плащ, с большим зеркалом, где отразилась моя напряженная физиономия, с телефоном, покоящимся на круглом полированном столике.
– Гм… Кто-нибудь есть?..
Ответом мне была тишина.
Следы вели по паркету в одну из двух комнат. Я толкнул дверь в квадратиках пузырчатого стекла, сделал маленький шаг и остановился, как вкопанный.
Комната тоже была лишена какой-либо индивидуальности: створчатое трюмо, шкафчик, тахта, упертая валиком в стену, гравюра над ней, изображающая часть Летнего сада, на тумбочке в противоположном углу – экран телевизора. Полная гостиничная безликость. Впрочем, не удивительно, если вспомнить, что для этого квартира и предназначалась.
Гармонию нарушала единственная деталь. Прямо посередине паркета, подсвеченного солнечными лучами, прямо на восковой, медовой его теплоте, словно выброшенная вулканом, возвышалась громадная куча грязи. Была она какая-то особенно черная, отвратительная, с влажными склизкими проблесками в развалах, с камешками, с обломками кирпича, с прелыми обесцветившимися травинками, со щепочками и корешками; в одном месте высовывалось из нее горлышко битой бутылки, в другом – что-то вроде ощерившейся кроссовки; пробка, бок пластмассового стаканчика, крючья гвоздей, окурки, мокреть газеты…
Этого я никак не ожидал увидеть.
Сердце у меня бухнуло и зачастило в темпе припадка.
Подойти к куче ближе я не рискнул.
Правда, теперь я понял, откуда исходит тот тухлый запах, который ударил мне в ноздри еще на лестнице. Запах разложения, плесени, свежей земляной ямы. Запах смерти, где не было ничего человеческого.
Запах, от которого можно лишиться сознания.
Он исходил именно из нее – из этой неряшливой, невозможной грязевой кучи…
Глава третья
Имя его было Авдей, фамилия – Вальцер, и, представляясь, он иронической интонацией дал понять, что ему самому вполне очевидно это этимологическое противоречие. Между отчетливо славянским «Авдей» и таким же отчетливо не славянским (немецким, еврейским) «Вальцер». Однако, ничего не поделаешь. Следует воспринимать это как данность. Предложил называть его только по имени.
– Для простоты общения, – сказал он, улыбнувшись такой улыбкой, которая, казалась, была предназначена лишь для того, чтобы включить ее на мгновение и тут же выключить.
Он вообще не производил серьезного впечатления: невысокий щуплый подросток в джинсах, в полосатой рубашке, в короткой курточке, карманы которой по-школьному оттопыривались. Ему бы на дискотеку, а не работать в том заведении, сотрудником коего он пребывал. На первый взгляд ему было лет двадцать пять. Однако это только на первый взгляд. Уже в следующую минуту становилось понятным, что ему, скорее, тридцать пять – сорок, а еще через пару минут – что где-то между сорока и пятьюдесятью. Начинал быть заметен лысоватый крепенький череп – в гладкой коже, с залысинами, упорно поднимающимися к затылку, удлиненный, чуть стиснутый по бокам, очертаниями напоминающий молот, как у известной рыбы, проступали мякотные мешки под глазами, вялость мелких морщин, светлые возрастные пятна на скулах.
Еще интересней были его движения. Авдей не столько ходил, сколько неуловимо, как призрак, перемещался в пространстве. Вот он только что появился в дверях квартиры и вдруг – раз! без всякого перехода – уже стоит в центре комнаты – медленно поворачивает румпель черепа, обводит взглядом стены, пол, потолок, окна, мебель. Как будто записывает увиденное на пленку. А потом снова – раз! – уже сидит в кресле напротив меня; пальцы – сцеплены, взгляд фиксирует собеседника. Казалось, что Авдею не составит труда так же пройти сквозь доски, кирпич, бетон, бронированные перекрытия.
Под стать ему были и двое помощников. Тоже – в джинсах, в рубашках пестрой молодежной расцветки. Оба – с длинными волосами, оба – с плоскими сумками, перекинутыми через плечо. У одного в мочке уха – крохотная золотая сережка. Им бы тоже – на дискотеку, а не в квартиру, где пахло влажной землей.
Впрочем, впечатление и тут было обманчивым. Помощники Авдея не представились мне, даже не поздоровались, вообще не произнесли ни единого слова, но как только Авдей, закончив визуальное обследование места событий, покивал самому себе и, не поворачивая головы, обронил: Давайте, ребятки… – оба они задвигались с точностью хорошо отлаженных автоматов. Один тут же занялся замком на дверях – извлек из планшета отвертку, начал ею что-то выкручивать, а другой, до этого меланхолично жевавший резинку, присел на корточки и застыл, вглядываясь в осклизлые грязевые отвалы. Чувствовалось, что они хорошо представляют, чем им следует заниматься.
Сам же Авдей, видимо, посчитав, что на данном этапе его участие в процедурах не требуется, переместился, как я уже говорил, в кресло, спинкой к окну, и принялся непосредственно за меня.
Сначала он поинтересовался, как обстоят дела у Бориса Аркадьевича? Мы с ним, наверное, год не виделись, только в прессе встречаю его фамилию. А услышав, что дела у Бориса Аркадьевича обстоят нормально, объяснил, что лично он, Авдей, Борису Аркадьевичу очень обязан. Была, оказывается, какая-то история два года назад. Борис Аркадьевич, можно сказать, меня тогда из помойки вытащил.
– Нет-нет, я не преувеличиваю, честное слово. Знаете, где бы я сейчас был, если б не он?
В общем, Авдей считал себя должником Бориса и заверил, что будет содействовать нам всеми имеющими у него средствами.
– К сожалению, они не очень большие, – тут же добавил он. – Борис Аркадьевич меня в этом смысле немного переоценивает. Сейчас, знаете, не прежние времена. Однако, постараюсь – все, что смогу.