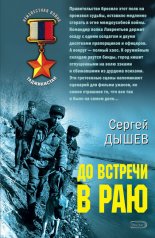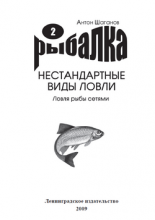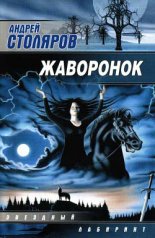Заговор ангелов Сахновский Игорь

<…> Она не притронулась к еде и с каждым глотком вина становилась только бледнее.
– Почему ты не возвращался так долго?
– Наверно, потому что гордыня сильнее меня.
– У твоей гордыни женские имена – каждый день новое.
– Ей хватило бы и одного… Ты сейчас похожа на невесту.
– Я и вправду невеста. Отец выдаёт меня замуж.
– Он никогда не отменял своих решений. Скоро свадьба?
– Этому не бывать.
– Хочешь уехать вместе со мной?
Она замолчала. Потом поставила бокал и сказала с какой-то удивительной мягкостью в голосе:
– Я хочу, чтобы ты сейчас ушёл.
– Сейчас же?
– Да, Пласида проводит тебя в комнату… Ах нет, я же отпустила её спать!
Пока мы шли со светильником по тёмному коридору, её не переставая бил озноб. <…> В дальнем углу комнаты, приготовленной для меня, стояла высокая кровать с пологом из дамасского шёлка. На широкой старинной консоли горели свечи в серебряных шандалах.
Она пожелала мне спокойного сна, намереваясь уйти, но я не отпустил её:
– Я уже сегодня был камеристкой, теперь буду сиделкой.
Не имея сил противиться, она позволила взять себя на руки, отнести на постель и раздеть. Меня будто обожгло изнутри при виде бедной наготы, этих увядающих лилий, выпавших из расстёгнутого платья. Полночи я провёл в изголовье кровати, сторожа болезненное забытьё моей милой, потом сам незаметно уснул.
В предутренних сумерках меня разбудил её взгляд, похожий на прикосновение. Свечи почти сгорели, остывающий воск оплыл на тусклом серебре. Она опустила веки и прижалась ко мне всем телом. Никогда ещё я не любил её с такой бешеной нежностью, как в то утро. Слабая, по-птичьи невесомая, она в любви была вынослива и щедра, как богиня. <…> Это утро было предпоследним в её жизни.
К полудню в замок прибыла донья Беатрис, кузина Марии дель Росарио. Я знавал гостью ещё маленькой девочкой, которая забиралась ко мне на колени и просила покатать её верхом на лошади. За эти годы Беатрис превратилась в блестящую даму, владеющую в совершенстве светскими изысками и ухищрениями. Теперь она глядела на меня с плотоядным любопытством, как смотрят на знаменитость, которая пожизненно приговорена к своей пикантной или скандальной репутации. Во время обеда я был вынужден сдерживать натиск виртуозного кокетства, отвечая по возможности учтиво, хотя и суховато.
Ближе к концу трапезы донья Беатрис наклонилась ко мне, скосив глаза на кузину, и с нежнейшим выдохом шепнула на ухо: «Она вас любит всё безумнее с каждым днём!»
Хозяйке, сидевшей напротив, показалось, что гостья нашёптывает мне кое-что другое, и взгляд её потемнел. Я знал, как выглядит ревность Марии дель Росарио, но здесь было нечто страшнее ревности – какая-то чёрная обречённость.
Полагая, что сестрам после разлуки есть о чём потолковать наедине, я откланялся и ушёл в монастырскую тишину библиотеки. На меня быстро нагнал скуку «Цветник премудрости», собрание проповедей дона Педро де Бентаньи, зато увлекли «Кастильские королевские хроники», где я нашёл закладку между страницами с жизнеописанием Хуаны Безумной.
Уже смеркалось. Временами я отрывался от книги, прислушиваясь к ветру, буйствующему в саду. Голые ветви хлестали по стеклам запертых окон, будто в отчаянье или гневе. Мне захотелось уйти в свою комнату, но в эту минуту на пороге появилась Мария дель Росарио. Её ломкая, полупризрачная фигура, удлинённая шлейфом белого монашеского платья, вдруг вызвала у меня суеверный трепет. <…>
– Отец прислал письмо. Он возвращается через два дня и торопит меня с приготовлениями к свадьбе. Тебе надо уехать – не позднее чем завтра!..
– Ты требуешь от меня бегства? Чтобы я удрал, как трус? Я знаю нрав твоего отчима…
– А я знаю твой нрав. Ни один из вас никогда не уступит. Умоляю тебя, уезжай! Ради всего святого…
Она смолкла, заслышав шаги Пласиды, которая вошла с горящим светильником.
– Что ж вы в потёмках сидите? – воскликнула нянька испуганно. – Темнота до добра не доводит.
– Почему? – спросил я с улыбкой. Старуха понизила голос:
– Так ведь нечистая сила только и ждёт!.. Спросите вон сеньориту, она сама с колдуньей зналась. Ох!..
Тут, видимо, поняв, что сболтнула лишнего, Пласида прикрыла рот рукой, перекрестилась и ушла. Мы снова остались вдвоём.
– Что за колдунья? Расскажи.
Она неохотно призналась, что в прошлом году, когда ездила во Вьяну-дель-Приор, побывала у слепой гадалки, которая славится своими точными прорицаниями и готовит сильнейшие снадобья.
– И что она предсказала?
– Она совсем слепая, но заявила, что лицом я вылитая Хуана, та самая Хуана Безумная. И что меня ждёт точно такая же участь либо…
– Ты веришь этому?
– …Я нашла гравюру, портрет королевы Хуаны Первой, и сама поразилась этому сходству. Но ничью судьбу я повторять не собираюсь.
Она встала, чтобы уйти. И уже у самой двери, открытой в темноту, оглянулась и произнесла с ледяной вежливостью:
– Я прошу не тревожить меня сегодня ночью. Мне нужно остаться одной.
<…> За ночь я не сумел уснуть ни на минуту. Вчерашний ветер умолк, но мглистая тишина, окутавшая замок Брантесо, казалась ещё более отчаянной. Как только небо за окном затянулось предутренней поволокой, я вскочил с постели в невыносимой тревоге и, накинув халат, вышел в коридор. Меня страшили мои собственные отражения, мелькающие в тёмных зеркалах, как преследователи, то по левую, то по правую руку. <…>
Я бы нашёл её дверь даже с закрытыми глазами. Пытаясь унять жесточайшее сердцебиение, я заставил себя помедлить, прежде чем войти. Спальня была не заперта. Мария дель Росарио лежала на краю постели в неудобной, перекошенной позе: одна нога на полу, другая – подогнута, как у сломанной куклы. Было страшно вглядываться в бескровную белизну застывшего лица. Мне не хватило решимости приблизиться к ней, чтобы определить, мертва она или спит. В комнате стоял странный чесночный запах, заставивший меня вспомнить вчерашние слова о нечистой силе.
В это мгновение снаружи за дверью послышался тихий отчётливый звук – какой-то убегающий шёлковый шелест, будто по коридору промчался маленький вихрь. И почти сразу же до моего слуха донёсся выкрик: чей-то женский голос окликнул меня по имени. Внутренне содрогаясь, я вышел в пустую темноту коридора и направился в ту сторону, откуда, как мне казалось, долетел голос. <…>
Наконец, после неуверенных блужданий мне бросилась в глаза полоска света, резко выделявшаяся между полом и дверью. Это была спальня доньи Беатрис. Забыв о приличиях, я постучался и вошёл. Полуголая, с распущенными волосами, донья Беатрис глядела на меня с постели так, будто ждала моего прихода.
– Это вы? Вы меня звали?
– Не кричите! Кузина услышит!..
Боже правый, я бы не колеблясь отдал годы жизни, чтобы она и вправду могла ещё слышать нас… В растерянности я сел на кровать, и донья Беатрис, не пряча наготы, приникла головой к моему плечу. Мне причудилось в этом жесте сердечное сочувствие, в ответ я обнял её, но тут же услышал взволнованный шёпот:
– Закройте дверь, негодяй! <…>
Пусть меня простит Мария дель Росарио там, на небесах. Мы все не ангелы и не звери. А сам я – из тех доверчивых тварей, которые превозмогают горести и скорби если не любовью, то хотя бы её подобием.
Трудно сказать, сколько минут промелькнуло с того момента, когда Беатрис потушила светильник и с поразительной сноровкой, нимало не интересуясь моими желаниями, превратила меня в своего любовника или, можно сказать, в орудие для самоублажения. <…> Казалось, эта сладкая обжигающая пытка никогда не кончится, как вдруг я почувствовал на себе взгляд из темноты, присутствие кого-то третьего – и оглянулся.
В редеющих синих потёмках, возле закрытой двери явственно белела фигура в длинном монашеском платье. Лицо и руки стоящей заслоняла глубокая тень.
– Кто здесь?! – крикнула донья Беатрис неожиданно грубым, бабьим голосом, всё ещё хриплым от вожделения, и этот вскрик ударил по моим нервам сильнее, чем появление молчащей непрошеной гостьи. Когда я вскочил, подобрал с пола и накинул халат, её уже не было в комнате. И снова из коридора послышался тот же самый звук – стремительно убегающий шёлковый ветер.
В считаные мгновенья, терзаемый колотьём в груди, я добежал до спальни Марии дель Росарио.
Она лежала, запрокинув голову, подогнув под себя ногу, всё в той же перекошенной позе. Я бросился к ней, стиснул в ладонях нежное холодное лицо, словно подёрнутое инеем, теребил губами полуоткрытый рот, пытаясь наполнить его дыханием. Увы! Жизнь ушла из неё. <…>
На исходе января донья Беатрис удостоила меня изящным посланием, где, помимо всего прочего, сообщала невероятные, леденящие душу подробности.
«Мой любезный друг! Полагаю, вы поступили весьма разумно, покинув Брантесо до возвращения в замок моего дяди. Ослеплённый горем и яростью одновременно, он был склонен обвинять именно вас не только в смерти падчерицы, но ив том, что произошло позднее, после вашего отъезда.
Мне страшно об этом писать, но придётся. Ужас в том, что мою несчастную кузину нам даже не довелось похоронить!
Наверно, вы помните аббата Бенисио? Он, между прочим, был ещё нестарым приятным мужчиной, хоть и вечно с дурным запахом изо рта. Я пишу «был», потому что в ночь, когда его оставили у гроба с телом моей бедной кузины, чтобы он совершил обряд отпевания, в эту самую ночь из часовни бесследно исчезли и покойница, и сам аббат Бенисио!
У меня и сейчас волосы встают дыбом при воспоминании о том, как мы стояли ранним утром в ужасной растерянности в этой мрачной сырой часовне, и она была совершенно пуста! На наши испуганные возгласы отвечало только эхо, которое взмывало над алтарём подобно хищным птицам…»
Заключительные главы «Приятных записок» маркиз дописывал, судя по всему, уже в самом преклонном возрасте. Рассказы о любовных приключениях постепенно сошли на нет, уступая место сетованиям на удручающую нехватку набожности. Причем нельзя сказать, что отставной донжуан сожалел о своём безбожии по сугубо моральным причинам. На старости лет маркиз решил, что, будь его вера в Бога более глубокой, он сумел бы найти внятное объяснение неким загадочным событиям прожитой жизни, в том числе и обстоятельствам ухода Марии дель Росарио. Эти обстоятельства продолжали смущать его и тревожить. Если верить мемуарам, он даже вступил в переписку со знаменитым французским астрономом и естествоиспытателем Камилем Фламмарионом, чтобы как-то сверить свой мистический опыт с научным.
В 72-й главе «Приятных записок» приведён отрывок из ответного письма К. Фламмариона:
«…Всего за несколько месяцев исследований[4] я получил более 1800 сообщений, подобных вашему, о том, какумирающие или уже умершие люди являются к живым и здоровым независимо от местонахождения последних. Отсеяв свидетельства, способные вызвать хотя бы малейшее подозрение в мистификациях, неискренности либо чрезмерной экзальтированности моих корреспондентов, я имею 786 писем, которые содержат 1132 факта, чья достоверность представляется бесспорной.
Все описанные случаи были пережиты моими корреспондентами в бодрствующем, совершенно нормальном состоянии, рассказаны простым языком, добросовестно и без претензий. Я намерен эти случаи классифицировать и составить из них книгу. Наука ещё далека от постижения столь таинственных явлений, и делать выводы о природе нашего общения с умершими, безусловно, рано. Но я считаю своим долгом показать, что эти факты существуют. Тот, кто упорствует в их отрицании, похож на слепца, отрицающего наличие звёзд.
Возможно, кое-кто из учёных коллег упрекнёт меня в наивном пристрастии к чудесам. Я же отвечу словами Августина Блаженного: «Чудеса не противоречат законам природы, а противоречат лишь тому, что мы знаем о ней»…»
В последний раз автор «Приятных записок» упоминает Марию дель Росарио в 74-й главе:
Её уход оставил в моей душе выжженную равнину. Единственное облегчение после расставания с Брантесо мне давала тогда ещё не утраченная способность плакать. Я плакал, как одинокий язычник, потерявший свою последнюю богиню, и как языческий бог, которому больше не приносят жертвы.
До сих пор я не в состоянии полностью осознать смысл её ухода, её молчаливого исчезновения, после которого не осталось даже могилы.
Мне ясно лишь одно: это был отказ. Отказ не только от жизни, но и от смерти, от всеобщей участи людей. <…>
Глава четвёртая ЖИВЫЕ РЕСУРСЫ
Они познакомились в провинциальном обувном магазине, где не было ни подножных зеркал, ни даже сидений для примерки. Сначала она отвергла придуманный им способ взаимопомощи, а потом слишком решительно разулась до капрона. Смешно сказать, но этого хватило.
Вот так они нашли друг друга и стали парой – со всеми вытекающими последствиями.
Парам полагалось первое время «ходить». То есть посещать киносеансы в домах культуры или просто гулять в людных местах типа скверов, где по праздникам и воскресеньям играл духовой оркестр – тот же, что и на похоронах: медные тарелки и толстые трубы, скрученные в бараний рог. На асфальтовом пятачке между кустами волчьей ягоды и дощатой эстрадой, под ритмичное шарканье танцующих затевались простодушные сюжеты, которые потом, сквозь годы, будут именоваться жизнью и судьбой.
Дома культуры носили одинаково полезные названия: ДК нефтяников, ДК строителей, ДК машиностроителей. Анонсы на киноафишах тоже были солидарно одинаковыми. Других развлечений здесь не имелось.
Вообще говоря, город являл собой сколоченную наспех пристройку к их величествам Заводам и Комбинатам, победительно дымящим в почтительном окружении котельных, ремонтных мастерских и складов для хранения бесценных промышленных ресурсов.
Фактически вся текущая окрестная жизнь, все вещи вокруг безропотно служили именно ресурсами, хотя и с разной степенью ценности. Самым дешёвым ресурсом – быстроизнашивающимся и легкозаменяемым – были, конечно, люди. Для них приходилось возводить наряду со складами что-то наподобие жилья, щедро лимитируя квадратные метры (около шести квадратов на душу) и как бы складируя таким образом непрактичные живые ресурсы, которые терпеливо ожидали своей участи в порядке живой очереди.
Властный жест, наделяющий наших замотанных, беспородных, бесправных родителей кровом, жилплощадью, комнатой с соседями, даже отдельной квартиркой с санузлом, которая потом, осыпаясь, ветшая, дурнея, станет последним фамильным сокровищем, единственным рыночным аргументом стариков, – вот этот жест я могу сравнить только с милостью провидения. Задним числом кто-то выплюнет унизительное слово «хрущобы». Но тогда, после общежитского и коммунального ада, это было реальное крупнопанельное счастье.
Итак, парам полагалось «ходить» в людных местах. Уединение вдвоём без регистрации уже само по себе выглядело подозрительно. Моральным оправданием такой распущенности мог быть лишь переход на более высокую стадию отношений, близкую, понятно, к регистрации.
А эти двое ухитрились вообще не «ходить».
На второй неделе знакомства он предложил ей поскорее пожениться. Она спросила:
– Чего вдруг?
Ни грамма не умеющий лестно лукавить, он пояснил:
– Понимаешь, просто нет времени гулять. Всё равно ведь поженимся.
Прозвучало довольно убедительно.
Лида пожала плечами и согласилась. Правда, осторожно поинтересовалась: что его так уж сильно привлекло?
С тем же неотразимым прямодушием Фёдор сознался, что, поскольку всё началось в обувном магазине, самым первым, прямо вот ослепительным впечатлением были её ноги. А потом уже глаза. Хотя глаза немного испугали.
С ногами, в общем, и так всё было понятно. На них не оглядывались и не пялились разве что гипсовые статуи пионеров-героев. Одна студенческая Лидина приятельница, знающая толк в житейских ценностях, говорила, что с такими ногами выходят замуж как минимум за генерала или секретаря обкома. Генералы и секретари Лиду заботили не больше, чем гипсовые пионеры. Её занимал Фёдор, не имеющий времени для ухаживаний.
Про глаза он тоже неслучайно сказал. В них на самом деле была пугающая странность, заметная и людям со стороны, и ей самой в зеркале: какой-то неизлечимый холод, взгляд на мир как на чужбину, к которой невозможно привыкнуть.
Спустя десять лет она услышит от Фёдора такой безнадёжный диагноз:
– Ты, Лида, совсем неправильная жена. Жена всётаки принадлежит мужу. А ты вообще не умеешь никому принадлежать.
– И давно ты заметил?
– Ещё в самом начале.
Однако это не помешало Фёдору сходить с ума по своей неправильной Лиде – и на третьем году после женитьбы, и на седьмом, и на двенадцатом. А если бы не сходил, то чего ради он стал бы писать жене из дальних командировок оглушающе бесстыдные, головокружительно нежные письма, где самым приличным выражением было «твою девочку мокрую»? И с какой стати она прятала бы эти раскалённые послания на дне коробки от монпансье вместе с младенческими прядями, молочными зубиками, оберегами из сердолика и хранила до самой своей смерти?
Где бы Фёдор ни появлялся, он всегда и всюду производил впечатление иногороднего. Такой сдержанно-учтивый гость в чужом монастыре: со своим уставом не лезет, но и здешними порядками не увлекается.
Вот эта неукоренённость, нерастворимость в любой среде – уличной или заводской – была, можно сказать, его второй натурой, если не первой. Сын матери-одиночки (тоже, как и Лида, из эвакуированных), он сам, по сути, всю жизнь оставался отъявленным одиночкой, даже будучи уже отцом семейства.
Когда крепко пьющее, но бдительное начальство допытывалось у подозрительно трезвого специалиста по электротехнике: «Почему не вступаешь в партию?», Фёдор отвечал твёрдо, на голубом глазу: «Пока не чувствую себя достойным».
Тем не менее, ценимый за тщательность в работе, он был удостоен одиннадцатиметровой комнаты в коммуналке – на низеньком первом этаже шлакоблочной хибары, построенной пленными немцами вскоре после войны.
В этой комнате они прожили семь лет: сначала вдвоём, потом втроём, потом вчетвером.
Лида забеременела в первый же месяц замужества.
Ей было двадцать восемь, Фёдору – на три года больше. Когда она ходила худющая с животом, он трясся над ней, как над смертельно больной. Хотя никаких особых недугов не наблюдалось, если не считать изнурительную, неукротимую рвоту на протяжении всех девяти месяцев.
Когда я появился, отец рассмотрел меня детально, как неведому зверушку, и спросил с брезгливым любопытством, почти с ужасом:
– Они что – все такие рождаются?
Позже я рискнул выяснить у матери: как выглядела зверушка? Что именно ужаснуло отца? Она ответила:
– Ты выглядел как цыплята за рубль семьдесят пять.
Это гастрономическое диво я ещё успел застать на прилавках: синеватые голые трупики с понурыми глазастыми головами. Ну да, видимо, в развитие удачно начатой цыплячьей темы родители снабдили меня подходящим инвентарём – цыплёнком-погремушкой из пластмассы лимонного цвета. И надиктовали, таким образом, первое прижизненное воспоминание. «Этого не может быть, – скажет мне мать. – Ты не мог это запомнить. Потому что твоего несчастного цыплёнка нечаянно раздавили ногой и выбросили на помойку. А сколько тебе тогда было? Меньше года». Получается, что не мог. Но, хоть убей, я всё равно помню несъедобную гладкость той лимонной пластмасски, примятой беззубыми зудящими дёснами.
Я, правда, не стал делиться с матерью совсем уж запредельным впечатлением: о плавании в тёплых насыщенных водах, о розовом мареве и тесной круглоте бухты, которая снилась мне целое детство напролёт. Мать, скорее всего, отмахнулась бы: «Не выдумывай!» Но меня, по крайней мере, не слишком удивила случайно прочитанная публикация о том, что ещё не родившиеся младенцы совсем не слепы: они смотрят, куда-то вглядываются сквозь околоплодные воды.
Входить в пространство тех одиннадцати метров – значит так или иначе становиться свидетелем маленьких трагедий, сердечных затмений и вспышек. Там не пахло изменами. Но там, как ни странно, пахло ревностью.
Фёдор жестоко и неуправляемо ревновал к прошлому – к призраку по имени Самара. Почему, за счёт чего включился этот взрывной механизм замедленного действия, точно неизвестно никому, кроме Лиды. Будучи старшеклассницей, она всерьёз готовилась поступать на иняз, пробовала на вкус чужеземное произношение, но в последний момент всё перевернулось. Необъяснимо быстро откуда-то выплыл и стал желанной целью Самарский, тогда ещё Куйбышевский, мединститут. Сопутствующие подробности: отдушка сигаретного дыма на летней кофточке, неумело тронутые помадой губы, полуночные возвращения домой с невидимым провожатым. Теперь каждый день как бы грозил ей опозданьем. Она словно боялась превратиться в Серую Шейку, которая останется, застрянет у замерзающей реки и не увидит южных берегов. Берта сказала Роману: «Пусть едет, если хочет». Предполагалось, что Лида уезжает навсегда. С родителями оставалась младшая сестра – улыбчивая кокетка и щебетунья, полная противоположность молчаливой старшей.
Лида уехала и поступила в медицинский. А через полгода от сердечного приступа умерла Берта. И Роман, рассудив, что дочери сейчас и без того нелегко, не стал ей сообщать о смерти матери – решил повременить, чтобы Лида издалека не срывалась на похороны. Она в августе следующего года сама вернулась домой, где уже не было мамы Берты; полмесяца валялась как убитая, потом встала и принялась за уборку и мытьё посуды. И ничего не рассказала. Самарская история так и осталась туманным пятном, которое затем заслонили учёба на инязе и преподавание английского взрослым недоучкам в вечерней школе № 45. Сохранился только один снимок, но не в домашнем фотоальбоме с прорезными лунками, а в нижнем выдвижном ящике шифоньера, под крахмальной бельевой стопкой, брошенный вниз лицом. Нечеловечески красивая Лида в чёрно-белом сарафане в горох стоит в тени скуластого мачо, ранней копии Марлона Брандо, позирующего по какому-то спортивному поводу в семейных трусах и майке. Вероятнее всего, так он и выглядел, миражный соперник из прошлого. А стрельба по миражам уж точно не самый лёгкий вид единоборства: первым делом подстреливают кого-то реального и невиновного.
Если в начале жизни требуется наглядный урок переброски из рая в ад, то мне четырёхлетнему хватило событий всего одной памятной ночи на тех самых одиннадцати метрах. Накануне родители сделали покупку – грандиозную по тем временам, когда ещё с провинциальных российских небес не излучалось ни единого намёка на телевидение. Купленная вещь называлась радиола. Её хотелось трогать и гладить: полированное дерево по бокам, а на фасаде серебристая ткань с хитрым, изумрудно горящим глазом в центре. Наверху, под тяжёлой крышкой, прятался проигрыватель пластинок. Пластинки уже имелись и стояли наготове: Марк Бернес, Майя Кристалинская и «Бесаме мучо».
Родители потушили свет, в темноте светилась, вещала, надрывалась, переполняемая джазом, частушками и оперными ариями, трещала и свистела волновая шкала с магическим списком городов: Берлин, Стокгольм, Лондон, Копенгаген, и что-то ещё, и совсем уж загадочные Ашхабад с Кишинёвом. Иностранная речь звучала скорее тревожно, русская – благодушно и победительно. Изумрудный глаз непрерывно щурился, то сужая, то расширяя зрачок. Первый и едва ли не последний раз в жизни мы сидели все втроём, рядышком, приникнув к этой роскошной тарахтелке; подо мной были чьи-то тёплые, родные колени, и меня не прогоняли спать.
Мы легли очень поздно. Я тут же уснул, бесконечно счастливый. А среди ночи меня разбудил такой устрашающий грохот, будто обрушился дом. После второго удара мать включила свет.
Мой спокойный, интеллигентный, непьющий отец стоял посреди комнаты – и швырял радиолу об пол. Поднимал выше головы и опять с силой бросал. Детали и осколки радиоламп разлетались по сторонам. Что делала мать в тот момент, я не запомнил. Но както чувствовалось: она если не виновница, то соучастница этого кошмара.
Дальше было совсем странно. Отец неожиданно затих, обратив внимание на какую-то мелкую радиодеталь, подобрал её с пола и начал разглядывать. Потом, не отрываясь от находки, ещё ниже опуская голову, он медленно отвернулся в тень, и мне стала видна только его ссутуленная спина.
Я больше ничего не помню из той ночи, кроме своей острой жалости к уже не нужным пластинкам, осиротевшим без радиолы, и сгорбленной фигуре отца. По-моему, это нормально, когда один мужчина четырёх с половиной лет жалеет другого, тридцатишестилетнего.
– Пап, – сказал я. – Ну не плакай.
Вызволяя теннисный шарик из колючих дворовых кустов, можно было стать мужественным разведчиком, действующим в тылу врага. Тыл располагался позади скамейки, плотно засиженной языкастыми соседками из нашего дома. Я только недавно узнал о плачевной участи римских гладиаторов и теперь с полным правом ненавидел бессердечных зрителей, рассевшихся на скамьях амфитеатра. Для местных римлянок весь наблюдаемый мир был чем-то вроде гладиаторского спектакля. Они с одинаковым удовольствием ехидничали по адресу «лысого Никитыкукурузника» или моей матери, только что вышедшей из подъезда с неприлично огромным животом. Разведывательная операция была на грани провала – настолько мне хотелось вылезти из кустарника и крикнуть в защиту мамы, что они гадины! Но, если уж совсем честно, я слегка стыдился выдающейся маминой пузатости. Это было примерно так же некрасиво, как у иностранных империалистов, напечатанных в журнале «Крокодил».
Но уже дней через десять мать принесла домой и, распеленав, показала мне новорожденную сестру. Сестра мне страшно понравилась: такая спокойная, неразговорчивая, крупная девица розового цвета. Я сразу предложил свою помощь в качестве жениха, исходя из простой домашней логики: лучше, когда подрастёт, выдать её замуж за меня, чем отдавать кому-то постороннему.
Со временем сестра не перестала меня восхищать. На фоне моей нервной непоседливости она могла сойти за маленького Будду – всегда важная и сияющая. Родителей беспокоила её упорная молчаливость, но я-то знал, что моя сестра просто не любит зря болтать. Она говорила крайне редко и только по делу. Первое слово я вообще услышал от неё, когда ей было два года. Мать работала по вечерам, отец часто задерживался дотемна, и меня оставляли за няньку. Мне было приятно и нескучно оставаться наедине с сестрой: с ней можно было поговорить хоть о чём, даже о самых секретных вещах. Как-то раз я создал транспортное средство, употребив для этого эмалированную суповую кастрюлю с ручками, бельевую верёвку и наиболее полезные фрагменты сломанного трёхколёсного велосипеда. Теперь можно было с удобством катать сестру по всей комнате, от окна до кровати и обратно, не прерывая наших содержательных бесед. Мы обсуждали, в частности, положение средневековых матросов, которые потерпели бедствие в открытом океане и случайно высадились на тушу кита. Как они там? Смогут ли продержаться, разжечь костёр и хлебать свой пиратский ром? В общем, ситуация тяжёлая, надо было срочно что-то решать. Но в эту минуту мы сами попали в аварию, наехав на ножку стола. Пассажирка вывалилась на пол и громко стукнулась головой. Любая другая сестра сразу же раскричалась бы, а моя только сделала недовольное лицо. Я, конечно, как водитель, чувствовал себя виноватым, поэтому попросил прощения. И тут моя сестра вымолвила слово, от которого я тоже чуть не свалился под стол. Она сказала: «Прощаю». Это было самое первое, что я от неё в жизни услышал. Ну, если уж передавать совсем точно, заявление прозвучало скорее как «пасяю». И всё равно – мы ещё никогда не беседовали на столь высоком светском уровне.
Но в дальнейшем всё чаще получалось так, что я сестру оставлял одну: сбегал от неё из двора, уходил в себя и в собственную жизнь, как в дальнее плаванье, уезжал насовсем в другие города и страны. Научившись читать в четырёхлетнем возрасте и проглотив за последующие три года всю доступную мне тогда письменно-печатную продукцию, включая надписи на заборах, карамельные фантики и сурово адаптированные легенды Эллады, я теперь на вопросы назойливых взрослых: «Кем ты хочешь стать?» коротко отвечал: «Одиссеем». Сестрица бежала за мной по двору, как доверчивая собачка, тёплые байковые рейтузы пузырились под коротким платьем, а я, героический мерзавец, гнал её: «Не ходи за мной! Отстань!» – и она отставала и уходила без обиды, маленькая прекрасная женщина, отвергнутая мальчишеской спесью.
Незадолго до моего попадания на школьную каторгу начальство Никелькомбината, где работал отец, одарило нас квартирой в пятиэтажной хрущёвке: две смежные комнаты «вагончиком», кухня игрушечных габаритов и совмещённый санузел. Это был уже невообразимый простор для жизни. В том же году я решил, что перед поступлением в школу будет правильно сходить по-быстрому в пробное кругосветное путешествие. Наша улица упиралась хвостом в Центральный парк культуры и отдыха, который интриговал меня, примерно как джунгли. Я точно знал, что там в кущах акаций и чёрной смородины иногда совершаются преступления и половые акты, но не знал – что из них страшнее. Однако в ходе моего опасного путешествия акты ни разу не совершались, врать не буду. Шёл я налегке, без продуктовых запасов: так опасней и увлекательней, а с продуктами любой дурак смог бы. Главной моей задачей было не сбиться с курса, то есть не отвлечься и не сменить направление – только так я вернусь в исходную точку, прямо к своему подъезду, обогнув земной шар. Позади джунглевой оградки тянулась бесцветная улица Новосибирская, за ней – неопрятные домишки частного сектора. Пришелец из пятиэтажки чувствовал себя здесь аристократом из родового поместья. Наблюдение за местными нравами показало, что среди аборигенов встречаются дети, чем-то выпачканные с ног до головы, и они лижут сладких, прозрачно-малиновых петушков на палочках далеко высунутыми языками. Это было нелёгкое испытание для исследователя, которому тоже страстно захотелось полизать леденец.
Собственно, частными хибарами город и заканчивался.
Дальше начиналось нечто безлюдное и беспредельное, сухое и каменистое, с воспалённым горизонтом и травянистой горечью во рту. Вечерело, становилось холодно. Приключениями здесь не пахло – только терпением и пылью.
По моим сегодняшним прикидкам, я в тот день отошёл от города примерно на четыре километра и пребывал на подступах к Новотроицку. Здесь у меня случился жестокий упадок сил, и я был вынужден устроить привал у дорожной обочины.
Но ещё до того как одиссеевский азарт утих, меня настигло ошеломляющее открытие. Оказалось, что здания, в которых мы живём, и хвалёные могучие комбинаты, и весь город целиком – это лишь маленькие смешные загородки посреди безжалостно большого, простуженного пространства, абсолютно безразличного к нам, к нашим хотениям и страхам, ко всему, что мы считаем нежным или злым, милым или отвратительным. Конечно, в ту минуту я не формулировал своё открытие такими словами, но чувствовал именно так. И это чувство, кажется, равнялось отчаянью первобытного человека, застывшего с разинутым ртом перед лицом равнодушной природы. Какой-то серый косогор с блестящими кремниевыми брызгами, где я споткнулся и разбил в кровь колено и локти, явился гораздо более простой и сильной реальностью, чем всё, что я мог нафантазировать.
Меня подобрал с обочины усталый дядечка на мотоцикле с коляской, и уже к полуночи я вернулся на исходную позицию. Мать посмотрела на меня безумными глазами и ничего не сказала.
Всю свою жизнь родители считали копейки, оглядывались на ценники, говорили: «Не могу себе позволить». Как и большинство нормальных советских хозяек, мать стирала под кухонным краном целлофановые пакеты – не выбрасывала, пока не порвутся. Отец годами ходил в одних и тех же сандалетах и прилаживал сломанную дужку очков изоляционной лентой. Им, впрочем, и в голову не приходило жаловаться на скудость быта – они от своей бедности точно не страдали.
Сейчас я знаю: от чего они действительно страдали, так это от бедности географии.
Если бы моей матери довелось заново изобретать компас, она бы, наверно, сразу же обозначила на нём Англию – как пятую сторону света. Или даже легко пожертвовала бы строгим намагниченным севером ради обожаемых Британских островов. Это вовсе не значит, что мать всерьёз мечтала об Англии: увидеть, прикоснуться и прочее. Правильнее будет сказать – даже и не мечтала. Поскольку для неё это было равносильно грёзам о поездке в какую-нибудь страну Оз или, допустим, в ганнибаловский Карфаген. За свою жизнь мать ни разу не побывала не то что за границей, но и в самом заурядном доме отдыха.
Отец как-то раз пришёл домой и заявил, что поедет работать в Кению, чем вызвал у меня, одиннадцатилетнего, просто эйфорический восторг. Кения мне была совсем не чужая. А очень даже своя. Потому что мою тогдашнюю коллекцию сокровищ украшала почтовая марка цвета марганцовки, где застенчивый голодный жираф, задрав голову, отщипывал марганцевые листочки с одинокого дерева, а в небе саванны завис коронованный овал с чудесным девичьим профилем. Виньетированная надпись по периметру дарила мне счастливое обладание сразу тремя странами: Uganda, Kenya, Tanganyika! Уганда врывалась в самую душу и насмерть покоряла своим мощным бандитским угаром. Танганьику отличали особая гибкость и грация, пока она внезапно не погрузнела и не превратилась в Танзанию, чем сильно меня огорчила. А Кения – она и есть Кения, чистая легенда. И туда поедет мой замечательный отец!
На самом деле ни в какую Кению он не собирался. А собирался уехать навсегда в Иркутск, в Сибирский энергетический институт, где ему предложили научную работу. Это был шанс вырваться из многолетнего заводского режима, не толкаться тёмными утрами в проходной с железной вертушкой, снять спецовку, покинуть ряды пролетарского живого ресурса. Всё это я могу понять. И далеко не сахарный характер моей матери. И даже то, что он оставлял её с двумя детьми: так уж родители сообща постановили, и всё тут ясно. Меня до сих пор смущает лишь один невнятный зазор: почему Кения? Почему он пошутил именно так?
Я присутствовал при сборах отца в дорогу. Самыми ценными личными вещами, которые он забирал с собой, были полевой бинокль с шестикратным увеличением и большая готовальня с чёрным бархатным нутром и потайным хирургическим блеском циркулей. Больше ничего.
К вечеру мы поехали вчетвером на трамвае на железнодорожный вокзал и всю дорогу вели себя довольно бодро. А возвращались почти ночью, опять на трамвае – уже втроём. Свободных сидячих мест не было, мы стояли в битком набитом вагоне, сгрудившись у складной двери, напоминавшей гармошку. Входящие и выходящие граждане толкали нас то спереди, то сзади, но отодвинуться нам всё равно было некуда. Тут у меня вдруг стало горячо в глазах, и я никак не мог справиться с этим жжением, хотя старательно тёр глаза кулаком, а потом увидел, что у мамы и сестры с этим ещё хуже: у них обеих глаза уже словно разъедены докрасна и набухли. И, что самое нелепое, в тот момент я больше всего опасался, что в глазах трамвайной толпы мы будем выглядеть обездоленным семейством из трагического фильма про войну или про суровую личную жизнь. Как будто мы втроём участвуем в такой стыдной сцене, где героевсирот полагается сильно жалеть. Вот что меня смущало, придурка, перед тем как мать и сестра, ни от кого не прячась, уже совсем откровенно заплакали.
Глава пятая ЛОГИКА БЕЗУМИЯ
Фотография была убийственно резкой, с чудовищным тройным увеличением голого лица – на всю обложечную полосу бульварной цветной газеты. Зоной оккупации хроникёров стали нежные рытвины, поры, морщины, залитые слезами, как траншеи дождевой водой. Личное горе в ловушке длинного фокуса.
После такого снимка даже скупое официальное извещение, набранное ниже «таймсом», казалось болтливой чрезмерностью: «По просьбе Её Величества Елизаветы II Букингемский дворец сообщает, что Её возлюбленная мать, королева Елизавета, скончалась во сне в субботу во второй половине дня в королевской резиденции в Виндзоре».
Это было то самое лицо из неба саванны, из ажурного коронованного овала, которым я когда-то любовался на колониальной африканской марке. Миллионные людские легионы, целые поколения видели это лицо настолько часто – на монетах, купюрах, марках, – что уже привыкли воспринимать его просто как человекообразный трёхмерный символ. А тут – застигнутая фотографом усталая старая женщина вся в слезах, потому что у неё умерла мама.
Весной 2002-го, в первых числах апреля, я сидел в людном кафе неподалёку от вокзала Кингз-Кросс, разглядывая эту жестокую газету с сообщением о кончине королевы-матери. Две разгорячённые пивные компании за соседними столами создавали столь мощный стереоэффект синхронного хохота, что любой наивный иностранец мог бы сразу выбросить из головы все мифы об английской чопорности. Сидящая наискосок от меня привокзальная профессионалка лет сорока с готическим макияжем и длиннющими ногами в коротковатых чёрных чулках достала кисет, блокнотик сигаретной бумаги и, не прячась ни от кого, слепила пахучую самокрутку. Я попробовал изменить оптику, взглянув на всё это глазами провинциальной англоманки Лиды, моей королевы-матери с тихим чужбинным взглядом. Почему она не дожила, не дотерпела до открытых границ, до моей самостоятельности, когда бы я легко и свободно привёз её сюда? Что бы она сейчас делала за этим столом? Скорей всего, заказала бы фиш энд чипс: не из пристрастия к дешевизне, а из любопытства и доверия к знакомой классике. С голодным девочковым простодушием обрадовалась бы огромной порции рыбного филе, выпирающего за края тарелки, и пузатенькому, золотисто поджаренному картофелю. Пиво она бы не стала заказывать. Ну, может, раза два отхлебнула бы моего лагера. Тут профессионалка состроила мне глазки и закинула ногу на ногу, давая возможность оценить по достоинству сиреневатый кусок бедра между юбкой и чулком. «Красивая девушка, – сказала бы королева-мать с полным ртом. – Её бы только умыть хорошенько. И почему у неё ногти чёрные?»
В эту минуту мне позвонила Дороти и спросила о ближайших планах. Планы были проще простого: допить свой согревшийся лагер, дойти до вокзала и сесть на поезд, уходящий в сторону Эдинбурга.
Дороти жила в графстве Хэмпшир и говорила на очень внятном английском, что выгодно (а иногда невыгодно) отличало её от большинства знакомых мне лондонцев. Чуть ли не половину всех фраз Дороти начинала со своей любимой присказки: «To be honest…»[5] При этом она специально ради меня замедляла речь, словно опасалась, как бы я случайно не спутал её правильную возвышенную честность с чьейнибудь неправильной лживой задницей.
– Честно говоря, я сейчас в Портсмуте. Поэтому не успеваю приехать. Абсолютно. Прости! Мне так жаль… А тебе?
Честно говоря, мне и так было ясно, что в этот раз мы с Дороти не увидимся. И до того момента, как она позвонила, я даже не успел о ней подумать. To be honest.
– Ну, значит, в следующий раз. Теперь уже летом.
– Да! И вот… Я же обещала снова тебя свозить на Тот Свет. Помнишь?
Ещё бы я не помнил. Мы с ней однажды там почти побывали. И, само собой, ещё побываем – куда мы денемся?
К концу разговора я подумал по-русски: «Блин, Дороти, если ты напоследок снова скажешь мне какое-нибудь идиотское „bye-bye“, то я просто не знаю, что я с тобой сделаю!»
Нет, говорит: «Целую». И на том спасибо.
Я оставил чужую газету с той потрясающей фотографией на столе кафе, хотя меня так и подмывало уворовать её на память. А в середине апреля мне попадётся на глаза очередной выпуск того же цветного таблоида, где с неменьшим трагизмом на обложке будет изображён правый полузащитник Дэвид Бекхэм, покидающий футбольный газон на костылях с травмой ноги. Подозреваю, что стонов на эту тему по всей Англии было гораздо больше.
Мне кажется, прямо на наших глазах в конце девяностых – начале нулевых в мире случилось окончательное обнуление драгоценного древнего мифа о божественной породе и особой прелести всего королевского. Слабеющую мистическую ауру траванули напоследок дихлофосом массового вкуса. Предпоследним актом трагедии была даже не гибель Дианы Спенсер, милой, вполне заурядной девушки с мужским подбородком и неуклюжей судьбой, а успешно прокрученная кампания рекламной скорби, похабная атака на стареющую королеву, которая до последней минуты отказывалась участвовать во всенародном аттракционе под девизом «На миру и смерть красна!», но в результате уступила. Как водится, ум платит пошлину глупости «за то, что та глупа», и пошлость в очередной раз доказывает свою непобедимость.
Называя королевский миф драгоценным, я неизбежно подразумеваю бессчётное количество девочек со всего мира, которые упорно воображали себя королевнами; наших мам, сестёр, будущих возлюбленных и жён, рисовавших в детских тетрадях или на бумажных огрызках немыслимо дивных принцесс и королей разного калибра. Понятно, что это не было торжеством монархической воли – это ясноглазый ребёнок по своему хотению присягал блистательному идеалу женственности и мужественности, который теперь, судя по многим признакам, уходит насовсем. Законы карточной игры позволяют хитроумному плебеистому джокеру подменять собой хоть даму, хоть короля.
Сейчас я заметил, что непроизвольно оттягиваю приближение моего рассказа к той чёрной сквозящей дыре, которую оставила после себя женщина по имени Хуана Безумная. Не слишком соблазнительная тема для историков и ценителей костюмной романтики. Разве что – пища для умствований психопатологов, умеющих найти во всякой душевной аномалии срамную и уголовную этиологию, зловещую тайну родом из младенчества, а заодно и собственные неоперабельные комплексы, – но только не запредельную концентрацию нормы, которая, в сущности, была и остаётся самой большой тайной.
Пресловутое безумие Хуаны Первой становится чуть более доступным для понимания, если иметь в виду, что ей, попросту говоря, уготовили участь новогодней ёлки: угнанной, как невольница, из родимого леса, разряженной и осыпанной блёстками по самую макушку, облюбованной и воспетой хороводом гостей, а затем лежащей на помойке, возле мусорных баков, при свете заблёванного пасмурного утра.
Вот так она лежала однажды целые сутки в одной и той же позе, отказываясь от еды и от жизни, у запертых крепостных ворот замка Медины-дель-Кампо, откуда ей не позволяли бежать во Фландрию к любимому мужу. А ему, как известно, эта любовь успела надоесть хуже горькой редьки.
Место у ворот давно стало обжитым отстойником для человеческих отбросов, чем-то вроде тамбура, где толклись юродивые и попрошайки. Неистребимо пахло собачьей и людской мочой. В тот день стража отогнала всех прочь от тяжеленных ворот, потому что к ним соизволила припасть Хуана, дочь королевы Изабеллы. Изгои смешались с порядочной публикой в одну потрясённую толпу. Распластанная в пыли полоумная инфанта – это был невиданный спектакль для кучи ротозеев. Смотрелось довольно диковато. Стражники устали стоять и досадливо отворачивались. Люди осуждающе молчали. Собственно, любящий человек в глазах нелюбящих всегда выглядит избыточно и диковато.
Хуану отдали замуж в семнадцать лет: бросили, как сахарную кость, в политическую псарню. Кость досталась видному влиятельному кобелю – Филиппу Красивому, эрцгерцогу Австрийскому, повелителю Бургундии, Фландрии, Люксембурга, Брабанта и прочих феодов.
Когда в августе 1496-го инфанта Хуана по воле родителей отправилась во Фландрию в качестве невесты, её терзал всего один человеческий вопрос: «А вдруг я не смогу его полюбить?»
Когда же спустя несколько лет её воля станет решающей для целой империи, Хуана по-прежнему будет задаваться ничтожными человеческими вопросами вроде «любит или уже разлюбил?» и «почему вообще люди разлюбляют?». Как тут не заподозрить безумие?
Прибыв ко двору Филиппа, умытая страхом невеста вручила ему торжественное родительское послание, которое жених только пробежал глазами, поскольку ему не терпелось сграбастать эту худосочную, зато свежую кастильскую девицу и унести в спальню. Там он приказал гостье раздеться, неожиданно ладонью скомкал её лицо, сдавил горловой хрящ и жёстко, стремительно изнасиловал. Пахнуло почему-то горелым мясом. Полузадушенной Хуане почудилось, что он выжег у неё внутри продолговатое клеймо, и это неутихающее жжение она будет потом ощущать годами. Через восемь дней Филипп и Хуана сочетались браком с высочайшего благословения Папы и святой церкви.
Высочайшее благословение, однако, не помешало молодожёну уже на ближайших дворцовых пирах заставлять придворных дам соревноваться в показе, у кого ярче накрашены соски, а юной супруге – обнюхивать простыни в комнате Филиппа, умирая от стыда. После монашеских строгостей испанского двора Хуана чувствовала себя так, словно угодила в дом свиданий. Это плохо сочеталось с той чистой радостью, какую способно причинить девушке самое начало её главной, пожизненной любви. Она полностью доверилась неписаному сердечному закону, впустила глубоко в себя, как некий природный договор: я принадлежу только ему, он принадлежит только мне, и одна лишь смерть способна разлучить нас.
Поразительная гибкость для гордой наследницы кастильских монархов – ей вдруг понравилось быть покорной, стелиться нежным шёлком, удовлетворяя прихоти мужа. Будь он в тысячу раз более сложной натурой, она бы сумела прильнуть к его изломам и граням, повторить форму близкой души. Но никакими особыми сложностями натура Филиппа не страдала, и прихоти его были короткими и прямыми, как одноименная кишка: лишь бы в подходящий момент легла и раздвинула бёдра. Ложилась и раздвигала. Служанки находили утеху в том, чтобы замирать под дверями спальни, подслушивая, как кричит их госпожа – беспомощно и пронзительно.
Очень скоро Хуана обнаружила, что Филипп изменяет ей с новенькой пухлой фрейлиной. Худоба жены больше не прельщала его новизной. Влюблённость и преданность стали неотличимы от назойливости.
Она крикнула ему в лицо: «Предатель!» – крикнула так, что услыхала вся Фландрия. Он ударил её с размаху по виску, не снимая охотничьей перчатки. И тут же испугался, что убил: ещё утром у его ног лежала мёртвая косуля. Когда Хуана слабо пошевелилась, он отвернулся и пошёл к выходу, но что-то заставило его оглянуться. Она лежала на спине с поднятым до груди подолом, разведя в стороны голые тонкие ноги, и молча упрашивала: вернись.
К двадцати одному году она была матерью девочки и мальчика, которых выкормила своим молоком. Всего же Хуана подарит Филиппу пятерых детей, а шестой ребёнок станет подарком от мертвеца.
В начале декабря 1504-го взмыленный гонец принёс плохую весть из Испании: умерла королева Изабелла. Это означало, что Хуана становится обладательницей короны и единственной наследницей кастильского престола.
Между тем в завещании Изабеллы сквозил опасный зазор: мать особо оговаривала, что в случае недееспособности дочери править от её имени будет отец, Фердинанд Арагонский. Зять Филипп в завещании не упоминался вовсе, и, разумеется, это его не порадовало. Вся власть досталась юной измученной женщине, сходящей с ума от любви к мужу.
Спрашивается, кто первым рискнул прилепить к её имени прозвище la Loca?[6] И кто посмел бы сказать такое за её спиной, а потом в глаза, кроме обожаемого супруга? Авторство и первенство не вызывают никаких сомнений, это придумал Филипп Красивый. Умысел прозрачнее дырявого решета: как можно чаще и грубее возбуждать ревность Хуаны, доводя её до отчаянья. Пусть она сама докажет своё умопомешательство. После чего останется официально объявить королеву невменяемой и столковаться со стареющим тестем – по-хорошему или по-плохому.
Интрига почти удалась. Во всяком случае, миру был явлен едва ли не первый в истории прецедент, когда страсть и ревность юридически квалифицировались как изобличительные признаки безумия.
Вечерние увеселения во дворце стремительно перетекали в ночные оргии. Факельный чад и женские визги, телесные и винные испарения достигали таких концентраций, при которых просто слух и просто дыхание, казалось, были уже несовместимы с жизнью. Хуану, главную зрительницу этих потных празднеств, преследовало ощущение, будто она очутилась в чреве громадного ненасытного животного, где скользко ворочаются пахучие внутренности, где груды безвольных мятых плодов, истекающих соком, смешаны в кишечной тесноте с волосяным салом и бледными потрохами.
Вина Хуаны Безумной в том, что она не скрывала рвотного рефлекса. Для чуть большей сдержанности ей потребовалось бы в триста раз больше равнодушия.
В 1506-м, на последнем году супружества, муж всё чаще одаривал её побоями, называл бешеной сукой и запирал на ночь за стеной, пропускающей бодрые звуки из его спальни. Бешеная сука не переставала оправдывать своё прозвище.
В июне произошло событие, которое Филипп отпразднует как самую сладкую победу в своей жизни. На пьяных родственных посиделках он сумел спеться с Фердинандом – и в результате был подписан договор, фактически отнимающий власть у неразумной жены в пользу разумного мужа.
Лучше бы он ничего не праздновал.
Трудно отделаться от впечатления, что, сместив Хуану и забрав кастильскую корону, этот двадцативосьмилетний красавец сам себя приговорил. Лето 1506 года стало для него последним.
Смерть, которая случилась 25 сентября, была настолько молниеносной, что никто ничего не успел понять. Рассказывают, что 21-го или 22-го Филипп играл в мяч, потом, разгорячённый, изволил выпить ледяной воды. В итоге только это и было записано в хрониках. Менее достоверные источники намекают: на теле несчастного обнаружили свежие кровоточащие язвы. Версия убийства, в частности отравления, – не более чем версия. Тот факт, что Фердинанд Арагонский получил наибольшую политическую выгоду от смерти зятя, вернув себе регентство, ещё ничего не доказывает.
Так или иначе, Филипп умер – и теперь его тело полностью принадлежало вдове. Она вдруг взяла на себя роль собаки, стерегущей труп хозяина. Нормальная человеческая потребность как можно скорее похоронить мертвеца (из почтения, страха или брезгливости) у неё отсутствовала. Отныне Хуана будет твёрдо и последовательно удостоверять свой изгойский статус Безумной.
Кто-то пустил слух, что согласно тайному предсказанию Филипп должен воскреснуть через 14 лет. Вряд ли сама Хуана в это верила. Однако высокочтимый архиепископ Молинарский счёл нужным предупредить вдову: ни о каком воскрешении речи быть не может. Тем более что при вскрытии и бальзамировании у покойника вырезали сердце.
Хуана ответила холодно:
– А разве оно у него было?
Первый раз она приказала открыть гроб, когда тело находилось во временном склепе в Бургосе, спустя пять недель после кончины. Траурное свидание проходило без свидетелей.
Через шесть часов Хуана вышла к людям и объявила, что они с Филиппом отправляются в Торквемаду. (Можно было надеяться, что хотя бы таким путём прах постепенно доберётся до королевской усыпальницы в Гранаде.)
Пока свита готовилась к этому странному путешествию, Хуана Безумная снова изъявила желание увидеться с мужем. Гроб открыли второй раз. Второе свидание было менее продолжительным, и в тот же день королева зачем-то известила приближённых, что она снова беременна.
Процессия тронулась в путь ночью – и впоследствии передвигалась только по ночам, как того требовала Хуана. В хрониках сохранились её слова: «Бедной вдове, утратившей солнце своей души, незачем показываться людям при свете дня».
Ехали и шли по темноте изнурительно долго и медленно.
В дневное время траурный кортеж просто стоял под безучастным небом. Иногда устраивали привалы в монастырях, причем, по настоянию Хуаны, только в мужских. Один раз по ошибке вошли в женскую обитель, но тут же сбежали от святых сестёр как от чумы. К слову сказать, участники процессии, тихо проклинавшие свою умалишённую королеву, позднее благодарили её как спасительницу: сама того не ведая, она увела их от чумы, которая в те месяцы свирепствовала в Бургосе. Кто-то заявил даже: рука Божья отвела их от гибели с помощью Хуаны.
Иногда на дневных стоянках она приказывала музыкантам играть звонкую танцевальную музыку, чтобы порадовать душу усопшего. Гроб приоткрывали, стараясь окружить его тенью, но любознательные мухи садились на саван, замаранный сохлой сукровицей.
Заход солнца служил сигналом к продолжению пути. У историков нет общего мнения о том, сколько времени тянулись эти бесконечные похороны. Кое-кто утверждает, что Хуана владела телом супруга и возила его по стране около трёх лет. Но по крайней мере не позже января 1507-го, на четвёртом месяце траура экспедиция доползла до селения Торквемада, где Хуана родила от мертвеца девочку – будущую королеву Португалии Екатерину Австрийскую.
Гроб открыли в очередной раз, поскольку мать пожелала познакомить отца с новорождённой. С того дня Хуана будет жадно вслушиваться в лепет своей малышки, пытаясь в нём уловить загробные сообщения от мужа.
Короткий период душевного затишья, включая месяцы, прожитые в Торквемаде, стал для неё последним огрызком свободы, которую она вскоре потеряет навсегда. К этому времени относится не очень отчётливое на первый взгляд, но поразительное по сути своей признание, сделанное Хуаной в исповедальном разговоре с архиепископом Молинарским.
Вот что она сказала: «Мы оба виноваты с моим несчастным Филиппом. Мы слишком сильно прикасались друг к другу. Люди не должны касаться друг друга так сильно».
Видимо, предчувствуя необозримо долгую, одинокую неволю, она в последний раз приказала открыть гроб и напоследок нашептала мужу всё, что считала нужным.
В 1509 году заботливый регент Фердинанд упрячет свою тридцатилетнюю дочь Хуану в крепость Тордесильяс, где она, формально сохраняя за собой корону, проведёт взаперти всю оставшуюся жизнь – сорок шесть лет. Потасканный и залюбленный прах Филиппа наконец захоронят в Гранаде.
Через семь лет, когда не стало Фердинанда, навестить узницу приехал её старший сын Карлос вместе с сестрой Элеонорой. Он чуть не наступил на хлеб и сыр, оставленные стражей на каменном полу, словно корм для собаки, посмотрел в горькие беспомощные глаза родившей его женщины и, с облегчением выйдя наружу, на свежий воздух, сказал: «Я думаю, лучше сделать так, чтобы никто не мог её увидеть».
Его, стало быть, волновало – кто что увидит, а вид у матери был удручающе непрезентабельный.
Между прочим замечу, что этот славный отпрыск, будущий Карл Пятый, герцог Бургундии, король единой Испании, Балеарских островов, Сардинии, Сицилии, Неаполя, Нидерландов и прямо даже повелитель Священной Римской Империи, в пятьдесят пять лет махнёт рукой на всю прорву власти, отречётся и, сидя в пыльном уголке, будет до самой смерти с удовольствием копаться в часовых механизмах.
Из всех времён, доступных языку, самое полное право на реальность имеет настоящее время. Не прошлое, как может почудиться, а сегодняшний день умеет служить хранилищем, досье, живой копилкой того, что случилось, а значит, уже никуда не уйдёт.
В сущности, ничто никуда не уходит. Вчерашние и позавчерашние события кричат, дымятся, плачут, истекают кровью сегодня – прямо сейчас. Дочь гостит у родителей, вдали от мужа, и тужит, не находя себе места: вдруг он меня разлюбил или встретил другую?.. Невозможно ведь, когда любишь, терпеть разлуку, невыносимо. Надо ехать! И мать говорит ей: терпи. Перед мужчиной нельзя выворачиваться наизнанку, они этого не прощают. Нужна выдержанность. И тут ещё война с французами, опасно ехать через французские земли. Не отпущу, даже не думай!.. Но какая здесь может быть выдержанность, какие французы? Коса налетает на камень, металл пишет свою металлическую волю по стеклу. Плохая дочь, полоумная инфанта лежит у запертых ворот крепости Медины-дель-Кампо – и не встанет, пока не отпустят. Люди смотрят на неё осуждающе.
Глава шестая ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Будучи опытным Одиссеем, совсем не вредно иногда превращаться в Плюшкина. Не в смысле дикой жадности, а в смысле пристрастия к мелкому бесценному хламу, добытому в странствиях, поднятому из-под ног. Одной из вершин плюшкинской карьеры стала счастливая находка увеличительного стекла размером с пуговицу от зимнего пальто. Прозрачное, как сияющая пухлая капля, помеченное крохотным радужным сколом на ребре, это сокровище было кем-то уронено в залитую дождём траву на задворках Дома культуры машиностроителей – будто нарочно для меня, и оно с готовностью пригрелось в ладони. Между тем завершалась эпоха ночных бдений в обнимку с тяжелогрузным романом «Отверженные»: оттуда, кажется, никто не выбрался живым, кроме девочки с некрасивым именем Козетта, вызывающей просто огнестрельную жалость. У бедной Козетты, насколько я смог запомнить, вообще ничего не было в жизни, кроме миниатюрной кукольной сабельки, которую она пеленала в тряпочку и баюкала вместо куклы. По правде сказать, Плюшкин и сам бы не отказался от такой сабли – не для пеленания, разумеется, а для затяжных тактических боёв с войсками злобных лилипутов и для вызволения своей прекрасной лилипутской дамы из неприятельского плена. В общем, обладательнице сабельки стоило позавидовать, хотя жалости она вызывала гораздо больше. Но дело не в этом. Ведь жалеть кого-то – значит, кроме всего прочего, иметь некое превосходство, чувствовать себя счастливее, сильней или богаче. А у Плюшкина, ровесника Козетты, как ни приглядывайся к нему задним числом, никаких превосходств не имелось, тем более имущественных. Единственной плюшкинской «сабелькой» на тот момент было увеличительное стекло. Зато с его помощью открывались буквально фантастические возможности.
Во-первых, устрашающе близко рассматриваешь и без того близкие предметы – не сходя с места, они становятся крупнее тебя. Во-вторых, собираешь беспризорные лучи в ослепительный пучок, в одну горячую точку, и фигурно прожигаешь скамейку или подоконник чем хочешь – хоть инициалом F (сразу видно: здесь был Фантомас), хоть исчерпывающим сообщением «Витя пидор». В-третьих, всем же известно, что наличие лупы – самое первое условие для того, чтобы стать знаменитым сыщиком. Поднимаешь с тротуара фантик или окурок, достаешь лупу, вглядываешься и холодно так, проницательно говоришь: «Вот оно что!», а с проницательностью у нас, в общем, всё в порядке. И, наконец, в-четвёртых, легко вообразить, что увеличительная сила сокровища в один счастливый день может понадобиться в целях любования уже спасённой из вражеского плена лилипуткой – её неописуемой, обязательно белоснежной и боязливой прелестью.
Правда, с прелестью и любованием были кое-какие неясности. Например, Витя однажды огорошил меня довольно неприличным вопросом на эту тему. Не тот Витя, который пидор из нашей школы (тот обзывал пидорами всех поголовно, включая учительниц, пока его самого не стали звать пидором), а мой приятель Витя с четвёртого этажа – учащийся школы № 3 для умственно отсталых детей. Из-за такого неудачного места учёбы с Витей никто в нашем дворе не хотел дружить. Потому что все, кроме лично меня, считали его дебилом. Ну да, у Вити, конечно, случались умственные проблемы. В частности, он никак не мог правильно повторить название страны Египет. У него, к сожалению, получалось «Епипи». Когда Вите сильно понравилась египетская марка с головой фараона из моего альбома, он несколько раз приходил ко мне и смиренно просил: «Покажи, пожалуйста, Епипи!» Так вот, именно от Вити я услышал опрокидывающий вопрос на тему любования. Мы раза два обсуждали с ним отношения мальчиков и девочек, причём с такой откровенностью, что даже употребляли кошмарное слово «сделаться». А этим словом у нас обозначалось то, что некоторые мужчины делают с некоторыми женщинами по ночам или даже днём, например, в Центральном парке культуры и отдыха. И вдумчивый Витя, мучаясь ещё больше, чем со страной Епипи, с тяжким трудом сформулировал вопрос, который вкратце сводился к следующему. Если бы у меня был выбор, одно из двух: долго-долго любоваться, трогая при этом где захочу, или же один раз быстро «сделаться» – что бы я тогда выбрал?
Вот какие сложные и глубокие вопросы волновали моего приятеля Витю из школы № 3. Надо признаться, у меня не было готового ответа. Выбор осложнялся тем, что никто из нас двоих никогда в жизни не совершал ни того ни другого. А печальнее всего то, что Витя никогда ничего и не совершит.
Он обычно приходил не вовремя. Мама купила мне костюм, состоящий из брюк и пиджака, по виду очень важный.