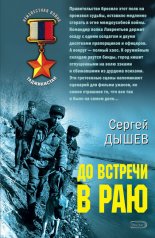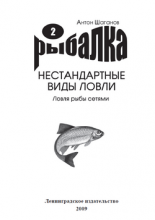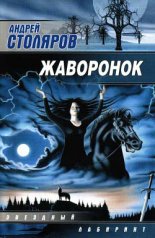Заговор ангелов Сахновский Игорь

И когда просителю вдруг ответили: «Да», отяготив согласие странным и жёстким условием не оглядываться на неё, не оглядываться ни под каким предлогом до перехода земной границы, он даже не посмел взглянуть, как она вышла, припадая на раненую ногу, в тесных своих погребальных пеленах, чтобы вслед за мужем отправиться назад.
Он второй раз пересёк лежащую на боку снулую реку, нашарил нетерпеливым шагом смутно белеющую тропу и стал взбираться по склону котловины. Было так тихо, что налетал страх: а идёт ли она за ним? А если отстала? Нетерпение сгущалось, накатывало, как рвота, и мешало дышать.
И вот тут настаёт черёд едва ли не самого потрясающего эпизода во всей человеческой истории, если иметь в виду не хронику побоищ и падения тронов, а историю отношений человека с человеком.
Эту горестную загадочную сцену будут сотни раз описывать и рисовать люди, разделённые десятками веков, каждый раз заново пытаясь понять, что же там всё-таки произошло, а фактически выясняя решающие подробности о самих себе. Проступок Орфея смертелен и неподсуден, притом что не имеет срока давности.
Ограничусь одним ошеломительным стихотворным свидетельством об окончательном прощании с Эвридикой, от которого мороз бежит по коже до сих пор:
- …Когда внезапно бог
- Остановил её движеньем резким
- И горько произнёс: «Он обернулся»,
- – Она спросила удивлённо: «Кто?»[35]
Это уж точно конец, условие нарушено. Теперь пусть нарушитель убирается восвояси. Вместо этого он идёт обратно – снова просить! На второй попытке его даже не удостоили переговоров. Общеизвестная версия: лодочник не пустил.
Шесть дней он сидит на берегу, измученный и грязный, всё ещё чего-то ждёт. На седьмой наконец уходит.
Остальная жизнь была скорее похожа на дожитие, избывание лишних лет. Тем немногим, кому он поведал о своём хождении в Аид, досталось таинственное признание: к своей любимой жене он прикасался как-то не так, и в этом исходная причина случившейся беды. Где-то мы уже слышали подобную фразу.
В конце концов, я замечаю, что два инфантильных вопроса, над которыми я ломал голову, будучи мальчиком, мерцают перед глазами всё той же нетронутостью и недоступностью, как серебряная фольга, закопанная под бутылочным осколком в детсадовском секретике, или пристальное созвездие в южном небе. Почему он оглянулся? И почему бог смерти поставил именно такое условие?
Но сейчас для меня, по крайней мере, самоочевидно, что не оглянуться он не мог. Не обернись к Эвридике – он бы Орфеем не был. Тот, кто придумал запретное условие, лучше всех знал природу человеческой страсти.
Что же касается божьих умыслов, то нам, видимо, пора договориться. С некоторых смутных времён боги отвечают только за чудо, больше ни за что. Вывести из себя, заставить их вмешаться могут разве что людские посягательства на сверхчеловеческую роль. Этого они уж точно не простят.
Глава двенадцатая ГЛАВНЫЙ ЗАЛ
Дороти заходит в магазин одежды, а я остаюсь на улице покурить. Для меня улица в любом случае предпочтительнее магазина, особенно если это улица города Винчестера.
Мы уже налюбовались местным кафедральным собором, заложенным в одиннадцатом веке и дотерпевшим до нашего приезда в завидной целости, почтительно потоптались у могилы Джейн Остин, а потом в Дороти проснулся покупательский инстинкт. Она предложила сдвинуться в магазинную сторону, но чуть погодя обязательно вернуться в какой-то легендарный зал, который она называла то Большим, то Главным.
На другой стороне улицы музыкант в клетчатом шарфе оглядывал свой саксофон так, будто готовился к первому поцелую. Он не подносил мундштук ко рту, а склонялся к инструменту, осторожно вытягивая губы в трубочку. Наконец он отважился исполнить первую фразу, которая звучала примерно так: «Неужели всё это возможно, неужели возмо-жно-о??..» И замолчал. Вероятно, ему надо было обдумать ответ. Проходящий мимо ирландский сеттер с податливой хозяйкой на поводке остановился послушать. Саксофонист не нашёл ответа и продолжил вопрошать: «А если это был не я? А-а?..» За точный пересказ мелодии не ручаюсь, но по смыслу очень близко. Сеттер задумался тоже.
Тут я не сдержался и вынул из наплечной сумки видеокамеру: довольно бесстыдный туристский жест, но я хотел помешать этой сцене закончиться и навсегда растаять в уличном тумане. Если уж начистоту, я не только фиксировал эту сияющую реальность, но и по возможности слегка отгораживался от неё, чтобы не обжечь глаза или не раствориться до конца.
При виде камеры саксофонист умолк и отвернулся, уводя в сторону свой поцелуйный инструмент. На его месте я, наверно, поступил бы так же.
Дороти вышла из магазина и сказала:
– Я купила тебе галстук.
– Спасибо. Но я не ношу галстуки, почти никогда.
– Да, я знаю, поэтому и купила. Ещё я тебе купила рубашку. Ив Сен-Лоран.
– А это в честь чего?
– У тебя же недавно был день рожденья. Зайдём в паб?
В пабе Дороти развернула галстук, чтобы я оценил его красоту. Галстук был широкий, с ладонь, и ярко-бирюзовый. По шёлковой морской глади взадвперёд ходили гондолы.
– Ну как?
– Чудесно. Это будет главная вещь в моём гардеробе.
– Что-то я хотела тебе очень важное сказать…
Принесли два холодных бокала – Дороти пиво, мне лагер.
– Мы ещё сегодня должны успеть в Большой зал, помнишь?
– Ты это хотела сказать?
– Нет. Честно говоря, не это.
Лицо у Дороти стало таким серьёзным, что я немедленно вспомнил об исключительной значимости системы образования.
Она помолчала. Можно было не сомневаться, что сейчас для затравки прозвучит какой-нибудь ультраправильный тезис.
– Я считаю, в отношениях двух людей самое важное – это доверие. Ты не будешь с этим спорить?
– Не буду.
– Вот смотри. Мой дом стоит примерно триста тысяч фунтов. Сейчас, может быть, уже триста двадцать.
– Так.
– На банковском счёте лежит столько же. Чуть больше трёхсот.
– Дороти, зачем ты мне это говоришь?
– Ну, чтобы ты знал.
– Для чего мне это знать?
– Если ты, допустим, переезжаешь в Англию, ты должен быть уверен в завтрашнем дне. Правильно? И если вдруг со мной случается что-нибудь ужасное, других наследников, кроме тебя, не будет. Наследником станет муж. А если, например…
– Подожди. Прости меня за тупость. Ты предлагаешь, чтобы мы с тобой по-настоящему поженились?
Вот тут она смутилась. Смутилась так, что все веснушки на лице смешались в один невыносимо румяный налив.
– Мы можем заранее договориться – по-настоящему или только официально, для проформы. Как захотим.
Я готов был убить себя за этот вопрос, но всё-таки я его задал:
– Дороти, зачем тебе это нужно?
– Допустим, я хочу, чтобы ты мог уехать из вашей гиблой страны.
– Сама ты гиблая.
– Извини. Есть и другие причины.
– Какие другие?
– Это гораздо труднее сказать, совсем личное.
– Совсем плохое? Тогда говори, чего уж там.
– Тогда скажу. Я по твоей вине первый раз в жизни кончила, причём дважды. В общем, обнаружила, что я женщина.
Даже не знаю, кому в такой ситуации проще: человеку с веснушками или без них.
– Ты уже допил? Пойдём в Главный зал.
На улице меня поразило, насколько свободно и охотно городок отворяется навстречу, соглашается стать моим; эту же изумительную приветливость, готовность впустить я ощущал едва ли не в каждом закоулке южноанглийской провинции. Кажется, первый раз я позволил себе плыть по течению: река сама знает, куда несёт. Но где-то чуть ниже диафрагмы, под ложечкой, у меня бултыхался корявый булыжник с неровными острыми краями, сгусток печали и страха, как будто мне предстояла операция по удалению жизненно важных органов, после которой, если выживу, я точно стану кем-то другим.
Каменный зал постройки тринадцатого века был тёмным, просторным и совершенно пустым, если не считать одного-единственного предмета, впрочем, достаточного, чтобы задеть воображение. На грубой, рустованной стене висела шестиметровая столешница – Круглый стол короля Артура, похожий на гулливерскую мишень для игры в дартс.
Задетое воображение тут же, в считаные минуты, поставило стол на середину зала и выпустило на сцену самых блестящих рыцарей, каких только можно вообразить. Они расселись вокруг стола по случаю внезапного прибытия Ланселота Озёрного.
«О! – промолвил Эктор Окраинный. – О! Сдаётся мне, этот рыцарь страшно могуч. Клянусь небом, сэр Ланселот Озёрный даже посильнее будет, чем сэр Кэй!»
Ему дерзко и по существу ответил Ламорак Уэльский.
«Ха, – молвил он. – Ха! Я самолично лицезрел, как сэр Ланселот Озёрный одним ударом копья свалил на землю сразу четверых!»
Тут нарушил молчание сэр Тристрам Лионский, суровый, но справедливый: «Я знаю трёх великих рыцарей в подлунном мире. Это Персиваль, Бламур Ганский и сэр Ланселот, величайший из них».
«А почему же, сэр, вы не назвали сэра Тристрама?» – спросил его Эктор Окраинный.
«Я не знаю сэра Тристрама», – сурово молвил сэр Тристрам.
Ну, и прочие подростковые понты для всех времён и народов.
В зале, как в огромной шкатулке, хранились прохлада и тишина. Мы сели на массивную деревянную скамью возле дальней стены, и я снова достал камеру. Это была старая аналоговая видеокамера, ещё без дисплея; чтобы снимать или посмотреть снятое, нужно было прислониться голым глазом к видоискателю. Я стал перематывать плёнку в режиме просмотра и вдруг заметил, что по ошибке захватил из дома не ту кассету – не чистую, а уже использованную, занятую моими домашними любительскими записями, в том числе кадрами с близкими людьми. Значит, получилось так, что я снимал поверхпрошлого, стирая предыдущую жизнь ради сегодняшней английской прогулки.
На фоне нарядного городка музыкант в клетчатом шарфе задал на саксофоне свой клинический вопрос: «А если это был не я? А-а?..», отвернулся влево, и сразу после него, буквально встык, без малейшего зазора, тяжело зашевелилась пасмурная, невзрачная зима за кухонным окном, побежала коротконогая дворняга, утопая по самое брюхо в уличной грязи, рыжий подслеповатый абажур качнулся над семейным застольем. Там была Марина, были Алина с Юлькой, была Елена; сидели, как новобрачные, рядышком Николай Иванович и Валентина Павловна, ещё смеющиеся и живые. Были Валера и Женя, Алек и Сергей. Была девочка Кося, танцующая ночью на людной площади одна.
Очевидно, я просто забылся, пока подглядывал в камеру, и спустя минут пять застиг себя с идиотской счастливой улыбкой. Моя спутница что-то поняла, встала и вышла, ни слова не говоря.
Я досмотрел до того момента, когда в рассеянном фокусе застряли цветочки со старых советских обоев; потом наконец оторвался от видоискателя, в последний раз оглядел пустой зал и тоже пошёл во двор.
Уже выходя, я зачем-то включил запись, почти машинально, и теперь благодаря этой бесцельной съёмке немыслимо долго, пока не обессилит, не размагнитится плёнка, по мокрому сияющему газону будет расхаживать, утробно бормоча, перламутровый голубь, а возле каменной стены будет стоять Дороти – лицом к стене, как наказанная, с непривычно сгорбленной спиной.
Хотя на самом деле говорить о наказании было бы уместнее в отношении меня. Но именно в тот день я испытал колоссальное облегчение, как будто приговорённый к удалению органов подслушал тайну некоего консилиума и случайно выяснил, что операция отменяется: она не нужна.
Следующим вечером я улетал в Москву. По дороге в Хитроу мы не произнесли ни слова, но я мысленно благодарил Дороти за молчание. Достаточно было краем уха слышать радио и вдыхать ветер, залетающий в окна машины.
В аэропорту, несмотря на близкую полночь, длился белый электрический день, трезвый и суетливый. Времени оставалось мало, надо было становиться в хвост очереди на регистрацию. Когда я в прошлый раз улетал из Лондона, всё было точно так же, но что-то необратимо изменилось.
– Можно я не буду ждать? – сказала Дороти. – Честно говоря, мне надо в туалет, извини.
Она погладила меня по руке, поцеловала в щёку и ушла не оглядываясь. Я даже не успел проводить её взглядом, потому что в сумке заголосил телефон.
Звонил Арсений из Москвы. По его тону я сразу понял: он звонит не просто так.
– Ты когда прилетаешь?
– Завтра утром. Что-то случилось?
– Да. В общем, не пугайся. Та женщина, которая на портрете. Если помнишь… Она появилась.
– Ты уверен, что это она?
– Абсолютно. Я тебе больше скажу. Она сейчас у меня дома. Приезжай.
Глава тринадцатая ЧИСТАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
В четырнадцатилетнем возрасте Дина узнала то, что ей вообще не полагалось знать. Она вернулась домой из школы раньше обычного и подслушала, как мать откровенничает с подругой-соседкой.
Дина разобрала не каждое слово, но успела уяснить главную сокрушительную новость. Её мама Вера Борисовна никогда не была ей настоящей матерью, а была неродной тётенькой, которая три раза выходила замуж, из-за женских болезней детей не родила, поэтому отыскала в каком-то приюте и забрала «вот эту красавицу» в мокрых пелёнках, подкинутую неизвестно кем. Красавица выросла умной и здоровенькой, но сразу видно – из чужой породы: неулыбчивая тихоня, бука, нежного слова не дождёшься… Дина подошла к зеркалу, чтобы потрогать свои щёки и глаза. За услышанной новостью вырастала непроходимая туманность, всё стало неправдой и тайной – все прошлые мамины слова, вот эта кровь на порезанном пальце, даже само имя Дины. И теперь уже никто не ответит, кто она такая и откуда взялась.
Однако, взрослея, Дина со временем привыкла к своей чужеродности и, в общем, не страдала от неё; наоборот, как-то совпала с ощущением собственной неопознанности, вплоть до тихого сочувствия тем круглым летающим объектам, которые летают сами по себе, а каждый вправе думать о них всё, что ему взбредёт на ум.
Из тогда ещё советского Крыма, где они жили, незадолго до московского путча Дина уехала на поезде в столицу, легко поступила на экономический факультет, а потом так же легко его бросила на третьем или четвёртом году обучения.
На своих общежитских подруг и сокурсниц Дина поначалу производила впечатление провинциальной дурочки, не знакомой ни с модой, ни со специальными дамскими хитростями, которые, по их мнению, и придают женщине так называемую изюминку. Наиболее искушённые говорили Дине: «Эх, я бы с твоим ростом и фигурой…» Она выслушивала их поучения со страшно серьёзным лицом, но явно не собиралась ничего менять. Носила поочерёдно два старомодных платья с фонариками и заплетала волосы в негустые косы, которые закалывала сзади, скручивая девчачьей короной или крендельком; на голой длинной шее аккуратная головка школьницы откуда-то из пятидесятых, да ещё высокие скулы и лёгкая восточная косина – получался такой резко подросший утёнок с монголоидными задатками.
Праздники и студенческие вечеринки проходили мимо её внимания, близкая дружба ни с кем не случилась. Любопытствующих сильно впечатлил тот факт, что возле простушки Дины, словно из воздуха, нарисовались одновременно два кавалера: крупный государственный начальник на лимузине с личным шофёром и похожий на д’Артаньяна богемный художник-авангардист.
От начальника доставляли экзотические букеты неохватной величины, из-за которых в общежитской комнатушке было нечем дышать, а сам он являлся ближе к закату, предупредительно открывал дверь автомобиля и увозил в загородные заведения, доступные лишь избранным. Поговаривали, что он хочет купить для Дины квартиру.
Д’Артаньян водил её по тусовкам, хвастаясь Диной как свежим пикантным приобретением, знакомил с андеграундными знаменитостями: Атосом, Портосом и, понятное дело, Арамисом, но чаще норовил напоить чем-то высокоградусным и пахучим.
Потом прошёл слух, что государственный начальник безжалостно брошен. Кое-кому довелось наблюдать, как тёплым осенним вечером Дина вышла к влюблённому боссу в домашних тапочках без задников; он со своей обычной адъютантской почтительностью отворил перед ней дверцу, но был удостоен двух-трёх негромких окончательных слов, после которых, будто ушибленный, залез назад в лимузин, чтобы уехать навсегда. Правда, выруливая, успел выглянуть из окна и крикнуть напоследок что-то грубое, но тут, рассказывали, ему прямо в боковое стекло прилетел тапок.
А Дина в тот же вечер была увезена д’Артаньяном вращаться в творческих сферах, где её представили поэту Пригову. Поэт почему-то вообразил, что видит перед собой воспитанницу балетной школы, и, не слушая возражений, пообещал прийти на спектакль.
Могло показаться, что Дина сделала принципиальный выбор между чиновником и свободной творческой личностью, если бы всего через неделю художник не был покинут с такой же лёгкостью, как и его конкурент. Причина крылась даже не в её одинаковом безразличии к обоим, а в том, что Дина вообще не очень-то понимала, зачем нужно вступать в любовные отношения с мужчинами и почему для большинства девушек эти отношения важнее всего.
Хозяйка салона красоты, в котором Дина внештатно подрабатывала уборщицей, прониклась к ней сочувственной симпатией, позвала выпить кофе и поделиться секретами клиенток. Её восхищало то, что самые правильные дамы годами и десятилетиями остаются сексуально завлекательными для своих мужей, и не только мужей. «Но для этого надо регулярно делать усилия над собой, – предупредила хозяйка. – А уж о деньгах я не говорю!» – «Бедные, очень бедные», – сказала уборщица Дина.
Она так и оставалась неким неопознанным объектом для тех, кто её знал или думал, что знает. На лекциях появлялась нечасто, иногда пропадала из общежития на три-четыре дня. Однажды после очередного исчезновения сообщила соседкам по комнате, что была в Голландии, в Роттердаме. Те накинулись с расспросами: как и что? Она ответила: «Замёрзла», легла под одеяло и отвернулась к стене. Позже в тумбочке нашёлся маленький любительский снимок на фоне европейского морского порта. Горизонт, пирс, даже чайки вышли резко, а сама Дина – бликующим, размытым пятном.
Кто-то якобы видел её моющей полы на Рижском вокзале, возле билетных касс. Кто-то – по телевизору, в прямой трансляции правительственного концерта, когда камера выхватывала лица из зрительного зала.
Отказавшись от учёбы, она ещё некоторое время числилась студенткой, потом на птичьих правах ночевала в общежитии, пока не пришёл комендант, чтобы официально освободить казённую кровать. Это было в мае, а в конце августа, выгоревшая и почерневшая так, будто всё лето провела на улице, Дина пришла к той же хозяйке салона и сказала, что ищет место домработницы. Парикмахерша полистала свой «молескин», кому-то позвонила, долго пожимала плечиками и вдруг вспомнила, что среди её знакомых есть один «зачудительный мужчинка», внук лауреата Сталинской премии, эстет и богач. Ему вроде бы нужна была надёжная чистоплотная женщина для домашней уборки. «Но замуж за него даже не надейся! Он не голубой, а так… Одиночка со странностями. Подпольщик, типа. Ну что, готова?» – «Замуж не надеюсь», – отозвалась Дина, глядя в окно.
Когда она вошла в ресторанный зал и отыскала дальний стол, скрытый за колонной, внук лауреата Сталинской премии разговаривал по телефону: «Почему, сука, так дорого? Я им кто, дойная корова? Не забудь привезти кокс».
Этот породистый персонаж лет сорока восьми, с длинными волосами и докрасна воспалённым взглядом, был похож на дореволюционного трагика на излёте карьеры, успевшего, однако, сыграть дона Карлоса и Гамлета. Дина в нерешительности остановилась возле стола.
Трагик выключил телефон и сразу же включил неизбывную галантность.
– Вам кого, милая барышня?
При слове «домработница» у него подозрительно вытянулось лицо:
– А мне сдаётся, сударыня, что вы из этих… Как они? Из фотомоделей. Или, может, с телевидения?
– Нет, – сказала Дина. – Значит, я вам не подхожу.
И повернулась, чтобы уйти. Тут он встрепенулся, усадил её за стол, налил рислинг и придвинул рыбное блюдо, не переставая при этом напряжённо и жадно разглядывать. Дина взяла полупрозрачный ломтик сёмги, подержала во рту, посасывая, как леденец, потом осторожно сглотнула и попросила заказать чай.
Соискательница не делала ни единой попытки предстать в выгодном свете. На вопрос, не хочет ли она выступить в роли экономки, ответила, что не умеет экономить. Может ли готовить завтраки и ужины? Может, но не любит. Он специально предложил ей неприлично маленькие деньги – она кивнула. Как бы исправляя оговорку, назвал гораздо большую сумму и получил столь же безразличный кивок.
Чай она отпивала с тихим, но внятным хлюпаньем.
Он спросил, откуда она родом и кто её родители. Она ответила:
– Не знаю.
Чем больше он смотрел на неё, тем больше ему хотелось смотреть.
Спустя час они сидели у него дома на Кутузовском проспекте, точнее, в одной из его квартир, огромной, донельзя пыльной, напоминающей одновременно музей, закрытый для посещений, ставку орденоносного наркома и будуар давно угасшей кинозвезды. Там одной громкой порывистой фразой можно было расшевелить паутинное облако, притороченное к пасмурной потолочной лепнине, но таких фраз ни один жилец уже много лет не произносил. И эти двое, сидящие в сумерках в глубоких вольтеровских креслах на расстоянии двух вытянутых рук, общались вполголоса, как заговорщики, хотя были едва знакомы.
– Понимаешь, – говорил он, – с некоторых пор я от жизни совсем ничего не жду. Зато я теперь умею наслаждаться чистой длительностью. Вот она у меня есть, чистая длительность. Больше ничего. Понимаешь?
– Да, чистая, – эхом отзывалась Дина. – Больше ничего.
Ему два раза позвонили на мобильный. Первый раз он ответил: «Минимум тридцать. Это восемнадцатый век». Второй раз: «Пошёл на хер».
– Люди постоянно хотят заиметь разный хлам. Все свои жалкие годы тратят, чтобы заработать и купить, снова заработать и купить. И при этом каждый сам назначает себе цену – ровно по цене той вещи, которая ему нужнее всего. Столько он и стоит. А тебе вот ничего не нужно. Ты такая же, как я. Только лучше.
– Пожалуйста, не надо мне больше наливать.
– Я когда на тебя гляжу, у меня просто крышу сносит. Откуда в тебе столько секса? Ты даже не кокетничаешь. И как ты сама с этим справляешься?
– Мне уже пора уборку начинать. Скоро поздно будет.
– Какая уборка, ты что? В другой день. Если поздно, ложись спать, где тебе удобно. Я беспокоить не буду.
Назавтра она проснулась на кожаном монументальном диване с дубовой спинкой, накрытая махровым мужским халатом. Внук лауреата Сталинской премии сидел в кресле напротив и смотрел на неё. Когда она открыла глаза, он сказал: «Привет» и вышел из комнаты, чтобы дать ей одеться и привести себя в порядок.
Она ещё умывалась, когда он заглянул в ванную и спросил:
– Ты когда-нибудь позировала без одежды?
– Да, один раз.
– Понравилось? Вот полотенце.
– Нет, не понравилось. Он не умел рисовать.
Согревая пальцы о кофейную чашку, она услышала от него странноватое непристойное предложение, которое он, на всякий случай, сопроводил по возможности трезвым обоснованием.
Он предлагал ей альянс. По его мнению, самый разумный вариант для людей, не привыкших полагаться на взаимные чувства («хлипкая почва», как он сказал), но готовых вступать в договорные отношения.
Условия альянса выглядели так: она живёт вместе с ним столько, сколько захочет. Без интимных, финансовых и бытовых обязательств. Работать или нет – её личное дело. Деньги у неё будут в любом случае. Он не претендует на секс. Его мало интересуют «ванильные», как он выразился, утехи. Но он оставляет за собой право видеть её обнажённой, когда она переодевается, принимает ванну или просто спит.
Поскольку Дина молчала, он неожиданно добавил, что подозревает в ней одну-единственную глубокую страсть: показывать себя мужчине, обольщая без усилий и без цели, видеть, как человек сходит с ума из-за неё. Другие страсти ей, скорей всего, чужды.
Дина допила кофе, вымыла за собой чашку и ответила:
– Мне надо подумать.
В утреннем дворе стыла субботняя тишина. Августовские листья ещё не падали, но успели пропылиться и помертветь.
Можно было остаться избывать время в этом дворе, среди надёжных каменных домов, в прозрачном одиночестве, не предназначенном для чужих глаз. А можно было выйти на простреленный ветром проспект и стать незнакомкой среди незнакомцев, устремлённых к своим, на первый взгляд загадочным, а в сущности почти одинаковым целям: ни одна из них не была целью Дины, но в конечном счёте тоже сводилась к заботе о времени, которое надо избыть.
В тот день она доехала на метро до Рижского вокзала, забрала из подсобки в резерве проводников свою нетяжёлую сумку с бедными, беспризорными вещами и вернулась на Кутузовский проспект.
– Подумала? – спросил внук Сталинского лауреата.
– Подумала.
– И что скажешь?
– Я согласна. Но если вы меня хоть раз тронете, я уйду.
Он задал прямой вопрос: почему она согласилась? И получил не менее прямой ответ:
– Мне лучше быть одной. Но у меня для этого мало сил.
За первую неделю жизни на новом месте Дина постепенно отчистила квартиру, отмыла кухонную плиту и поселила на подоконнике многолетнее растение родом из засушливых мест, умеющее хранить влагу в сочных листьях, похожих на маленькую гирлянду.
Хозяин квартиры то где-то пропадал целыми сутками, то неотлучно сидел дома: листал каталоги, слушал своего излюбленного Скарлатти, выкладывал на стеклянном столе белые пудровые дорожки и откровенно любовался молчаливой Диной. Неравнодушие к её щуплой наготе, как и следовало ожидать, было сильнее требований деликатности: он заставлял гостью вздрагивать и сжиматься всем телом, когда без стука входил в ванную и садился рядом с Офелией, готовой утонуть в эмалированном жарком пруду. Немного позже она привыкла и почти перестала обращать внимание на его напряжённую пристальность, даже украдкой вернулась к девочковым купальным привычкам: запускать подручного утёнка или мыльницу-лодочку в плаванье над гладью живота, а ещё вытягиваться голой струной, спрямляя ступни так, будто лёжа встаёшь на цыпочки; овал огромной ванны это позволял.
Лучше бы внук Сталинского лауреата просто сидел и смотрел без лишних слов. Нет, он ещё произносил всяческие слова, и некоторые из них были бесстыднее любых телодвижений. Он говорил, что при её детскости и худобе в ней пугающе много животного, слишком выпирает самка, это присуще какой-то особенной породе женщин. Говорил, что её безвестную генеалогию следует поискать где-нибудь в племенах чёрной Африки, у некоторых тамошних красоток такие же «козьи» сосцы и такая же первобытная губастость между бёдрами.
Ей не нравилось это слушать, она и не вслушивалась; лежала на спине, опустив глаза, и перебирала мысли, не допущенные к словам. Могут же, например, ноги иметь собственное «выражение лица»? Дина смотрела на свои ступни, и ей казалось, что у них терпеливое и доброе выражение.
Жили они очень закрыто. Немногочисленных визитёров хозяин обычно не впускал дальше прихожей. Раза два, делая уборку, Дина находила какие-то крупные деньги, будто специально оставленные на видном месте, и она чуть сдвигала их, чтобы вытереть пыль.
Когда ей хотелось побыть совсем отдельно, ехала на вокзал и садилась на пригородную электричку, выбирая наугад то Казанское, то Савёловское направление. Сходила на первой приглянувшейся станции и гуляла по округе, вблизи дачных домов и садовых участков, иногда приближаясь к невысоким окнам, в которых ей чудилось не просто что-то любопытное, а имеющее косвенное отношение к ней самой. Собаки её не облаивали, воспринимали дружелюбно, а люди – скорее с недоумением. Людей хотелось незаметно погладить, а собак поцеловать.
Внук Сталинского лауреата не вызывал у неё таких желаний. Но время, проведённое рядом с ним, было уютным и безопасным, можно сказать, летаргическим – настолько тихо дышало, не отвлекая внимания на себя. Если бы Дину спросили, как долго она уже гостит в квартире на Кутузовском, она бы даже не сумела быстро ответить. Три или четыре года? Ей проще было припомнить, сколько раз во дворе ложился первый снег.
Днём Дина никогда не спала, но как-то раз в пасмурный январский полдень легла всего на час, и ей почему-то приснились конные состязания, хотя наяву она их не видела ни разу. На зелёном широченном поле всадники выстроились в один ровный ряд, раздался пистолетный выстрел – и лошади с радостью понеслись. Среди всадников выделялся второй слева, с коротко стриженой седоватой головой. Он не слишком молодцевато смотрелся в седле, но взял с места стремительнее всех и вёл гонку очень серьёзно, будто вышел на свою последнюю, решающую дистанцию. При таком самоотверженном рывке проиграть было бы нельзя – неправильно, несправедливо. Но в одну секунду что-то случилось, словно воздух загородили невидимым тросом: лошадь жёстко споткнулась и рухнула набок, выворачивая мокрую шею в сторону всадника, лежащего на траве ничком. Его обступили желающие помочь или просто разглядеть несчастье. Дина тоже вскочила, а сдвинуться с места не смогла, сон этого не позволял. И когда упавшего проносили мимо зрительских рядов на носилках, она увидела его очень близко: тонкий, чуть искривлённый нос, блестящие тёмные глаза. Он был в сознании, растерянно озирался и коснулся её взглядом. Вот и весь сон.
В начале ноября внук Сталинского лауреата вдруг решил уехать – с неотложной, пожарной срочностью. Предупредил, что надолго, а куда – не стал говорить: для неё безопаснее меньше знать. Потом, забывшись, проговорился, что получает американскую визу. Выложил на стол дубликаты ключей от квартиры, три пачки долларов в банковских упаковках и квитанции оплаты коммунальных услуг. Инструкцию дал простую: дверь никому не открывать. Никому, даже если скажут: «Милиция». Посоветовал осторожничать, беречь себя. Уже перед самым отъездом, в последний момент, спохватился, вынул из-под зеркала в прихожей маленькое старое кольцо с александритом и подарил со словами: «Если не вернусь, то на память».
И она осталась одна в огромной квартире, наедине со своим неприхотливым многолетним растением родом из засушливых мест.
Хозяин не возвращался так долго, что Дина перестала его ждать. Ему раза три звонили на домашний телефон – она брала трубку и молча слушала, что скажут. Один из звонивших сказал: «Слышь, патлатый! Ты от кого прятаться вздумал? Совсем страх потерял? Плати за крышу и не выёживайся, пока я добрый. А будешь гаситься, и тебя приделаем, и сиповку твою за долги продадим». Дина положила трубку и больше её не брала.
Она успела почти забыть о том, что в природе существуют внуки Сталинских лауреатов, когда обнаружила в почтовом ящике открытку с надписью «Happy New Millennium!» Уехавший поздравлял её с «круглым» Новым годом и в приписке просил, чтобы Дина купила себе красивое длинное платье: ему будет приятно, если она встретит его такая нарядная.
Но ни в новом году, ни в следующем он не приехал. Однако после получения открытки Дина стала заходить в магазины с женской одеждой, и в простецкие, и самые дорогие, присматривая длинное платье. Продавщицы относились к ней подозрительно, потому что с ходу оценивали по одёжке и видели перед собой, в лучшем случае, опрятную нищенку. Замирая в тесных примерочных перед зеркалом, Дина впервые пыталась оглядывать себя мужскими глазами – роль этого условного мужчины всякий раз доставалась несчастливому, упавшему всаднику из её сна. Наконец она выбрала что-то совсем эфемерное из французского кружева: узорный воздух до щиколоток, иней, готовый растаять.
Купив платье, будто исполнив долг, можно было с чистым сердцем и дальше предаваться бессюжетной жизни, которая захватывала Дину сильнее самых авантюрных сюжетов. Впрочем, бессобытийная тишина, пусть даже просвеченная, как ультрафиолетом, чистой длительностью, неминуемо гибнет под натиском событий, толкаемых собственной сермяжной логикой.
Внук Сталинского лауреата вернулся внезапно глубокой ночью, с воровской осторожностью обследовал тёмную квартиру, а когда убедился в отсутствии чужих, вошёл в дальнюю комнату, где спала Дина, и зажёг ночник.
Она открыла глаза.
– Вставай, – сказал он. – Тебе надо встать и одеться. Прямо сейчас.
– В новое платье? – спросила Дина.
– Нет, в другой раз. – Он порылся в платяном шкафу, среди усталого тряпья, вынул мужской лыжный костюм, вязаную шапочку, изжёванный стариковский шарф. – Сейчас лучше вот это.
Невозмутимый, как сфинкс, водитель ждал её во дворе за рулём джипа. За час он довёз Дину до какого-то угрюмого посёлка, высадил у ворот старой запущенной дачи, похожей на промтоварный склад, и показал, где спрятан ключ. Согласно инструкции, полученной от лауреатского внука, ей предстояло сидеть на этой даче неотлучно, тише травы, пока он сам сюда не приедет.
Дина расчистила уголок для сна, но уснуть не смогла. На перекошенных стеллажах в гостиной полными собраниями хирели Бальзак, Стендаль и какойто Марков. На кухне обнаружились гречневая крупа, консервы, лапша «Доширак», пластиковые бутыли с водой. С утра за окнами зарядил такой прекрасный дождь, что она с трудом удержала себя от прогулки по сельским окрестностям.
Её смиренного ожиданья хватило на пять суток. Хозяин всё не приезжал. В шестую ночь Дина подумала, что растение, оставленное в городе на подоконнике, не выживет без поливки, ему сухо и голодно. Поэтому она дотерпела до первых рассветных сумерек, заперла дачу, вышла, недолго поплутав, к железнодорожной станции и поехала назад в город.
Во дворе на Кутузовском не было никаких признаков угрозы, но, входя в подъезд, Дина чувствовала обречённость и страх. Квартирная дверь оказалась не заперта. В прихожей пахло мочой и окурками. Внук Сталинского лауреата лежал на дубово-кожаном диване, запрокинув лицо, с чёрной запёкшейся дырой вместо кадыка.
Она ушла в ванную комнату, разделась догола, встала под душ и заплакала.
Потом, не вытираясь, отыскала в спальне и надела на мокрое тело новое кружевное платье, а поверх него натянула своё короткое полудетское пальто. Прежде чем уйти, напоила растение водой из-под крана и поставила вместе с горшочком в пластиковую сумку, чтобы унести с собой. Если бы хозяин не был мёртв, он бы расслышал, как Дина сказала ему шёпотом: «Прощайте».
Очень быстро, почти бегом она прошла два квартала, запах угрозы усиливался ощущением какой-то невыносимой срочности: когда «спастись» означает «успеть», но никто не подскажет – куда.
На растерянный взмах руки остановился пожилой таксист. Дина села на заднее сиденье, нащупывая деньги в кармане пальто. «Куда едем?» – «Мне просто надо уехать отсюда». Шофёр кивнул и примолк. Его затылок выглядел как символ мужской надёжности.
Возможно, это был безошибочный выбор – вообще не делать выбора, довериться предпочтениям первого встречного, случайным колёсам, фатальности как таковой. В сущности, не имеет значения, та или другая сила вынесла их такси на Бульварное кольцо и в темпе неторопливой автомобильной прогулки повела по Чистопрудному бульвару, где чудная пассажирка, до сих пор глядевшая безучастно в окно, неожиданно вскрикнула: «Стойте! Я здесь выйду!..»
Она не верила сама себе. Хотя знала точно, что не могла ошибиться: это лицо, мелькнувшее среди прохожих, в уличном конвейере, эту коротко стриженую лёгкую седину она бы выхватила взглядом из любой толпы за одну секунду.
Теперь она шла по бульвару позади своего пешего всадника, стараясь двигаться как можно медленней. Несмотря на это, дистанция между ними всё сокращалась, будто утекала в воронку её взгляда; либо идущий впереди сам начал замедлять шаги, спиной почуяв натяжение и набираясь решимости, чтобы оглянуться. Кажется, продлись эта неподвижная погоня ещё полминуты – они столкнутся головами.
Но они остановились одновременно.
Арсений обернулся и страшно побледнел. Он понимал, что рано или поздно это случится, но всё ещё не был готов. Перед ним стояла женщина, чьё лицо он с детства помнил наизусть и каждый день видел на фамильном портрете, та, что являлась к его отцу незадолго до смерти.
Потом он признается, что ни разу в жизни его не настигал такой ужас, как в тот момент.
Смотрела она прямо на него и не собиралась уходить.
Глава четырнадцатая БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Самое примечательное в этом бегстве то, что мир, куда она устремилась, был ещё совершенно безлюдным. Но она и вправду ни в ком не нуждалась! Разъярённые ангелы кинулись в погоню и гдето у Красного моря беглянку догнали. Догнали, чтобы уже отпустить навсегда – на все четыре беспризорные стороны. Но сначала они вырвали из неё клятву: никогда, никогда, даже во сне и в бреду, с её языка не сорвутся звуки трёх сокровенных имён (мы-то знаем теперь, что это за имена).
Я не верил в происходящее. Не верил, что такая встреча в принципе возможна, и поначалу не собирался о ней писать: мистика не мой жанр. Живое обстоятельство проникает на страницу текста, лишь продравшись через мнимость и безбожную тиранию авторского вкуса. Вымысел уступает хронике в степенях блестящей банальности. Исходный факт перешибает выдумку – он прямее, примитивней и в то же время фантастичнее.
Неверие отпало в один момент, когда, вернувшись в Москву, я прямо из аэропорта Домодедово, как обещал, приехал к Арсению домой на Чистые пруды и увидел своими глазами гостью по имени Дина. Она сидела в чём-то вроде длиннющей кружевной ночнушки, подобрав под себя худые смуглые ступни и не придавая ни малейшего значения тому, что слева от неё, в простенке, в антикварной раме светилось ещё одноженское лицо.
Я поздоровался, она сдержанно-застенчиво кивнула.
Если бы я сказал, что она похожа на женщину, изображённую на старинном холсте, это была бы неправда. Только слепой мог не заметить: там висел еёпортрет. Та же «египетская» косина в заострённых кончиках век, длинноватый, чувственно вздёрнутый нос, те же впалые щёки под высокими скулами и крупные тёмные губы. Наконец – будто для полноты потрясения! – точно такая же, как на портрете, родинка между глазом и левым виском.
Не помню, когда я видел своего друга настолько счастливым и спокойным. Его пёс-холостяк тоже улыбался и не отходил от Дины ни на шаг. Арсений пожаловался, что Тим отныне приносит хозяйские тапочки ей, а не ему.
О том, что Дина – приёмная дочь Веры Борисовны, у которой мы когда-то вместе гостили, Арсений узнает довольно скоро. Но вся цепь разительных совпадений затмевалась полнейшей родовой анонимностью: Дина ничего не ведала о своём происхождении, и сам этот пробел потрясал его больше всего. Он даже спросил её в шутку: «А может, понастоящему тебя зовут Мария?» – «Может быть, если тебе так хочется».
Ему удалось договориться с одним приветливым семейством, которое готово было оставить у себя собаку на время его отпуска. В отпуск он собирался ехать, разумеется, с Диной вдвоём.
То, что там произошло, мне станет известно позднее – со слов Арсения. Задним числом ему казалось, что жуткий необъяснимый исход поездки был предопределён, в частности, выбором страны. Я не придавал географии особого рокового смысла, но допускал, что в поведении Дины действительно сквозила некая заданность.
Куда поехать, они решали несколько дней. Поначалу речь шла о его любимой провинциальной Португалии. Дина соглашалась легко, но как-то безлично – лишь постольку, поскольку нравится ему. Римские и флорентийские улицы, Венеция? Греческие острова? Марокко? Хорошо, пусть так, почему бы и нет. Он надеялся расслышать в её ответах если не радость, то хотя бы личную надобу, призвук сердечного интереса. Потому и допытывался: а ей-то что хотелось бы видеть? Она обещала подумать и вечером того же дня вдруг заговорила об Аравийской пустыне: это возможно? Трудно добраться туда? Он переспросил: «Ты не путаешь? На самом деле хочешь?» – «Да, очень». Ну, значит, Египет, решено.
В самолёте она уснула сразу после набора высоты и дышала ему в занемевшее от нежности плечо, как младенец, до той минуты, пока при посадочном крене окно не закрасил унылый североафриканский ландшафт.
По словам Арсения, она прямо на глазах расцвела и порозовела, когда, сойдя с трапа, вдохнула жаркий сладковатый ветер, налетевший поверх керосинного перегара.
В аэропорту она успела его напугать. В то время как он оплачивал въездные визы, Дина исчезла из зала прилёта, и Арсений с ног сбился, пока не догадался выглянуть наружу, в сторону лётного поля – она просто вышла подышать, постоять с блаженным лицом под бешеным арабским солнцем. Туда запрещено было выходить, но двое полицейских в грязноватых белых мундирах с жадностью глазели на неё со стороны, явно не решаясь прогнать.
Двор отеля устилали сиренево-красные лепестки – они падали с нарядно вьющихся, но усталых кустов. Было заметно, что и цветы, и тёмная зелень газонов, и сам этот двор тяжким трудом отвоёваны у пустыни, которая господствовала надо всем. За живой изгородью золотилась полоса пляжа и сверкал солёный ультрамарин.
В первый же день он купил у гидов, опекавших не загорелых пока новичков, экскурсию в Каир и к пирамидам Гизы. Большой, как дом, кондиционированный автобус отправлялся ночью, поспевая к проверке на полицейском кордоне, где им предстояло вписаться в караван таких же домов на колёсах, микроавтобусов, легковушек, чтобы затем под конвоем автоматчиков в джипах совершить семичасовой бросок по Аравийской пустыне – по сути, сквозь мёртвую зону.
В неровной темноте за стеклом, в мерном гудении скорости проносились дорожные знаки, встречные фары, бедняцкие тележки, запряжённые ослами, а когда египетская тьма брала своё, караван превращался в одинокую цепочку светляков, тихо ползущих между чернотой и чернотой.
Изредка на коротких остановках неспящие, самые бодрые выпрыгивали из автобуса в густую, медленно стынущую теплынь и дымили сигаретами в неестественно ярких лучах фар. Дина каждый раз выходила быстрее, чем он, и сразу нарушала границу ночи и света: её тянуло куда-то за обочину шоссе.
Он находил её благодаря платью, которое мерцало в темноте белым узким пятном.
Последний привал в пустыне устроили перед рассветом. Безвидная серая плоскость угрюмо возлежала в собственной тени, готовая к очередному приступу дневного жара. Справа из-за горизонта уже выпирала громадная раскалённая макушка.
И вот на этой десятиминутной стоянке, сжав ему ладонь обеими руками, с необъяснимой горячностью Дина вдруг попросила:
– Давай не пойдём назад в автобус!
– А куда пойдём?
Она качнула головой в сторону блёклой безводной пустоши.
– Туда. Мы ведь уже приехали.