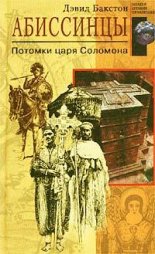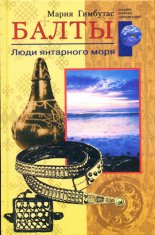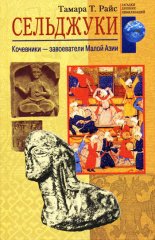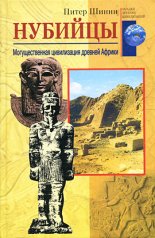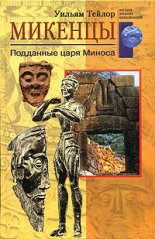Скажи изюм Аксенов Василий

К двадцать девятому году жизни она уже как бы и смирилась со своей фригидностью – что, мол, поделаешь, не всем, мол, дано, вот и буду с мамой и тетей Маришей куковать, обе ведь ненавидят мужиков и ничего себе, живут. Вот тут-то и появился «левак».
К тому времени Максим Петрович благополучно завершил свое пятое или шестое супружество с гражданкой Франции На-дин Шереметьефф. Международная хиппица Надин стала его «хорошим другом, настоящим парнем». Детей надежно воспитывала бывшая теща. «Студенточка», как Огородников всегда называл Настю, появилась в самый подходящий момент. Он взял Шлиссельбург неудержимой атакой и, взяв, закрепился. Пресловутая фригидность в первую же ночь улетучилась под эротическим и алкогольно-романтическим напором сексуального революционера Семидесятых годов. Пошли жениться, говорил он ей каждое утро. Она его обожала, но замуж не шла, жалела маму и тетю Маришу. «Лошади» Макса ненавидели: где это видано, чтобы у человека дети были в Париже?
Все-таки как-то с похмелья они расписались, а потом, спустя полгода или больше, даже обвенчались в Новгородской области в приходе отца Глеба, с которым Максиму случилось познакомиться на одном диссидентском «кухонном сидении».
Анастасия, однако, брак свой почему-то всерьез не принимала, даже хохотала при слове «муж». Маме и тете Марише ничего об этом не было объявлено, и даже встречи супругов по-прежнему обставлялись Анастасией с некоторой таинственностью, что иногда нравилось Максиму, как бы добавляло огонька, иногда злило, чаще просто потешало. Впрочем, он эту игру принял, а через некоторое время сообразил, что это даже удобно при его образе жизни.
Так год за годом прошло что-то около трех. Половину этого срока Анастасия провела в заоблачных краях. Возвращаясь, она затыкала ноздри, входя в квартиру Макса или мастерскую на Хлебном. Не могу дышать, запах греха, вонь разврата, милостивый государь! В ответ на это Макс орал, что еще не проверено, соответствует ли целомудрие гляциологинь белизне вечных ледников. Они хохотали, и Анастасия думала: вот так и надо жить с мужиком, вот такую и надо сохранять независимость, хотя прекрасно понимала, что положение неравное – белизна вечных снегов, увы, соответствовала ее целомудрию (даже и представить себе не могла кого-нибудь, кроме Макса), а вот каждый квадратный метр мастерской, увы, действительно разил блядством, даже и вещественные доказательства иной раз попадались – трусики, лифчики, контрацептивные средства, забытые визитершами. Тут уж она не выдерживала. Это свинство! Ого! Мне надоело твое половое свинство! Товарищ Огородников в таких случаях по старому своему обычаю уходил в «глухую несознанку».
Словом, они любили друг друга, хоть и с разной интенсивностью. Хм, написав или прочитав эту фразу, невольно подумаешь: экая мерзость! «Любовь с разной интенсивностью» звучит приблизительно как «макаронные изделия» вместо простого и любимого народами всей земли слова «макароны». Увы, что-то от этой аляповатости, скособоченности было и в супружестве Макса и Анастасии. По идее, они были чуть ли не разнопланетянами. Каждый шаг Огородникова иллюстрировал какое-либо общественное понятие, слишком много понятий, иллюстраций, репрезентаций для не очень-то счастливой женщины, которая если уж и иллюстрировала что-то, то не более чем «неисправимый романтизм русских студенточек». Как это может сочетаться с тем, что представляет сейчас, улетая на Запад, ее муж, а именно с «бунтом советского фотоискусства против линии партии»?
Он не вернется, думала она, сидя на бульваре возле своего дома на Воробьевском шоссе. Он вырвался чудом и теперь не вернется. Я его больше никогда не увижу. К «невозвращенцам» жен не выпускают. Да я ему и не нужна. Все-таки мы чужие, и в этом я сама виновата: не сумела его привязать, не смогла перебороть идиотского мужененавистничества. Прежде она никогда не плакала, а тут, в который уже раз за два дня после его отъезда, разрыдалась себе в колени. Пошлейшие стенания трясли ее, мелодрамагические причитания, которым она прежде устраивала преграду, теперь получили волю. Любимый мой, единственный, жестокая жизнь разлучила нас навеки, но верь, ничто не вытравит из моей души твой светлый образ – вот именно так выглядели ее причитания, и она их даже не стыдилась, потому что именно они казались ей правдивыми, а не что-нибудь другое, не дурацкая, скажем, поза с сигаретой. Дома как раз она сидела с сигаретой, бессмысленно смотрела в телевизор. Дома не дашь себе воли. Бульвар в этот час пустынен, кадрилыциков нет, никто не предлагает утешений. Вот только вдоль решетки медленно едет моторная инвалидная коляска. Большое белое лицо старика инвалида повернуто к ней. Между прочим, и отец мой, кажется, ездит в такой коляске, вдруг пришло ей в голову. Вдруг вспомнился отец, которого она видела последний раз еще до встречи с Максимом, то есть больше трех лет назад. Почему мама и тетя Мариша так враждебны к нему? Почему я так равнодушна к нему?
– Настя! – позвал инвалид из-за чугунной решетки. Это как раз и оказался отец.
– А я по твою душу, – сказал инвалид-отец и поехал на своей тарахтелке вдоль решетки ко входу на бульвар. По дороге он все время оглядывался, как бы боясь, что она исчезнет.
Кто он такой, мой отец? Ветеран Великой Отечественной войны, какой-то чудаковатый умелец, мать говорила как-то, что он работает для каких-то артелей по договорам, инкрустирует какие-то шкатулки. Несерьезный человек, говорит мать, хотя алименты платил исправно. В детстве он появлялся иногда, странный визитер на протезах, двигается, как робот. В общем, он как бы «не считался». Даже Максиму ничего о нем не говорила, да он никогда об отце и не спрашивал.
– Хочу тебе объяснить мое появление, – начал отец, приблизившись и выключая мотор.
Его дряблые щеки дрожали, свисая на воротничок рубахи. Пиджак флотского сукна был отягощен «иконостасом» боевых наград. На плечах рисовались галактики перхоти. Он весь был белый, то ли от волнения, то ли от хронического нездоровья.
– Подожди, папа. – Она вдруг безотчетно взяла его руку и прижалась к ней щекой. Тут же ей показалось это ужасно неуместным, стыдным, и она зачастила, чтобы скрыть смущение: – Почему ты всегда в этом пиджаке с орденами? Где ты живешь? Ты одинок? Почему мы такие чужие? Что вы с матерью не можете поделить?
Но он был гораздо сильнее потрясен неожиданным прикосновением ее щеки к своей руке. Она видела, что он едва ли не в смятении.
– Видишь ли… видишь ли… – бормотал он и тыльной стороной только что обласканной руки вытирал пот со лба, – я, собственно говоря… по важному делу… нечто… нечто… боюсь, ты удивишься… дочка… – Как видно, не без труда далось ему это слово, но после этого дело пошло лучше. – Боюсь, ты удивишься, Настя, но я по поводу твоего мужа Максима Петровича Огородникова…
– Откуда ты знаешь, что я?… – изумилась она. – Разве я тебе когда-нибудь?…
Он улыбнулся, совсем уже спокойно.
– Ты думаешь, это такой уж большой секрет? Он сам мне сказал, что вы муж и жена, когда узнал, что я Бортковский.
– Вы знакомы? – Изумлению ее не было границ. Очень уж не соединялся ее «левак» с этим колясочником.
– Да, – сказал отец не без важности. – Мы встречались несколько раз на некоторых… хм… на некоторых чтениях.
– На диссидентских, наверное, чтениях? Папа, неужели и ты диссидент?
– Я член Совета инвалидов. Мы боремся за права калек, а они в нашей стране ущемлены даже больше, чем права здоровых людей. Но это просто к слову, Настя. Если хочешь, я когда-нибудь тебя познакомлю подробнее с этими делами. Сейчас другое. Мы разыскиваем Огородникова. Ему угрожает опасность.
– В чем дело? – Она снова схватила отца за руку, но это уже было другое движение, полное электричества.
– «Железы», – сказал он. – Пожалуйста, никому, кроме Максима. У моего друга есть приятель из отставных чекистов. Он играет в шахматы с генералом ГФУ, или, как ее называют, «фишки». Он сообщил нам, что против Огородникова разработан оперативный план. Разработан и утвержден. Это значит, что «железы» будут вести дело к изоляции твоего мужа. Какими методами это будет сделано, мы не знаем. Во всяком случае, ты должна предупредить Максима…
– Поздно, папа, – вздохнула она. – Позавчера Макс улетел в Западный Берлин. Как это случилось, я не знаю. Торчала на Эльбрусе, дура…
Берлин-2
I
– Как вам нравится Берлин?
– Он неповторим.
– Неповторим?
– Неповторим, как Венеция. Скажите спасибо Хрущеву и Ульбрихту, это они сделали ваш город неповторимым.
Огородников и настоятель Баптистской академии патер Вилли Брандт (никакого отношения к бывшему канцлеру) шли через площадь к «Кароян-Сараю», как здесь называют здание филармонии. Там в этот вечер был джазовый фестиваль. Стена была неподалеку за прозрачными липовыми аллеями, мирно розовела под закатными лучами. Можно даже было видеть черные и синие граффити и при небольшом усилии различить слово «свиньи».
– Простите, Максим, что вы имеете в виду? – наморщил лоб патер Брандт.
Он шел пружинистым шагом, был розовощек и выглядел по крайней мере на пятнадцать лет моложе своих шестидесяти. Потертый твидовый пиджак и вельветовые брюки – униформа берлинской передовой интеллигенции. Трудно было бы признать в нем человека Церкви, если бы не выражение лица, но кто сейчас обращает внимание на такие мелочи. Впрочем, был еще в руках настоящий пасторский зонт, перешедший по наследству из XVIII века.
– Да разве же нет в вашем городе тайны, Вилли? – спросил Огородников.
– Тайны? Я извиняюсь, но вы меня что-то запутываете, Максим.
Вокруг филармонии было довольно много, но и не так уж много народу, во всяком случае, билеты спокойно продавались во всех кассах. Можно себе представить, как в Москве бы рванули на такой концерт с Чиком Кория, Фредди Хаббордом, Херби Хенкоком, а главное – с биг-бэндом Вуди Хермана вместе с Джери Маллиганом Великим! Впрочем, не только в Москве, в любой европейской столице все было бы продано за неделю вперед. Зафалонцев, должно быть, прав – Берлин-Вест чахнет. Когда-то, говорят, здесь было столько электричества! Ведь именно здесь в 1957 году играл Армстронг и пела Элла, и на концерты тайком пробирались молодые советские офицеры. Тогда и пошла гулять хохма: «Джаз – американское секретное оружие». Ульбрихт в штаны наложил. Хрущев тоже вздрочился против «шумовой музыки». Почему эта бражка джаза не любит? Ни наци, ни комми джаза не выносят. Может, из-за импровизаций? Если бы по нотам играли, больше было бы доверия.
Со ступенек филармонии он отщелкнул панораму: некий тоннель через фестивальную толпу и липовые отряды к пятнам заката на отдаленной полосе бетона и к слову Schwein.
В дверях патер Брандт приостановился.
– Максим, я хотел бы с вами подробнее поговорить об этой проблеме.
– О какой проблеме, Вилли?
– О тайне, как вы выразились.
– Ну, давайте поговорим.
– Вы шутите, Максим? Не здесь же говорить на серьезные темы. Может быть, завтра в академии?
– Можно.
– Одиннадцать тридцать?
– ОК, Вилли, одиннадцать тридцать.
– Значит, я жду вас для дискуссии завтра в одиннадцать тридцать в своем кабинете. – Он придержал Огородникова за локоть и подмигнул ему прямо в глаз. – Уверен, что фрау Кемпфе чем-нибудь нас побалует.
…На сцене был Маллиган, пятидесятилетний викинг с золотым оружием. Звук саксофона, казалось, вытеснил воздух из огромного зала. Трюк был в том, что саксофонист не импровизировал под оркестр, а, напротив, держал могучий пульсирующий ритм, на фоне которого импровизировал весь состав.
Спасибо священнослужителю, пригласил на фестиваль. Огородников сначала даже не понял, куда приглашают. Джаз? Вы, Вилли, любитель джаза? О да, я тоже, но меня удивляет, что и вы. Ба, да ведь это же тот самый знаменитый Берлинский джаз-фестиваль, или, как вы, немцы, говорите, Берлинер Яац Тагес, о да, трубы свободы! Нет-нет, Вилли, я не преувеличиваю, для людей моего поколения в СССР – это были трубы свободы.
Охваченный маллигановским свингом, Огородников впервые с того момента, когда осенним вечером увидел зубчики Дома дружбы, почувствовал себя свободным, молодым, полным юмора и любви. Значит, в мире еще играют джаз?
ІІ
Утром этого дня в старомодном здании Баптистской академии на берегу водохранилища Фогельзее состоялась дискуссия «Артист и Власть» с участием западноберлинских фотографов, советской делегации, а также группы турецких мастеров объектива, ибо постоянно живущих в Берлине турок набралось уже полмиллиона.
Разместились вокруг большого круглого стола и вдоль стен симпатичного зальца с дубовыми панелями, камином и люстрой. Перед началом советник по культуре советского генерального консульства Зафалонцев подсел к Огородникову, как бы передавая ему письмо (на самом деле пустой конверт), зашептал: «Тема дискуссии с нами не согласована. Вся надежда на вас, Максим Петрович»…
А что это за публика, Зафалонцев? В целом ненадежная, Максим Петрович, либеральные элементы. Не похожи, говорите? Нет, не похожи на либералов. На кого ж они, по-вашему, похожи? Просто сброд какой-то. Ага, вот мы и называем таких либералами, анархистами…
– Товарищ Зафалонцев! – Огородников изобразил вельможное удивление. – Где вас учили? Либерал с анархистом никогда за один стол не сядет.
Публика вокруг с уважением прислушивалась к непонятной дискуссии двух советских товарищей, из коих один басил, а второй шептал даже как бы и не собеседнику, а самому себе.
– Срать рядом не станет, – уточнил Огородников. – Вы, голуба, неправильно употребляете терминологию. Либерал, дружище, это носитель идей либеральных, то есть человечных и мягких, анархист по природе своей – тупой разрушитель, хоть и взывает к свободе. Усекаете, кому он сродни?
– Вы не выпили с утра? – шептал с полузакрытыми глазами Зафалонцев. – Не понимаете важности события?
Бдительный дипломат не уловил, что за его спиной сидели три девушки-славистки из университета, которые кое-что понимали. Турецкие участники дискуссии, развалившись словно для принятия кальяна, влажно на девушек посматривали. Два советских представителя из Западной Сибири обмирали от ужаса. Немцы проверяли свои записи. Огородников заметил, что один из них бросает на него взгляды, исполненные какой-то особой дерзновенности.
– А вот это кто таков? – спросил он у Зафалонцева.
– Этот как раз ничего. С этим мы хорошо работаем. Иоахим фон Дерецки, революционный фотограф из группы «Роте фане». Ну, Максим Петрович, удачи, я отчаливаю! – Голос Зафалонцева вдруг окреп, губы растянулись в благодушной улыбке, неизвестно откуда возник вполне грамотный немецкий. – Нам, чиновникам, не место на творческих дискуссиях.
Ходячее опровержение дешевой антисоветской пропаганды направилось к выходу. Патер Брандт дружеским полуобъятием проводил гостя. Фабричный паренек Том Гретцке, простоватый и лукавый будто из советского фильма, подмигнул Огородникову: хе-хе, будем разговаривать без няни. Дискуссия поехала.
В саду, рядом с окном, на стволе березы появился дятел. Несколько раз ударил клювом. Из всех стукачей самая приемлемая птица. Огородников сочувственно смотрел на дятла. С какой дерзостью донашивает одежду XIX века. Вдруг, обнаружив какую-то щедрую донацию природы, дятел заработал отбойным молотком, только щепочки полетели. За окном простиралась некая даль – берег озера, лес. Фальшивая даль, она обрывается скрытой в лесу стеной. Фальшивая дискуссия, да и сама академия крестителей под вопросом. Почему здесь не произносится Имя Божье? Одними только «измами» сыпят…
В другом окне каминной виден был парадный подъезд особняка, за ним безмятежная улочка, выложенная мелким круглым булыжником, один к одному, как яички; чугунные розочки на садовых решетках, машины, стоящие вдоль тротуаров, и среди них ярко-красное пятно стотысячного спортивного «Феррари». На крыльце экономка академии фрау Кемпфе беседовала с почтовых дел мастером, в двух этих фигурах, казалось бы, и воплотилась разумная Германия, придумавшая кран к русскому самовару. Фальшивое спокойствие… Он сделал несколько снимков того окна и другого… Дятел… тирольская куртка почтмейстера…
– … суровая логика классовой борьбы диктует нам простые истины. Долг художника в капиталистическом обществе – противопоставить свое творчество реакции, то есть выступать против своего правительства. Художник в социалистической стране не имеет права противодействовать своему правительству, даже если он видит его недостатки, потому что таким образом можно нанести вред самому передовому общественному строю…
До Огородникова наконец дошло, что говорит как раз тот самый красноармеец Иоахим фон Дерецки и вроде даже перешел на английский, чтоб лучше дошло… до кого? вот именно до него, до Огородникова, именно к нему горящий взгляд обращен. Резким движением то и дело откидывает, словно дама вуаль, жидкую занавесочку своих длинных волос.
– Я хочу впрямую поставить вопрос перед советским товарищем – согласны ли вы с моим мнением? Вот вы, советский товарищ, вуд ю кайндли энса зи куесчин?
Они сидели друг против друга по периметру огромного стола. Даже по морде не дашь за провокацию, подумал Огородников. Какой я тебе, в жопу, «советский товарищ»? Вон работы мои висят в углу. Кажется, ясно, что автору не надо задавать вопрос о социалистическом правительстве.
Дискуссия приостановилась. Все смотрели на «советского товарища». Пролетарий Гретцке глотал слюну. Патер Брандт смущенно протирал очки. Фон Дерецки, подперев бледное лицо ладонями, гипнотизировал застывшей улыбкой. Между тем сам «советский товарищ», делая вид, что вопрос не к нему относится, задумчиво смотрел на дятла, достал голландские сигарки, предложил соседу, закурил сам, помахал спичкой…
– Господин Огородников, – позвал Брандт.
– Яволь, – встрепенулся кривляка.
Фон Дерецки стукнул кулаком по столу. Том Гретцке мягко похлопал его по плечу и подмигнул «советскому товарищу».
– Максим, ви биль отвечай унзере комрад Иоахим?
Уже русскому научился будущий квислинг. Огородников вполне естественно удивился:
– Мне отвечать? Простите, геноссе Гретцке, я немного отвлекся. Нужна какая-нибудь справка? – С фальшивой растерянностью стал копаться в своей папке, вытаскивать бумаги, менять очки. Вдруг выскочил на свет Божий очень неподходящий к случаю журнал «Континент». Наконец фон Дерецкому: – Мне очень жаль, сударь, но я вопроса вашего не слышал. Не изволите ли повторить?
Революционер, поскрипывая зубами, повторил.
«Вот так, наверное, следователи НКВД разговаривали в проклятом году моего рождения», – подумал Огородников.
– А вы уверены, что это вопрос ко мне? – любезно осведомился он. Сейчас бы «Контом» через стол в коммунистическую чушку!
– К вам, к вам, советский товарищ!
Огородников повернулся к сидящим у стены сибирякам.
– Юрий Юрьевич, Петро, может, ответите чувачку? Юрий Юрьевич, работник отдела культуры Кемеровского
горкома с выпученными глазами, поплыл в страну прострацию. Петро, фотограф журнала «Сибирские огни», хоть и побагровел до критической стадии, начал все-таки что-то быстро-быстро нести о марксистской формуле искусства, о том, кому оно принадлежит, о том, какую радость испытывает он, потомственный сибиряк, встречая на чужбине, в капиталистическом окружении такую общность взглядов, а также для него большая честь передать демократической общественности Западного Берлина привет от рабочих Саяно-Шушенской ГЭС, и вот товарищу фон Дерецкому личный подарок-сувенир – место ссылки Владимира Ильича Ленина, резьба по дереву.
– Ух ты, как здорово! – похвалил сибиряка Огородников.
– Издеваетесь?! – вдруг завопил апостол пролетарского искусства.
– Вопрос поставлен вам, господин Огородников! Увиливаете?!
В зал вошла и остановилась в дверях Линда Шлиппенбах, корреспондент большого гамбургского журнала и родная сестра восточноберлинского кореша. Она подняла руку в район своего миловидного уха и помахала Огородникову пальчиками. Он понял, что его французская виза у нее в сумочке. Полезнее Линды трудно было найти человека в Берлине. Она знала весь город, вплоть до секретарей гэдээровских райкомов за стеной. Журналистка новой международной породы, из тех, что всегда на нужном месте в нужный час, перелетают океаны с той же легкостью, с какой рулят свои «Фольксвагены» и «Моррисы» в сутолоке больших городов, бодро трещат на основных европейских языках, включая почти всегда русский, носят твидовые пиджаки, да еще и умудряются сохранять женственность и всегдашнюю готовность познакомиться поближе с интересным человеком.
Обрадованный Огородников дружески улыбнулся немецкому коллеге. Значит, коллегу интересует мое мнение о соотношении современного фотографа с правительством? С социалистическим правительством, вы сказали? Вы имеете в виду, сэр, Гельмута Шмидта или Бруно Крайского? Правительство СССР, сэр? То есть коммунистическое правительство? Итак, вас интересуют мои отношения с правительством СССР? Да-да, давайте уточним. Не отношения, а соотношение и не детали, а проблема в целом… Ну что ж, это звучит как-то приличнее, а то ведь можно было подумать черт знает что. На мой взгляд, дорогой западный коллега, соотношение с правительством не очень существенное дело для артиста.
Линда Шлиппенбах и здесь оказалась вовремя. Она проскользнула к главному столу и толчком пустила по гладкой поверхности свой тэйп-рекордер. Машина остановилась точно там, где нужно было: между Огородниковым и фон Дерецки. Последний, когда первый начал говорить, приосанился и нацепил на нос очки в железной оправе, ни дать ни взять теоретик из Пномпеня.
Парень, должно быть, нищ, как монастырская крыса, подумал Огородников. Кожаночка говенненькая, рубашонка бросовая. Дрочит на богатеньких, вот и стал революционером. И конечно, бездарен. Они все бездарны, эти ворошиловские стрелки.
– Глупо противоборствовать правительству, еще глупее лизать ему жопу, – глубокомысленно изрек Огородников и протянул оппоненту руку, до которой тот при всем желании не смог бы дотянуться через огромный стол. – Как фотограф фотографа вы должны меня понять, Ганс, да-да, простите, Иоахим, – продолжал Огородников, непринужденно помахивая непригодившейся рукой. – Мы должны при нашей жизни осуществить попытку очень многих соотношений. Например, с водой и огнем, с природой… В частности, с деревьями… в принципе, важнейшее – это соотношение с Богом – не нужно вздрагивать, дружище Леонард, да-да, простите Иоахим… человек и Храм – что вы по этому поводу думаете?… ваше собственное тело и тело внешнее, переплетение тел?… фазы, цивилизации?… нравственность и комбинация цветов спектра? – вот где-то здесь, по периферии от этого, лежит соотношение с правительством… Обратите внимание, коллега, и вы, дамы и господа, что нас окружает в данную минуту, какие таинственные брызги времени и вечности: дятел среди веток, рыжая туча летит мимо, ниже основной, сероватой с прорехами массы, а в этом окне, коллеги, взгляните, какая возникла случайная гармония – – зеленая куртка почтмейстера и красное пятно вон того спортивного «Феррари» на фоне всего серого и лиловатого.
– Не хитрить! – гаркнул тут фон Дерецки, как заправский полевой фебель. – Уходите от вопроса? Маскируетесь под чистое искусство? Я вижу, кто вы! Вы – замаскированный диссидент!
Теперь он стоял и держал над столом направленный на Огородникова разоблачающий палец.
– Всюду теперь шляются русские отщепенцы и чернят нашу идею! Пожалуйста, теперь они уже и в советских делегациях!
– Тэйкитизи, – мягко нажал на свою педаль Огородников.
Гретцке и патер Брандт обменялись встревоженными взглядами. Гретцке вмешался:
– Товарищ Дерецки слишком горяч. Наша общественность знает его как слишком темпераментного парня. Не обижайтесь, Максим, что он сгоряча назвал вас диссидентом.
– А я и не обижаюсь, – пожал Ого плечами. – Я и есть диссидент, только не замаскированный, как Иоганн сейчас сказал. Любой настоящий фотограф – это диссидент. Коллега, желая разоблачить, сделал комплимент.
Он резко встал. Резко встал и немец на своей стороне стола. Почти одновременно оба подняли свои камеры и в упор сфотографировали друг друга. Нажимая затвор, Огородников отсылал фон Дерецки в подвалы 37-го года. Иоахиму же казалось, что он матрос Октября и целится в колчаковского офицера.
Прошла минута недоуменного молчания, потом Линда Шлиппенбах шлепнула себя по бедру и расхохоталась. Захихикали три русистки. Глядя на них, вальяжно заулыбались турки. Берлинские фотографы повернулись друг к другу, как баскетболисты в тайм-ауте. Том Гретцке амортизировал обеими ладонями. Патер Брандт одной ладонью делал овальные примиряющие жесты. Представитель кемеровского отряда «нашей партии» сидел как пыльным мешком из-за угла стукнутый. «Сибирские огни», ободренные своим удачным выступлением, с превосходством суперсилы взирали на суматоху среди малых народов.
За день до дискуссии Огородников повел сибиряков на Курфюстердам и там купил обоим по кожаной куртке на свой тайный «Америкэн экспресс». Парням такая удача даже и не снилась. Ради таких «кожаных изделий» можно и на родную марксистско-ленинскую махнуть. Авось не заложат. Впрочем, кажется, и не поняли ни шиша. Косноязычный переводчик после того, как диалог перешел на международный ломаный английский, совсем вырубился.
В следующую минуту «горячий парень» Иоахим фон Дерецки, фиксируясь, как памятник огня и стали, стал выкрикивать, что одобряет деятельность советского правительства и КГБ, очищающих свою землю от диссидентской заразы.
Снова возникло всеобщее смущение.
– Ну, это вы, однако, Иоахим, слегка чуть-чуть, – пробормотал патер Брандт.
– М-м-м, – сказал председатель собрания Гретцке.
Фон Дерецки тогда отшвырнул стул левой рукой, правой же как бы пощупал перед собой воздух, после чего рванул на выход. Возникло ощущение чего-то исторического, сходного с происшествием в цюрихской кондитерской «Сюзанна», когда товарищи высмеяли предложения Владимира Ильича по демократическому централизму.
Все смотрели бегущему вслед. Бедные волосы персоны в этот момент неплохо отлетали назад, напоминая еще одного героя, легендарного Че на борту яхты «Гранма» после пяти дайкири. Он выскочил на крыльцо. Всплеск чего-то белого – фрау Кемпфе: куда ж вы, сударь, ведь фрюштик на носу! Фон Дерецки упал в красный «Феррари». Спортивный кар с кривой улыбкой вылез из ряда, броском подтянул стильную задницу и мигом перенес седока в пространство, которое участниками дискуссии «Артист и Власть» уже не просматривалось.
– Он не ошибся машиной? – невинно спросил Огородников.
Теперь уже все вокруг расхохотались, включая и турок, которые мало что поняли, и русских, которые не поняли ничего. Да, он миллионер, этот фон Дерецки, объяснила Линда Шлиппенбах. Вернее, он зять миллиардера, вот и все…
За фрюштиком бодро выдергивали пробки из бутылок рейнского. Огородников хотел расслабиться, хватанул один за другим три стакана, однако вместо «релакса» почувствовал подъем энергии и начал распространяться о немецкой склонности к тоталитаризму, о том, что позорно жить за стеной и называть ее «границей», а также позорно обсуждать ущемление прав человека в Турции в присутствии русских, ведь Турция по сравнению с СССР – это Афины Перикла по сравнению с Персией Дария Гистаспа.
При этих словах одна из девушек-русисток разрыдалась, сказав, что товарищ Огородников разрушил все ее идеалы. Линда тем временем хохотала. Макс шутит, неужели юмора не понимаете? Патер Брандт сказал, что у него есть серьезные возражения концепции герра Огородникова, хотя он и понимает разочарование русской интеллигенции советской моделью марксизма. Максим начал было снова заводиться, но в это время «левый поп» как раз извлек билеты на джаз-фестиваль и обезоружил «правого» члена Союза фотографов СССР.
Завтрак завершался, когда в трапезной появились советские дипломаты Зафалонцев и Льянкин, проперли через зал прямо к Огородникову с таким видом, словно у них чемодан украли. Надо немедленно поговорить! Жарким шепотом прямо в ухо: скажите Брандту, что нужно согласовать некоторые технические, чисто технические вопросы. Зафалонцев полностью утратил привычную томность в движениях, которая казалась ему признаком международного стиля, в глазах его был дикий перепуг. Льянкин же смотрел на Максима, как бы оценивая, через какое бедро кинуть.
Они вышли из трапезной и пошли на крыльцо. В конце переулка стояла машина с советским флажком. Московская муть мгновенно заполнила Огородникова. Нет, от них не уйти.
– Максим Петрович, – с некоторой торопливостью начал Зафалонцев, – обстоятельства резко изменились, и нам нужна ваша программа во всех деталях. Что вы намерены делать, куда направляетесь сегодня, завтра и послезавтра?
– Дружище Зафалонцев, не пейте крепкого до захода солнца, – посоветовал Огородников и присел на каменного льва, который охранял этот дом, невзирая ни на какие обстоятельства.
Зафалонцев нервно хохотнул.
– Да я ведь серьезно, товарищ Огородников. Многое изменилось, мы вам скажем позже. А лучше бы всего, айдате поедем в посольство?
– В консульство, вы хотите сказать? – Максим старался ответить и Льянкину, меряя его взглядом, как бы прикидывая, чем ответить на нападение.
– Нет, я посольство имею в виду, – чуть ли не пропел Зафалонцев.
– За стенку, что ли? – искренне изумился Огородников, как будто не третьего дня сам туда явился.
– Ну, на Унтер-ден-Линден, – зажеманился Зафалонцев.
Льянкин чуть пошевилил своим преступным лицом.
– В столицу Германской Демократической Республики.
– Сегодня не могу. – Огородников поднялся с львиной спины.
– А вас там ждут. – Зафалонцев глянул исподлобья таким взглядом, что Максиму сразу же все открылось. В Москве его хватились. «Фишка» взъярилась. Шлют шифровки. Не исключено, что и сами прикатили. Скорее всего, и прикатили. Они и ждут.
Зафалонцев, очевидно, понял, что лишнее сказал, зачастил:
– Руководство ждет, Максим Петрович. Кажется, сам Абракадин, наш посол. Аида, слетаем, а? Быстренько все согласуем…
– Сегодня исключено. – Огородников поднял ногу, чтобы шагнуть к порогу баптистов.
– Давай-давай! – Льянкин левую руку потянул к огородниковскому плечу, а правой махнул в глубину переулка.
Консульская машина тут же стала приближаться к академии.
– Обожди, Льянкин, – сказал Зафалонцев. – Максим Петрович, видно, не совсем понял. Дело-то серьезное, Максим Петрович. Или у вас что-то посерьезнее есть в Западном Берлине?
Льянкин шагнул повыше и локтем как бы стал разворачивать дерзновенного непослушанца. Шофер изнутри открыл переднюю дверцу машины.
– А ну, отскочи, жуй моржовый! – с неожиданной для самого себя свирепостью хрипанул Огородников в лицо Льянкину. – Давай не толкайся, не старые времена!
С таким непослушанием Льянкин, видно, давно уже не сталкивался; отшатнулся. Огородников сделал решающий шаг и взялся за ручку двери.
– Ох, устал я с вами, Огородников, – вздохнул советник по культуре и махнул рукой. – Поехали, Льянкин, доложимся, раз тут такая, понимаешь ли, проявляется независимость.
Перед тем как сесть в «Ауди», они оглянулись, затянутые в добротные середняцкие костюмы, с галстуками под кадык два недобрых молодца. Не такие ли в прошлом году вывозили из Англии забрыкавшегося физика? Кольнут иглой прямо через штаны, чтобы человек на несколько часов превратился в слюнявого идиота и очнулся уже на Лубе…
Огородников не мог оторвать от них взгляда. Давайте не толкайтесь, не старые времена, не старые времена… Машина покатила вдоль мирной улицы Митте-Фогельзее. Пейзаж восстановился.
III
Бурные серебристые подъемы всего биг-бэнда разом… Максим как бы поднимался вместе с трубами, однако набрать, как прежде, ту же высоту, увы, не мог. Вдруг выплывало льянкинское «давайте-давайте», и начинал ощущаться весь кишечник; недаром в английском есть выражение guts (кишки) в отношении мужества – хватит ли у него кишок?
После отъезда «товарищей» весь день он старался настроиться на легкомысленный лад, как в прошлые свои заграничные поездки, особенно в Шестидесятые годы; «дитя соцреализма грешное»… А вот возьму и смотаюсь в Париж, думалось с настойчивой несерьезностью, но снова тут выплывало «давайте-давайте», и кишки мгновенно наливались чугуном. Нечего темнить, не «сматываюсь» в Париж, а бегу, не шаловливый это скачок баловня выездной комиссии ЦК, а бегство врага прямо из-под носа разъяренной Степаниды. Не может она этого так оставить, выкрадет, угробит… Но ведь не старые же времена… Он всматривался в разноплеменную толпу на Курфюстендам. Она деловито шагала во встречных направлениях, иногда теряя кого-то у витрин, деловито шагала, не обращая на Макса никакого внимания, полагая его своей частью. Это успокаивало – быть частью чего-то легче, чем оторвавшимся куском.
Такое же успокаивающее чувство появилось и в перерыве фестивального концерта, особенно когда повстречалась Линда Шлиппенбах со своей толпой берлинской богемы, все немножко в стиле Двадцатых. Сначала курили на лестнице, обсуждали достоинства стиля «фьюжн», потом отправились в бар пить шампанское, и вот тут, по дороге в бар, снова возникла зловещая парочка – Зафалонцев и Льянкин. Они шли, словно патруль, рука в руку, посреди фестивальной толпы, деловито, квадрат за квадратом, сегмент за сегментом, прочесывали взглядами холл. Не бежать же! Вздор! Они сближались. Зрение у товарищей дурное или плохой расчет, но заметили они свой объект, только когда сблизились почти вплотную. Зафалонцев улыбнулся лживо и предательски:
– Максим Петрович! Уверен был, что вас здесь встречу! Так и тем товарищам, что вас безуспешно ждали, сказал – наверняка Огородникова на фестивале встречу, ведь джаз – «американское секретное оружие». Ну, в порядке шутки, конечно: нынче ведь не старые времена, вы правильно сказали. Настроение такое шутить, дурака валять. Ведь джаз-то какой, а, ведь незабываемый же, Максим Петрович, джазище-то! Those foolish things, ведь просто незабываемое, а?! Ведь на этом же наше поколение росло, да? Правда, а?
Рядом чуть подрагивало белое лицо Льянкина, наглухо запечатанное неизгладимой советской лепрой.
IV
Ну, вот уже и спать не могу, бьет какая-то мерзкая трясучка. Может быть, не ехать в Париж? Из Берлина еще есть обратный ход, а из Парижа не будет. Уж тут-то Планщин и сошьет «международный заговор». Мы все думаем, что у них руки коротки замахиваться на известных людей, но однажды они решатся и хапнут короткими руками – показательное дело, бульдожья хватка. Заголовки в «Фотогазете» и в «Честном слове» представить себе нетрудно: «Нравственное падение фотографа Огородникова», «Тайные линзы Огородникова», «На чью пленку снимаете, господин Огородников?»…
Похоже, что они делают из меня большого политического врага. Для Степаниды любой, кто ей хоть в чем-то препятствует, серьезный политический враг. Мои альбомы для нее – это связка динамита, ну, а «Скажи изюм!», наверное, атомная бомба… «За доллары продался Огородников»… «Дешево вы продали революционные традиции вашей семьи, мистер Огородников»… «Солженицын от фотографии»… хватит ли «кишок» выдержать все это?…
Может быть, плюнуть на Париж, вернуться в Москву, забросить все к чертям, собрать аппаратуру, махнуть к Насте, в Тер-скол, остаться там надолго, на год, на пять лет, пока все обо мне не забудут? Снимать там все на этих резких горных контрастах, очиститься от советчины и антисоветчины, как те парни, что уже не спускаются с гор, предаться медитации, концентрации… Как это учили? Собирать все черные хлопья в зеленую рамку, сужать эту рамку… Выныривать из воображаемого океана. Соединять над головой радужную дугу…
Устав швыряться по постели, Огородников оделся, накинул плащ и вышел в коридор. Тусклые плафоны в коридоре «Регаты» едва освещали ковровую дорожку и несколько пар башмаков, выставленных постояльцами на утреннюю чистку. Экие приверженцы доброго старого времени, небось сейчас мирно посапывают в своих ночных колпаках.
Внизу, в холле, ночной портье, с журналом в левой руке, с сигарой в правой, сидел в мягком кресле у телевизора, по экрану которого в этот момент метались какие-то отвратные пятна «кунг-фу».
Такой паренек, как этот портье, вполне мог бы быть восточным шпионом. Возле отеля вполне может дежурить какой-нибудь особый автомобиль… Портье, скособочившись, вылезал из кресла. Чего изволите, сударь? Нет-нет, все в порядке, не беспокойтесь…
Он вышел на штрассе, она была пуста. Запаркованные вдоль тротуаров машины тоже были пусты. Полная остановка – листва, наполовину еще зеленая, обвисла под мутными фонарями. Говорят, что здесь можно годами жить в районе Кройцберг и никто тебя не хватится. Он вышел из-под светящегося козырька «Регаты», свернул за угол, там было совсем темно, только чуть отсвечивали крыши машин. Пройдя несколько кварталов, он присел на какой-то каменный пенек, прислонился спиной к стене дома, закурил. Не нужно преувеличивать – околоток спит, «Фольксвагены», «Порши» и «Мерсы» спят. Не спит только витрина антикварного магазина, там видна зеленая нефритовая собака. Впрочем, вот еще один бодрствующий – кока-кольный автомат. Вдруг все поплыло перед глазами. Скольжу, подумал он, выскальзываю. Скорость увеличивается, не затормозить. Быстро вырастает нефритовая собака. Столкновения не избежать. Столкнулись или нет? Теперь она уносится, уносится в умопомрачительную даль, уношусь то ли в погоню, то ли в бегство. Хватайся всеми четырьмя за «реальные вещи». Чувство юмора может выручить. Пограничный город Берлин. Стена между жизнью и отчаянием прокручивается вокруг оси, не преодолеть…
Наконец он вынырнул. Вот так накуришься в бессонницу и не такой еще получишь бобслей. Немыслимо захотелось помочиться. Он встал с каменного пенька и двинулся к ближайшей арке ворот. В этом городе провел молодые годы большой русский фотограф. Попробуйте жить и любить в Берлине, не разделенном стеной. Брандмауэры с надписью «Рояли Петрофф». Однако он жил и любил, пока не стал снимать по-американски…
Вдруг в двух шагах послышалась отчетливая советская речь:
– Товарищ лейтенант, на улице пусто. Разрешите отлить?
– Давай, Матькин, по-быстрому!
Как наваждение, из-за угла выплыл и остановился советский джип с тремя солдатами и офицером. Огородников прижался к стене. Неужто за мной прислали? Спокойно, это же союзнический патруль, антигитлеровская, так сказать, коалиция. Так же и западные ездят за стеной. Эх, Европа, веселые поля, идем все скопом, трясутся вензеля. Матькин спрыгнул, пробежал мимо, исчез под аркой, зажурчала благодарная стихия.
– Товарищ лейтенант, там фриц стоит, – сказал один из оставшихся в джипе. – Бухой, что ли?
– Это нам не касается, – сурово ответил командир патруля. Ї
Повеселевший Матькин уже бежал к джипу. Немного надо русскому человеку – отлил без помех и рад, и даже слегка романтичен.
– Ребята, там кока-кола на углу! – романтично воскликнул Матькин. – Вот бы напиться!
– Сначала поссал, а теперь напиться хочет, ну, Матькин, – сказал один солдат.
– Чем ты напьешься? Жуем? – спросил второй.
– Короче! – приказал лейтенант.
Машина двинулась. Огородникову казалось, что у него отрываются почки. Он стал мочиться у стены. Патруль медленно удалялся в игольчатом тумане. Круглые спины в теплых не по погоде бушлатах. Торчат стволы «Калашниковых». Кургузые, нелепые, нищие мои ваньки матькины, «стражи мира и прогресса»…
Моча била из него бурным неудержимым ключом, потом вдруг обрывалась и тогда все его тело передергивала судорога, и снова начинал бить неудержимый ключ. Откуда льется это огромное, непостижимо огромное количество влаги? В пузыре не может быть больше трех литров, а я зассал уже всю эту улицу, уже четверть часа журчит вдоль тротуара мой мочевой поток. Ничем его не остановишь, в отчаянии сотрясался Максим Петрович Огородников, я вытеку весь до дна…
V
Паршивый остаток ночи в «Регате» был прерван телефонным звонком.
– Доброе утро, – сказал в трубке машинный голос. – Я насчет программы на текущий день.
– Кто говорит? – прохрипел Огородников.
– Из консульства. Льянкин.
– Очумели, Льянкин? Который час?
– Вы бы грубости-то прекратили. Девятый уже.
– Без семи восемь! – в ярости завопил разбуженный.
– Значит, мы минут через двадцать подъедем, – сказал Льянкин и быстро положил трубку.
Огородников выскочил из постели, охваченный странной бодростью и злостью. Эка обложили! Мразь бесцеремонная! Так доведут, что и политического убежища попросишь! Сейчас я вам, шляди протокольные, обрежу нос! Хрен найдете! Через десять минут меня здесь не будет!
Через восемь минут в дверь постучали. Кого нелегкая еще раньше принесла? Он распахнул дверь. Проем тут же заполнили советники Зафалонцев и Льянкин в свежих сорочках, и галстуки под кадык.
– Слышали новость? Гроссмейстер-то Корчной-то, перебежчик, попал, говорят, в автомобильную катастрофу!
Огородников сделал резкое движение правым плечом вперед и вниз, как в детстве пугали. Ой, простите, шнурок развязался!
– Дайте в номер-то зайти, – сказал Льянкин. – Здесь немцы ходят.
– Прошу, соотечественники! – Фиглярствуя, Максим как бы протанцевал внутрь с зафиксированным широким объятием, потом резко повернулся. – Голова цела?
– Чья? – дернулся Зафалонцев. Огородников зло захохотал.
– Забыли уже, с чем пришли, Зафалонцев? Корчного голова цела, надеюсь? Ему еще в шахматы играть, думать надо. Вот вашему любимчику Карпову важнее другое сберечь. Что именно? Правильно, Льянкин, язык – чтобы жопу лизать!
Советник по физкультуре даже слегка задохнулся, посмотрел на советника по культуре, как бы спрашивая – может, прикончить гада?
– Кто вам позволил такие угрозы применять ко мне? – спросил Огородников. – Такие идиотские намеки? Я ведь могу об этом сообщить кое-куда.
– Куда? – быстро спросил Зафалонцев.
Может быть, это поворотный момент? Я говорю – «в печать!», и бросаются с иглой. Может быть, именно такая у них инструкция. В газеты! И тут же укол через штаны в ляжку?
– В ЦК! – выпалил. Зафалонцев нервно хмыкнул.
– Ох, боюсь, не поймут вас в Центральном Комитете!
Трое сели на три имевшихся в номере стула, само собой, образовался разнобедренный треугольник. Две горошины катались под углами нижней челюсти советника Льянкина – очень уж ненавидел! Огородников вдруг подумал, что мрачная сцена в любой момент может обернуться полнейшим фарсом.
– Я шучу, – улыбнулся он. – Вы шутите, а мне нельзя? Я вот подумал, ребята, иногда… – он с притворной строгостью поднял палец, -…подчеркиваю, иногда – хорошо бывает выпить прямо с утра. Ведь мы же русские люди, а? Почему бы нам с утрянки, по-нашему, по-русски?
– У вас что, селедка с собой? – хмуро поинтересовался Льянкин.
– У меня душа русская с собой, старик. Вон там, через улицу, имеется бар. Уже открыт. Аида, ребята? Я угощаю.
После некоторого переглядывания, кряканья в кулак и кручения голов предложение, разумеется, было принято. Да и какой русский, скажем мы, в нынешнее-то время откажется выпить на дармовщину. Нынче в ведущих институтах социалистического отечества в отношении заграннапитков и некоторых сувениров развился какой-то странный материалистический фатализм, то есть на первом месте стоит «брать», ну а «отвечать» – ушло в глубину. Фактически за какой-нибудь приличный сувенир можно прикупить неплохой государственный секрет. К счастью, спецслужбы Запада еще об этом не догадались. Или ассигнования на подкуп не могут пробить. В общем, Зафалонцев и Льянкин не устояли перед предложением, и троица вышла из гостиницы в направлении бара «Салоники», перед которым хозяин с сыном и снохою пытались швабрами разогнать ночные лужи.
– У вас тут что? Ночью дождь был? – полюбопытствовал Льянкин.
– Да нет, это просто слон нассал, – охотно объяснил Огородников. – Слышите, греки хохочут – элефантос, элефантос!
В пустом и попахивающем чем-то неаппетитным баре началось безобразное распивание «Белой лошади» вперемежку с пивом «Шмитц». Очень быстро все нагрузились.
– Ты думаешь, нас купил за эту височку? – тыкал пальцем Льянкин. – Да я этой височкой за свою карьеру вот, – палец выше уха, – нажрался. Это мы тебя просто прощупываем, фотограф-фуеграф!
– А что, ребята, боитесь, что подорву, не доверяете советским фотографам? Какие у вас инструкции на мой счет? – спрашивал Огородников.
– Эх, Максим, – отвечал Зафалонцев, – ты думаешь, мы здесь такие серые, в этой глуши? Да я всех твоих друзей по искусству знаю. У нас тут Мишанин-Кучковский зубы лечил, так мы с ним очень капитально сдружились. Бывало, сидим-сидим, говорим-говорим… Ты не заводись, Максим, у нас же служба… Ну, про Корчного экспромт, конечно, получился бестактный, но ведь посыл-то был благородный, о тебе же беспокоимся. Ведь мы же все послесталинского поколения, даже Льянкин. Огородников почесал у Льянкина за ухом.
– Хорошо, что мы подружились, братцы. Теперь я на вас жаловаться не буду ни в ЦК, ни на «Голос Америки», ну а завтра, так и быть, освобожу фронтовой город от своего присутствия.