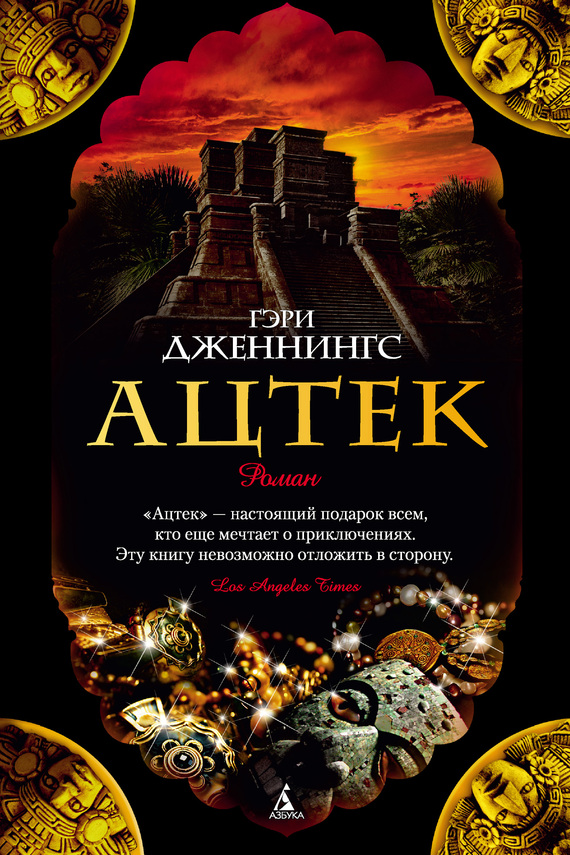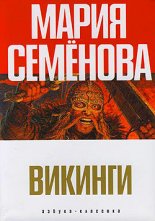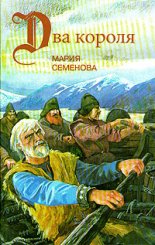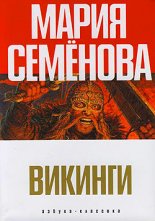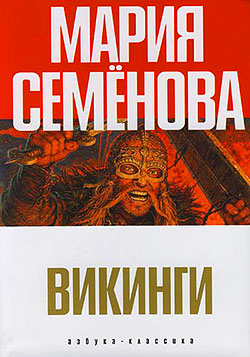Рождение волшебницы Маслюков Валентин

— А все потому, что не хотели меня слушать! — крикнул затесавшийся в толкучку шут.
— Государь! Я ни в чем… — издала оборванный вопль Золотинка, руки ей вывернули и она выпустила хотенчик, совершенно не сознавая, за что так отчаянно боролась. — Юлий! О-о! Помоги мне!
— Не трогайте ее! — свирепо крикнул Тучка, поднявшись на колени.
— Тучка, родной! — крикнула Золотинка, изворачиваясь Юлий шатнулся, словно для шага, но вместо этого обнаружил намерение упасть, то есть хватился за слабое плечо учителя. Несколько запыхавшихся человек несли государю хотенчик как добычу.
— Ю-Юлий!
Он дико глянул и, словно обожженный призывом Золотинки, дрогнул, отвернулся и пошел, как в вязкой среде, которая оказывала ему сопротивление — разгребая руками перед собой, чтобы отстранить тех, кто пытался его остановить. Хотя таких не было — в пустоте он водил руками.
Золотинку вбросили обратно на бочку.
— Государю дурно! Лекаря! Где Расщепа? Где Шист? — слышались тревожные восклицания, толпа бурлила.
Тучку, понятное дело, били. Врезали тут по сусалам и его напарнику, который закрывался руками, не делая ни малейшей попытки разъяснить ошибку. И еще несколько пар случившихся на майдане кандальников пустились бежать, не ожидая торжества правосудия.
Когда ретивые распорядители расшвыряли народ, раздвинули его до пределов прежнего круга, майдан оголился. Не стало Юлия, не было Новотора Шалы и полдюжины приближенных. Бесследно пропал скоморох. Затолкали куда-то Тучку с его ни к чему не причастным напарником. Между делом сечевики успели разобрать сваленные курганом кафтаны. Исчезли даже валявшиеся без призора кандалы для хотенчика.
Всех вымело.
Старшина стоял посреди майдана, властно расставив ноги. Подобрал напоследок брошенную шутом палочку, которая служила ему лошадкой, и зашвырнул ее к чертовой матери. Это оказалось недалеко.
Золотинку перестали держать, она опустилась на бочку и тронула на щеке ушиб. Наверное, ее тоже ударили, но мелкую эту подробность она не помнила.
Круг восстановился. Прикрывая ладонью красное ухо, нудно разглагольствовал тонконогий человечек Ананья: холодные прищуренные глаза, лягушачьи губы. Золотинка переставала понимать, что он говорит, хотя тот, часто поминая конюшего Рукосила, выступал как бы в защиту девушки и уговаривал круг не торопиться. Его речь начали прерывать выкриками и свистом. Чем больше оратор тянул и мямлил, тем большее нетерпение выказывала толпа, в которой вызревало роковое для Золотинки единодушие.
Ту же унылую тягомотину продолжал мессалонский вельможа из рода санторинов Иларио Санторин — седой, безбородый старец в обтягивающей брюшко кургузой курточке. Он заверил, что мессалонская сторона совершенно удовлетворена полученными прежде и теперь разъяснениями конюшего Рукосила. В кругу выкрикивали что-то не весьма почтительное по отношению к мессалонской стороне, но важный старец имел спасительную возможность не понимать. Медлительность его удваивал переводчик. «Мы требуем полного оправдания девицы, объявившей себя наследницей рода Санторинов», — заявил Иларио. Золотинка вздрогнула. Или полной ее казни. И опять мурашки бежали у нее вдоль позвоночника. Что он имел в виду под полной казнью? Ибо недостаток полного оправдания (так выражался переводчик из мессалонов) влечет за собой признание самозванства с помощью чернокнижного волшебства. Мы же со своей стороны не видим никаких препятствий для казни, объявил на своем изуверской языке переводчик. Оглушенная Золотинка плохо разумела, что толковал еще Иларио о намерениях мессалонов покинуть страну и расторгнуть брачный договор принцессы Нуты, если княжич Юлий не воссядет на престол законным образом.
Они ушли сразу. Когда Иларио кончил, двести или триста человек начали выбираться вон, круг выпустил чужеземцев и сомкнулся. Уставшая от долгих разговоров толпа разнузданно гудела.
Оказалось, что пришла пора говорить Золотинке.
Но что-то зашуршало в ветвях дуба… Среди вытянувшихся на цыпочки, чутко наклонивших голову мертвецов, неподвижных в своей нездешней сосредоточенности, карабкался по суку неуклюжий человек. Он тащил в левой руке моток веревки.
Задрав голову, Золотинка смотрит вместо того, чтобы говорить. Да и всем любопытно. Человеку с веревкой неловко на высоко простертом суку, он ползет медленно и боязливо. Уселся верхом, спустил ноги и принялся за дело.
Но что он там путает? — думает Золотинка. Что за безобразный узел? Там нужен простой штык. А еще лучше штык рыбацкий, которым вяжут конец в скобы якорей, — надежней всего. А удавку пропустить через беседочный, чтобы можно было потом развязать. Развяза-ать… Потом.
Золотинку обливает холодом, дыхание перехвачено, она едва находит силы вздохнуть.
Внезапно спохватившись, Золотинка требует, чтобы круг вызвал свидетелем конюшенного боярина Рукосила.
Это невозможно.
Тогда она просит, чтобы ей объяснили, в чем она виновата.
Старшина объясняет.
Золотинка слушает, напряженно закусив губу, но все равно не может запомнить.
— А куда вы дели хотенчик? — говорит она. И морщится. Она все время морщится и ощупывает стриженную голову, и это производит на толпу крайне невыгодное впечатление.
Вдруг всё приходит в движение, хотя Золотинка ничего путного еще не сказала, не сказала ничего вообще. Круг распался, словно они решили разойтись, убежденные ее молчанием. В голове горячий туман и тело ломит.
Все идут в одну сторону. На краю майдана черное знамя, то есть привязанная к ратовищу копья черная рубашка. Толпа стекается сюда, сбивается сгустками и вновь расползается, ее невозможно удержать в покое ни взглядом, ни руками. На другом краю торчит знамя противоположного цвета — белого.
Здесь один человек. Это скоморох в красном колпаке с бубенчиками. Он за оправдание Золотинки и потому стоит под белым знаменем. Он глядит на толпу. Толпа под черным знаменем глядит на шута. Толпа тихонечко потешается.
— Ну-ну, веселитесь, умники! — во весь голос говорит скоморох. — Скоро смеяться перестанете.
Он тоже складывает руки на груди и глядит на противника.
Золотинка кусает пальцы или запускает пятерню на висок, пытаясь ухватить себя за волосы.
— Всё? — громко говорит шут. — Отсмеялись, умники? А теперь я скажу главное. — Он вынужден напрягать голос и шепелявит. У шута разбитые губы.
Он идет вольным шагом к Золотинкиной бочке, возле который охрана и старшина.
— Кто твои родители, малютка? — спрашивает шут, остановившись в пяти шагах.
Раз-два! и кто-то проворный, сильный вскакивает на бочку рядом с Золотинкой.
Ухватив свисающую поодаль петлю, он живо надевает ее на шею девушке. Готово. Теперь им останется только связать ей руки. За спиной.
— Мои родители Поплева и Тучка, — шепчет Золотинка так тихо, что в толпе недовольный ропот.
Петля подтягивается на шее и плотно ее обнимает, а проворный молодчик, устроив эту оснастку, спрыгивает на землю.
— Родители малютки Поплева и Тучка, так она уверяет, — невыносимо растягивая слова, говорит шут. — Кто же папаша, кто мамаша? Поплева — отец, а Тучка — мать?
— Нет, — шепчет Золотинка.
Толпа сдержанно ухмыляется.
— Чего смеетесь, умники? — холодно говорит шут. — Я еще ничего не сказал. Подождите, сейчас вас и не так проймет.
Ненароком, стараясь не привлекать к себе внимания, Золотинка ослабляет петлю.
— Говорили всякие глупости. Всякие сказки про моих родителей. Но никто этому в действительности никогда не верил. Поплева тоже так не думает.
По всей видимости, Золотинка не могла бы произнести более блистательной речи, даже если бы и соображала, что говорит. Люди охотно слушают, не проявляя признаков нетерпения.
— А про Санторинов… Это Рукосил достал письмо принцессы Нилло. Он утверждает, что нашел его в сундуке через семнадцать лет и оно сохранилось. Вы, может, знаете, что я вышла из моря в сундуке. Но ведь не сундук же меня породил, верно?
— Именно! — торжествует шут, выставив указательный палец. — Не сундук тебя породил! Никак не сундук. И у меня есть доказательства! Что говорить зря! Великий Род и Рожаницы! Она вышла в сундуке из моря! Галич, Пшемысл, Люба! Ведите сюда этого горемыку, несчастья которого превосходят все мыслимое под луной! Ведите! Но умоляю — ни слова! Жестокий рок! Жестокие сердца! — тренькнув бубенчиками, шут прикрывает глаза ладонью.
Недоумевающая толпа не прочь посмотреть на горемыку. Старшина не находит возражений.
Товарищи скомороха уже ждут знака. Люба ведет за руку одетую, как человек, обезьяну.
По первому взгляду за человека ее и приняли — горбатенький недомерок женщине по плечо. Длинные вихлявые руки и уродливая голова, на которой держалась кое-как нахлобученная шапчонка с опущенными ушами. Существо строго поглядывало на толпу, и народ расступался. Скоморох приветствовал волосатое существо поклоном. На что обезьяно-человек ответил небрежным, но вполне уместным кивком. Потом он проковылял к виселице, где сдернул шапочку и с отменной учтивостью раскланялся на все стороны. А женщина постелила на траву тоненький стершийся коврик.
— Не изволите ли присесть, ваше величество?
Обросшее шерстью существо поблагодарило спутницу молчаливым кивком и уселось, скрестив ноги. Затем, оглядевшись, оно вздохнуло, достало из кармана палочку и принялось ковыряться в зубах, цыкая темными губами. Почтительность, сквозившая в ухватках свиты, возбуждала любопытство.
— Перед вами несчастный и злополучный сын царя Джунгарии, — несколько понизив голос, сказал шут.
— Имя этого горемыки Жулио, — пояснил старший из вновь подошедших скоморохов. — Мы почтительно просили царевича Жулио прервать завтрак для того, чтобы встретиться со слованским народом и поведать о злоключениях своей юности. Жулио погубила его собственная жена, коварная и обольстительная колдунья.
На слове «коварная», также как и «обольстительная» все взоры обратились к Золотинке, которая ожидала своей участи с петлей на шее.
— Клянусь Родом и Рожаницами, — воскликнул длинноносый немолодой скоморох из числа пришедших, — не было под луной более благочестивого, образованного, милосердного, скромного и обходительного юноши, чем Жулио. И вот — насмешка судьбы! — в облике уродливой обезьяны он представляет самого себя на подмостках балагана!
Обросший шерстью Жулио, не оглянувшись на рассказчика, ничем не понуждаемый, кроме собственного сердечного движения, достал из кармана красной курточки грязноватый платок и приложил к глазам.
— Семнадцать лет миновало, но душевная рана не заживает, — потрогав разбитую в кровь губу, подхватил рассказ первый из скоморохов, юноша в колпаке с бубенчиками. — Лживая, неверная жена околдовала царевича и превратила в чудовище. Отец, нечестивый государь Джунгарии, устыдившись сына-обезьяны, выгнал его из родного дворца за пределы подвластных земель. Какими словами описать страдания скромного и благонравного юноши? Как выразить защемившую сердце боль?
- На заре-то было, ой, на зорюшке, —
- поет народ. —
- На заре-то было на утреннай,
- у нас сделалось, братцы, несчастьице,
- что большое-то безвременьице,
- что жена мужа потерила,
- острым ножичком зарезала,
- во холодный погреб бросила,
- правой ноженькой притопнула,
- а сама пошла в нову горенку.
Так поет народ. Преступная жена! Безжалостный отец! Испорченные нравы! Кровосмесительная связь! Не успел околдованный царевич покинуть дворец, как нечестивый отец уже вошел к своей юной снохе. В народе справедливо заклеймили таких людей крепким словом снохач!
Рыдания сотрясали Жулио, он согнулся, скрывая от людей нечеловеческое лицо.
— У Жулио была сестренка Жулиета. Как часто, уязвленный холодностью молодой жены, привязчивый юноша прижимал к груди эту невинную сиротку одного года от роду, заброшенную всеми после смерти матери! Какими солеными слезами орошал он ее златокудрую головку! Но и это невинное создание, последнее утешение царевича, мешало его жестокосердной и ревнивой жене. Обратив Жулио в обезьяну, волшебница велела слугам посадить девочку в сундук, чтобы заморить ее голодом.
Не сдерживая больше порыва, непроизвольно выдавая свою мысль, шут показал на Золотинку. И снова все на нее уставились — в обалдении. Обезьяна, убрав платок, утирала глаза рукой и горько вздыхала — тягостные воспоминания, должно быть, мешали ей следить за ходом событий, она не успела еще понять, что нашла сестру.
— Но Жулио, обездоленный Жулио ничего не знал о судьбе своей маленькой сестренки. Ничего! Жулио! — откровенно волнуясь, шут обратился к обезьяне. — Подними голову, Жулио! Утри слезы! Быть может, слуги жестокой волшебницы сжалились над малюткой, и, вместо того чтобы погубить ее, пустили сундук на волю волн? Быть может, сестренка твоя жива? — подступив к бочке, шут легонько тронул Золотинкину щиколотку.
Люди, вся тысячная громада, затаили дыхание в предчувствии чего-то невероятного и трогательного, даже на задах плотно сбившейся толпы перестали шуметь и переспрашивать. Кто недослышал и недопонял, и тот замолк, проникнувшись общим настроением.
— Посмотри внимательно! — высоко взлетевший голос шута, казалось, вот-вот сорвется. — Пусть не смущает тебя неподобающий наряд царевны. Пусть не введет тебя в заблуждение грубая пеньковая петля, которую естественно было бы видеть на шее какой воровки или непотребной дряни, но не на этой чистой девушке! Не обращай внимания на старую бочку вместо престола, она не может унизить того, кто сохранил благородство и в нужде. Жулио, эта девушка, как выпавший из оправы алмаз, никогда не потеряет цены. Ее можно оболгать, можно запутать подметными письмами и подлогами, можно преследовать ее всюду и везде мстительной ненавистью, но нельзя отнять у нее благородства! Прислушайся к голосу сердца, Жулио! Голос крови не обманет тебя. Узнаешь ли ты теперь в этой несчастной девушке свою сестру Жулиету?
Обезьяна всматривалась, подавшись вперед, приподнялась… Надежда и недоверие, боязнь обмануться так явственно различались в ее непроизвольных движениях, в нечеловеческом, обросшем шерстью лице: в округленных удивлением глазах под взметнувшимися дугами бровями, в напряженно выпяченных губах… Сомнения Жулио так понятны были и очевидны, что отзывались в самых черствых сердцах. Ну же! — хотелось подтолкнуть, понудить его к выбору. Те самые люди, что не усомнились приговорить Золотинку к смерти, теперь, поддавшись обаянию чуда, страстно жаждали открыть в ней Жулиету.
А девочка на бочке, сознавая значение возлагаемых на нее надежд, крепилась что было мочи, чтобы не потерять равновесие и не повиснуть в петле, безвременно удавившись. Опора ускользала и голова шла кругом.
И вдруг, выронив платок, обезьяна скакнула на бочку и потом сразу на грудь, несуразными руками облапила Золотинку — девушка вскрикнула, цепляясь за веревку, толпа взревела.
Добрые руки высвободили ее из петли и опустили на землю. Жулио лизал ее языком. Она просела на подгибающихся ногах, обняла обезьяну и зарыдала, содрогаясь всем телом.
И от этих слез, от заразительного счастья и от горя горячая волна покаянного умиления окатила толпу. Поседелые в битвах мужики кусали губы. Бородатые ратники таили слезы друг от друга, трогая глаза покалеченной в драке беспалой рукой.
Но слезы нельзя было удержать, прорывались они там и тут всхлипами и рыданиями. И некая высшая сила бросила сечевика на колени:
— Благая царевна Жулиета! — задубелое лицо бритоголового мужика исказилось, он не смог продолжать.
Рыдания становились стоном, сладостным и мучительным.
— Прости, Жулиета, не помни зла! Прости нас бестолковых! В сундуке крошечная малютка! Младенчи-чик!
— Злая волшебница преступная жена Жулио, — неумолимо продолжал шут над мятущейся в покаянии толпой, — положила освободить юношу от заклятия за двадцать тысяч серебряных грошей. Жулио собрал до сих пор только девять тысяч восемьсот. Прошу по мере сил и достатка, кто сколько возможет, какую меру душа положит — прошу. Каждый грош дорог. Пожертвуйте на освобождение несчастного юноши.
Он поднял свалившуюся с обезьяны шапочку и двинулся сквозь толпу, прочувственно повторяя:
— В меру своих сил! Душа мера! От вашей щедрости! Благодарствуйте! Благодарствуйте!
Двойные и тройные гроши, целые пригоршни монет, серебро, веское золото и даже драгоценное узорочье переполняли маленькую шапочку. Так что шут принужден был черпать оттуда полной горстью и торопливо ссыпать в карманы, тоже, впрочем, не бездонные. В припадке исступленного умиления люди снимали перстни. Покрытые шрамами сечевики освобождались от серег и, взглянув на сиротливо стриженную царевну в объятиях обездоленного царевича, на мокрые щеки девушки и шутовской рот обезьяны, снова мазали по лицу рукавами.
Тогда как обезьяне надоели лобзания, и она начала ощутимо вырываться, больно цапая Золотинку. Опасаясь, что Жулио, отбросив приличия, даст деру по головам размякшего воинства, Золотинка не без испуга поглядывала на скоморохов — родственные объятия затянулись. Скоморохи же ничего не хотели замечать, алчный задор не позволял ни Галичу, ни Пшемыслу, двум старшим шутам, устоять на месте. Они сдернули шляпы и тоже пустили их по кругу, понимая, что каждое мгновение дорого. И только Люба, молодая подруга скоморохов, уловила умоляющий взгляд Золотинки.
Наконец, нужно было принять во внимание и то, что старшина крутил ус, обалдело оглядываясь, но, может статься, растерянность его была не вечной.
— Царевне дурно! — вскричала Люба, бросаясь к Жулиете.
Только тогда Золотинка сообразила, что совсем не обязательно из последних сил сопротивляться головокружительной слабости. Она закатила глаза и с благодарным чувством освобождения хлопнулась наземь.
Золотинка открыла глаза в залатанном и загроможденном всякой загадочной утварью шатре. Лихо стучал на барабане заяц. А снаружи плескалась голосами людская громада.
— Скажите ему, пусть не стучит, — прошептала она, когда ее стали укладывать на постель. — Бедная моя голова!
Зайцу ничего говорить не стали, просто отняли у него барабан.
— Где он? — шептала Золотинка, подрагивающими руками натягивая одеяло под самый подбородок. — Где он? Пусть не уходит. Скажите ему, пусть не уходит.
Его вернули, уразумев, что он — это не заяц, а спаситель. Темноволосый и темноглазый юноша со страстной складкой губ выразительного лица.
— Это я! — заявил юноша, в знак доказательства прикладывая к взлохмаченной макушке дурацкий колпак. — Он — это я. Меня зовут Лепель.
— Лепель, — прошептала Золотинка. — Сейчас. Сейчас я соберусь с мыслями. Дай мне руку.
И закрыла глаза.
И однажды был день, тот или другой. Лепель сидел перед сундуком и раскидывал карты, цыкая губами. Во сне Золотинка застонала, зашевелилась уже наяву — юноша вопросительно глянул. Она затихла и немного погодя снова приоткрыла ресницы. Темные глаза юноши живо пробегали по раскиданным картам, и каждый раз он чему-то удивлялся, посвистывая и вытягивая губы.
Обозначенные без малейших неясностей губы тоже нравились Золотинке. С легкой горбинкой нос выставлял заметные, словно бы вывернутые ноздри, но они не портили общего впечатления. Отдельные черты, слагаясь в чистое и определенное целое, являли признаки натуры подвижной и страстной.
Да, он всегда торопится, — вывела Золотинка, наблюдая беготню сбрасывающих карты пальцев. Это природное свойство как раз и бросило Лепеля ей на выручку прежде еще, чем он успел соизмерить свои силы с трудностями предприятия. И, не поторопившись, ничего, наверное, тогда и нельзя было достигнуть. И это удивительное свойство — торопиться — было нечто прямо противоположное трудной неподвижности Юлия… Этот — посвистывал, хотя на губах его еще не засохли запекшиеся ссадины.
Лепель оглянулся в сторону входа, и тогда Золотинка услышала голоса. На ярко освещенном полотнище парусины призрачно колебались размытые узоры листвы. А люди стояли дальше дерева. Их нетрудно было узнать: столичные лекари Шист и Расщепа. Несколько последних дней Рукосил присылал нарочного, чтобы осведомиться о самочувствии царевны Жулиеты. Конюший выказывал озабоченность, а вместе с ним и посланные им лекари. Лепель поспешно убрал карты и освободил сундук, потому что другого стола в палатке не имелось. Звякнул медный таз… Золотинка не открывала глаза. Без колебаний скинув покрывало, врачи обнажили больную, кто-то взялся прощупывать сквозь тонкую рубашку живот и выстукивать грудь. То же самое потом повторял другой.
— Обрати внимание, товарищ: пульс учащенный, дыхание прерывистое, кожные покровы утратили чувствительность. — Цепкие пальцы пребольно щипали Золотинку, она терпела.
Со смешанным чувством стыда и безнаказанности она подставляла себя праздному взгляду Лепеля, присутствие которого безошибочно ощущала в изголовье. Так же явственно, как ощущала собственное тело — задравшаяся рубашонка целиком обнажала ноги.
— Язык… Что за язык! — те же толстые пальцы беззастенчиво раздвинули рот и вытащили на свет язык. — Влажный, обесцвеченный, бледный налет… — Расщепа затолкал язык обратно и сомкнул Золотинке губы.
— Моча… Где моча? Эй, дружище, — обратился Расщепа к скомороху. — Ты приготовил мочу?
Род и Рожаницы! Лепель приготовил. Жидкость звучно полилась из сосуда в сосуд.
— Вялая моча. Никчемная.
— Запах ослабленный.
— Э-эй! Бросьте! — заволновался Лепель. — Бросьте вы эти присказки! Чтобы я не слышал! Не для того я девчушку из петли вынул… Лечите и все!
Золотинка осторожно приподняла веки: Шист, дородный малый с квадратно обвисшими щеками и квадратно обрубленной челкой, смерил шута многозначительным взглядом, пожал плечами и повернулся к товарищу. Мужчине во всех отношениях скорее округлому, чем квадратному.
— Мы не воскрешаем мертвых! — с особенной сердечностью в голосе сообщил Шист скомороху.
— И не умерщвляем живых, — в тон ему заметил Расщепа.
— На этом и сойдемся! — живо вставил Лепель.
Но щекастый Шист остановил его движением растопыренной пятерни, тоже толстой, почти квадратной.
— Послушай-ка, любезный, как тебя бишь… Во всяком деле требуется известная сноровка. Не так ли? — он покосился при этом на товарища, взгляд сопровождала беглая, в меру язвительная усмешка. — Вряд ли это мое дело: петь и плясать. Верно, это твое призвание. А я не настолько самоуверен, чтобы перекривлять тебя в твоем деле. Пере… мм… скоморошничать. Передурачить. Перепаясничать.
Поднявшись в свой полный, квадратный рост, взволнованный лекарь задел макушкой чьи-то деревянные ноги и с неприятным ознобом вскинул глаза, внезапно обнаружив над собой молчаливое сборище развешенных на веревочке человечков, которые покачивались, насупив зверские рожи.
— Вот так вот! — сказал он, быстро оправившись. Перевернул вверх тормашками раззолоченного царя со свирепо распушенной бородой и глубоко надвинул шапчонку на его гневливые глаза.
Но кто бы это стерпел! Оскорбленное Золотинкино сердце колотилось. И первым ощутил на себе ее мстительное чувство Расщепа.
Он замер, уронив челюсть, так что и рот приоткрылся. Нечто чуждое и небывалое обволакивало сознание, завладевало руками и ногами… Взгляд лекаря нашел заячий барабанчик… В изумлении перед собственным задорным ухарством Расщепа опустился на корточки, принял барабанчик на колени и застучал. Сначала медленно, а потом все живей и живей — увлекаясь.
— Перестаньте стучать! Вы известный врач! Стыдитесь! — с испугом прикрикнул на него Шист, но и тот уже не владел собой. Сердитым движением он ухватил медный рог, приставил к губам и, напыжившись, дунул. Звук вышел отвратительный — квакающий и скрипучий — ужас отразился на лице несчастного лекаря.
— Отнимите у меня трубу! — успел он выкрикнуть между двумя вздохами и снова застонал, загнусавил в рог. — Отнимите барабан! Тьфу! Трубу! — выкрикивал он, багровый от удушья, со слезами на глазах, но поделать ничего не мог, снова и снова принимался извергать омерзительные трубные звуки.
Расщепа же не в лад и не в погудку, самозабвенно, в упоительном безумии колотил крошечный барабанчик. Вой, грохот и стенания вперемешку закладывали уши. Набежавшие в палатку скоморохи ошарашенно переглядывались.
— А ведь и вправду смешно, — пробормотала Люба.
Седовласый Пшемысл, остававшийся у входа в палатку, протянул, покачивая головой:
— Это может иметь успех.
Усилие, которое требовалось Золотинке для представления, стало велико, она изнемогала, неистовствуя за двух упитанных мужчин, и отступилась. Труба вывалилась из разом ослабевших рук Шиста, он попятился и столкнулся с бочкой, почему и пришлось опуститься на нее задом. Безумная гримаса сошла с круглого лица Расщепы, сменяясь покаянным испугом. Лепель так и причмокнул от восхищения.
— Учитель, вы преподали мне урок! — истово сказал он. — Вы покорили меня! Если таких же высот вы достигли в собственном ремесле… Я снимаю шляпу.
Ни слова не вымолвил Шист, поднялся с бочки и слепо, с безумными дикими глазами двинулся к выходу. Следом поспешно рванул Расщепа.
— Больной требуется полный покой! — с беспредельным отчаянием в голосе выкрикнул Шист, удалившись на безопасное расстояние от палатки.
Люба укрыла Золотинку, скоморохи потянулись к выходу. Девушка приподнялась на локте, прислушиваясь к голосам. Вдруг кто-то из них предупредил изменившимся голосом: Рукосил идет!
Скоро Рукосил показал себя: уродливая тень легла на склон парусины, а рядом увивались размытые пятна собеседников.
— Несчастная малютка никак не опамятуется. Целыми днями стонет. Опасность не миновала, боярин. — Это был Лепель. Приторный до неузнаваемости голос. Скоморох обхаживал вельможу так бережно, вкрадчиво, словно имел основания опасаться и за его жизнь тоже.
— Что-нибудь говорит? — спросил Рукосил.
— Часто поминает твое имя, боярин, — сказал Лепель. — Получается, как бы с надеждой тебя поджидает.
«Что он мелет?» — Золотинка скомкала покрывало.
Рукосил — вот удивительно! — не нашелся и пробормотал нечто не весьма вразумительное.
— …И нуждается в усиленном питании, — мягко внушал Лепель. — Врачи настаивают: каждый день большой яблочный пирог на привозном сахаре. Вишневый пирог. Жареный поросенок, две курицы, гусь. И вина, много вина! Не меньше полубочки красного мессалонского каждый день.
— Не много ли будет?
— Никак нет, боярин! Наши женщины то и дело купают малютку в вине. Удивительное средство против лихорадки.
— Шист велел?
— Да мы и сами с усами. Кое-что повидали.
— Ладно, я распоряжусь.
Уродливая тень заскользила ко входу, но Лепель достал конюшего и напоследок.
— Жаркими губками малютка все шепчет в лихорадке: передайте, мол, вельможному Рукосилу, конюшенному боярину кравчему с путем и судье Казенной палаты… передайте… шепчет она. А что передать? Увы! Естественная стыдливость смыкает уста.
- Заря моя зорюшка,
- что ты рано взошла?
- Калина с малиной
- рано-рано цвела,
поет народ.
— Пошел вон, дурак!
Откидной полог дернулся, Золотинка бросилась на подушку и зажмурилась. Сердце больно зашлось, защемило и не давало вздохнуть.
Помешкав у входа — в палатке скоморохов он оказался впервые, — Рукосил прошел к низко разложенной постели и стал. Золотинка знала, что он смотрит. Зачарованная властным взглядом, она против воли приподняла веки… глаза ее открылись. Увидела его лицо снизу: хищный вырез черных ноздрей, усы торчком и острый, нацеленный в Золотинку угол бородки.
— Что у тебя с головой? — молвил Рукосил негромко.
— Болит.
Он присел на корточки, тронул висок, отчего Золотинка напряглась. Потом, помедлив, достал из ножен узкий кинжал и снова потянулся к голове. Отрезанную возле уха прядку ярко-золотистых волос Рукосил распушил в щепотке, задумчиво на нее воззрившись… Оглянулся и встал. Понадобилась кружка с водой — туда он бросил ее волосы. Золотинка наблюдала эти загадочные действия с предощущением чего-то неладного, хотя и представить не могла, откуда ей ждать напасти.
— Смотри, — особенным, торжественным голосом молвил Рукосил, наклонив кружку над земляным полом. Вода полилась. — Они на дне! — он предъявил ей опрокинутое на бок нутро кружки. Волосы осели тяжелым блестящим узором.
— Это золото.
Все равно она не понимала.
— Твои волосы обратились в золото.
Щепотка сверкающих желтых нитей пересыпалась в ладонь и Золотинка с недоверием ощутила их осязательную тяжесть.
— Ты позолотела, считай что, на четверть, — тихо промолвил он, запуская пятерню под корни ее волос. — Как сорокалетняя женщина.
Зеркало показало ей в густой уже гривке блестки золотых прядей — проседь. А виски, те совсем поседели — заблистали неестественной желтизной.
— Что это? — прошептала она расслабленно.
— А ты думала даром по воде бегать? Яко по суху? — воскликнул вдруг Рукосил с неожиданным и неоправданным, казалось, ожесточением. Он встал. — Куда ты от меня убежишь?! Я тебя породил. И без меня ты сгоришь. Растворишься в золотом свете.
Дрожащей рукой, не опуская и зеркала, Золотинка перебирала волосы: золото скользило между пальцами, упругое и податливое, но все равно не живое. Она подавленно глянула на чародея.
— Сначала позолотеет голова, потом ногти, — заговорил Рукосил, медлительно вдавливая слова. Подобрав заячий барабанчик, он взялся выстукивать редкий и жесткий лад: бам!.. бам! — с томительными промежутками. — Кончики пальцев онемеют и тоже обратятся в золото. — Бам! — Всё понемногу — в камень. — Бам!
— И самая смерть придет в золотом обличье. — Бам! — Конечности утратят подвижность и замрут… Навсегда сомкнутся уста. Лицо застынет, как хладеющая личина. — Бам! — И тогда даже глаза, пока еще живые глаза на золотой маске, не смогут выразить леденящий душу ужас. Ты обратишься в золотого болвана.
Рукосил оставил барабан и наклонился совсем близко.
— Что побледнела? Молчишь? А ну как, — зашептал он, — примутся тебя распиливать на куски, чтобы переплавить, и за слоем золотой стружки хлынет живая кровь? Как?
Чисто вымытое лицо его склонилось еще ниже, касаясь Золотинки дыханием… Она вжалась в подушку… рука ее, шевельнувшись обок с постелью, нащупала рукоять увесистого, как молоток, зеркала. Движение это не укрылось от Рукосила. Он резко выпрямился. Все было спрошено и отвечено без единого слова, и теперь оба имели возможность притворяться, что ничего не произошло.
Рукосил заходил по палатке, резко огибая сундуки и наступая на рухлядь.
— Восприимчивая девочка и способная! — заговорил он спокойно. — Но прими в соображение: ты совершаешь самоубийство! Ты расходуешь себя варварски. За каждое волшебство расплачиваешься частичкой собственной жизни. Каждое чародейство отзывается золочением. Вот что пойми: все в мире взаимосвязано. Волшебник тот, кто постигает единство мира и учится воздействовать на него в некоторых точках, где обнажается взаимосвязь явлений. Постигая внутреннюю природу сокровенного, ничтожным усилием он приводит в действие титаническую мощь. Это и есть колдовство. А то, что ты делаешь, дикость! Оскорбление истинной науки! Скажи, — повернулся он, — можешь ты по своему произволу повторить эту штуку: бежать, не касаясь земли?
— Я вообще не понимаю, как это сделалось. — Золотинка сидела, закутавшись в покрывало по горло.
— Ага! То-то! — воскликнул Рукосил с несколько деланным торжеством. — Если что получается, то по невежеству. Чтобы сознательно сделать… о! нужно пройти большой путь.
В горячих его рассуждениях она уловила ревность. Она поняла это противоречивое и трудное чувство, что владело им сейчас, заставляя выдавать затаенное. В чувстве этом была зависть, было ощущение ревнивого превосходства, было нечто от злобного недоброжелательства и от восхищения — то была пугающая смесь любви и ненависти.
— А если я не буду больше волховать?
Конюший пожал плечами:
— Попробуй. Хотел бы я посмотреть, как это у тебя выйдет. Ты не в состоянии отделить чародейство от непроизвольного желания. Чтобы отказаться от волшебства, — продолжал он с уверенностью, — тебе нужно отказаться от всякого сильного желания. Со всей возможной тщательностью избегать малейших проявлений страсти. Отказаться от самой себя, в конце концов. Но как убежишь от самой себя? Как обуздаешь проснувшийся дух? Твой дар — твое проклятие. Ты обречена.
— А что говорят Дополнения? — спросила Золотинка бесконечно спокойным, неживым голосом.
— Ничего! — отрезал Рукосил. — Об этом нигде не написано. Ни в новых, ни в старых, ни в новейших дополнениях — нигде ты этого не прочтешь! Ты мое открытие! Ты мое создание, мое творение, моя вещь! Я тебя создал! Потому что я гений и мне нет равных! Я один! — голос его гремел раскатами.
— Хорошо, — раздумчиво сказала Золотинка. Разговор занимал ее гораздо больше, чем она решилась бы это показать. — Почему тогда не свериться с «Последними откровениями» Ощеры Ваги?
— Чушь! — фыркнул Рукосил, непонятно с какой стати озлобляясь. — Никаких «Откровений» не существует! Сказки для деревенских колдунов! Есть старые, новые, новейшие дополнения. Есть толкования к дополнениям. Есть толкования к толкованиям. Есть краткий извод дополнений и есть полный. Все есть! Самих откровений только нет и никогда не было! В дополнениях суть!
Золотинка слушала отстраненно, и Рукосил ощущал это.
— Я твой творец, ты моя собственность! — он схватил брошенный на сундук барабанчик и ударом кулака пробил его тугое днище. — Живой ты не достанешься никому!
— Я буду иметь это в виду, — заметила она, поднимая глаза.
Он остановился, вглядываясь, чтобы понять смысл и значение напускного спокойствия… И ничего напускного не увидел.
— Собственно, — сказала она, пожимая плечами, — ты не пришел ко мне на помощь, когда сечевики хотели вздернуть меня за излишнюю прыть и поспешность. Я больше ничем тебе не обязана.
— А ты этой помощи просила? — вскричал Рукосил. — Попроси! И весь мир будет к твоим ногам.
— А где Тучка?
— Я уже отдал распоряжение, чтобы Тучку освободили, — без запинки отвечал Рукосил. — «Фазан» ушел вместе со всеми судами, но я велел, чтобы Тучку твоего вернули. С него снимут цепи, и он придет. Нянькайтесь друг с другом, сколько влезет.
— А Поплева?
Он был готов к вопросу.
— Разумеется, и Поплева. Я ничего не забываю. Мои люди будут его искать.
— Я просила освободить его.
— Ничего не знаю об этом человеке.
— Миха Лунь знает. А Миха у тебя в плену. Он превращен в вещь и валяется где-нибудь среди хлама. — В глубине зрачков чародея что-то вздрогнуло. — Позволь мне поговорить с Михой, и тогда, может быть, не нужно будет устраивать вселенских поисков.
— Но ведь и ты могла бы мне чем-нибудь помочь.
— Чем?
— Какой-нибудь пустяк. Просто свидетельство доброй воли. Курники наступают большой силой…
— Курники? — удивилась Золотинка.
— Курниками называют теперь сторонников Милицы. Потому что колобжегские курники оказались среди самых верных и рьяных. Колобжег первым изъявил Милице покорность. Епископ Кур Тутман назначен патриархом всея Словании. Войска столичных курников превосходят наши в три-четыре раза.
— Но я-то причем?
— Какое-нибудь пустячное волшебство в нашу пользу. Ничего большего мне от тебя не нужно.
— И ради этого я должна пожертвовать частицей собственной жизни? Немалой, наверное, если речь идет о целом войске.
Готовый уж было возразить, Рукосил смолчал. Застыл, наклонив голову.
— Хорошо. Я подумаю над твоей просьбой. Миха Лунь валяется у меня в Каменце, это в предгорьях Меженного хребта. Не так далеко отсюда. Но не могу же я все бросить и по первой твоей прихоти мчаться в Каменец! Я подумаю, и ты подумай.
На руке у него был Асакон.
— До свидания, — сказал Рукосил.
Нагнулся и уверенно поцеловал ее в губы.