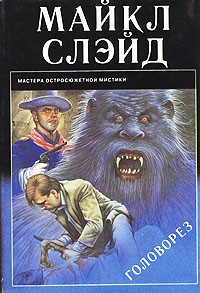Кровь и золото Райс Энн

Мальчик с каштановыми волосами, получивший имя Амадео, спокойно взирал на меня, пока Риккардо говорил. И снова повторил по-русски – так, чтобы другие мальчики не слышали: Мастер.
Ты мой. Таков был мой ответ. Эти теплые слова я передал ему по-русски с помощью Мысленного дара. Вспоминай. Кем ты был прежде, чем попал сюда? Прежде, чем тебя обидели? Возвращайся. Возвращайся к иконе. Возвращайся к лику Христа, если понадобится.
На его лице отразился испуг. Риккардо, не представлявший себе причины, быстро взял его за руку. Риккардо принялся называть вслух различные нехитрые предметы, стоявшие на столе. А Амадео, словно пробудившись от ночного кошмара, улыбнулся Риккардо и стал повторять за ним слова.
Четкий приятный голос, уверенное произношение, живой взгляд карих глаз.
– Обучите его всему, – обратился я к Риккардо и к собравшимся учителям. – Пусть он изучает искусство танца, фехтование, но прежде всего – живопись. Покажите ему все картины, что есть в доме, все скульптуры. Покажите ему город. Пусть он досконально изучит Венецию.
Потом я один удалился в мастерскую.
Я быстро смешал темперу и написал небольшой портрет Амадео – таким, каким увидел его за ужином, в изящной тунике из синего бархата, с блестящими, аккуратно причесанными волосами.
Горестные раздумья жгли меня как огонь. Дело в том, что моя убежденность пропала.
Как отобрать у мальчика чашу, к которой он едва успел притронуться? Я вернул к жизни полумертвое существо. Я собственными руками похитил у себя Сына Крови, построив для него блистательные планы.
С этого момента Амадео еще много месяцев принадлежал свету дня. Да, он должен испробовать каждую возможность, чтобы стать тем, кем захочет!
Но в душе, втайне от остальных, ничем не выдавая себя, Амадео считал, что всецело принадлежит мне.
Эта ситуация таила в себе большое и ужасное противоречие.
Я отказался от всяких притязаний на Амадео. Я не мог приговорить его к Темной Крови, невзирая на мое одиночество и на его былые страдания. Он должен иметь шанс проявить себя среди подмастерьев и преподавателей моего дома, а доказав свое превосходство – в чем я не сомневался, судя по его сообразительности и живости ума, – получить возможность поступить в университет Падуи или Болоньи, куда один за другим отправлялись теперь мои ученики.
Но поздно вечером, когда кончались занятия, когда младшие мальчики отправлялись спать, а старшие завершали свои дела в студии, я не мог противостоять искушению и забирал Амадео в спальню, где покрывал его плотскими поцелуями, сладостными и бескровными, – поцелуями страсти, и он отдавался мне безоглядно.
Его покорила моя красота. Нескромно говорить так о себе? Я в этом не сомневался. Мне не требовался Мысленный дар, чтобы ослепить его. Он меня обожал. И хотя картины мои приводили его в ужас, в глубине своей бездонной души он с готовностью боготворил мой так называемый талант – искусные композиции, яркие краски, скорость работы.
Конечно, он никогда не рассказывал обо мне остальным. А мальчики, без сомнения знавшие, что мы часами просиживали в спальне, не смели гадать, что между нами происходит. Винченцо же понимал, что лучше никоим образом не касаться наших странных взаимоотношений.
Между тем память к Амадео не возвращалась. Он не мог рисовать, не мог прикоснуться к кисти. Краски будто жгли ему глаза.
Но остротой ума он превосходил всех остальных мальчиков. Он быстро выучил латынь и греческий, чудесно танцевал, любил упражняться с рапирой. Вскоре он уверенно и без ошибок стал писать на латыни.
По вечерам он вслух читал мне свои стихи. Он пел, тихо аккомпанируя себе на лютне.
Я сидел, облокотившись, у стола, и слушал его негромкую размеренную речь.
Он всегда безупречно причесывался, безукоризненно одевался, а пальцы его были, как у меня, унизаны кольцами.
Неужели люди не считали его мальчиком на содержании? Моим фаворитом, любовником, тайным сокровищем? Даже в Древнем Риме, гнездилище пороков, раздавался бы шепот, смешки, издевки.
В Венеции в отношении Мариуса Римского ничего подобного не наблюдалось. Но у Амадео имелись свои подозрения – не в отношении поцелуев, которые давно уже казались ему чересчур целомудренными, но в отношении человека, словно вырезанного из мрамора, человека, ни разу не отобедавшего за собственным столом, ни разу не выпившего ни капли вина из кубка, ни разу не появившегося под крышей своего дома при свете дня.
Помимо этих подозрений, я заметил, что Амадео охватывает растущее смятение – воспоминания подбирались все ближе, а он отталкивал их, подчас просыпаясь рядом со мной и изводя меня поцелуями, в то время как я предпочитал подремать подольше.
Однажды, когда стояла ранняя зима и вечер был особенно прекрасен, я пришел поздороваться со своими учениками, и Риккардо рассказал, что повел Амадео в гости к прелестной доброй Бьянке Сольдерини, а та оказала им достойный прием и пришла в восторг от стихов Амадео и от сочиненных прямо на месте импровизаций, воспевавших ее красоту.
Я заглянул в глаза своего Амадео. Бьянка его очаровала. Как я его понимал! Мальчики рассказывали о ее приятных манерах и об удивительных благородных господах, посещавших ее дом, а мной овладевало странное настроение.
Бьянка прислала мне записку:
«Мариус, я скучаю. Приходи поскорее и приводи с собой мальчиков. Амадео так же умен, как и Риккардо. У меня повсюду твои портреты. Все интересуются личностью написавшего их художника, но я не отвечаю – ведь я на самом деле ничего не знаю. С любовью, Бьянка».
Я поднял глаза от записки и заметил, что Амадео испытующе наблюдает за мной.
– Ты знаком с ней, Мастер? – спросил он, удивив молчавшего Риккардо.
– Да, и тебе это известно, Амадео. Она рассказала тебе, что я приходил с визитами. Ты видел у нее мои картины.
Я ощутил в нем внезапный прилив яростной ревности. Но лицо его не изменилось. «Не ходи к ней!» – взывала ко мне его душа. Я знал: он хочет, чтобы Риккардо ушел и мы остались наедине в постели под сенью бархатного полога.
Он обладал упрямством и неизменно проявлял его в наших с ним отношениях. И тем самым бесконечно искушал меня, вызывал во мне безоговорочную преданность.
– Но я хочу, чтобы ты вспомнил, – неожиданно обратился я к нему по-русски.
Он был потрясен, но не понял моих слов.
– Амадео, – произнес я на венецианском диалекте, – вспомни, что было до того, как ты попал сюда. Вспоминай, Амадео. Каков был твой мир?
Кровь прилила к его щекам. Он очень расстроился. Как будто я его ударил.
Риккардо протянул к нему руку, чтобы успокоить.
– Мастер, – сказал он, – ему слишком тяжело.
Амадео сидел как парализованный. Я поднялся с кресла, обнял его и поцеловал в волосы.
– Ладно, забудь обо всем. Пойдем к Бьянке. Этот час ей больше всего по душе.
Риккардо изумился, что я позволил ему так поздно выйти в город, Амадео по-прежнему не мог прийти в себя.
Бьянку плотной толпой обступали болтливые гости. Среди них были флорентинцы и англичане.
Увидев меня, Бьянка расцвела. Она отозвала меня в сторону, ближе к спальне, где, словно на сцене, стояла богато украшенная кровать, увенчанная лебедем.
– Наконец-то! – воскликнула она. – Я так рада тебя видеть! Ты не представляешь, как я соскучилась. – Она умела найти теплые слова. – В моем мире нет места другому художнику, Мариус. – Она хотела поцеловать меня, но я не стал рисковать. Я наклонился, поспешно приложился губами к ее щеке и отстранился.
Чарующее обаяние! Глядя в ее овальные глаза, я оказывался в мире картин Боттичелли. В руках моих каким-то образом снова оказывались темные ароматные пряди волос Зенобии, собранные на полу дома, что находился на краю света.
– Бьянка, дорогая моя! – ответил я. – Я готов открыть свой дом, если ты будешь принимать гостей. – Слова, сорвавшиеся с моих губ, потрясли прежде всего меня самого. Я не знал, что хотел этим сказать. Но продолжал развивать безрассудную мечту: – У меня нет ни жены, ни дочери. Открой мой дом навстречу миру!
Выражение триумфа на ее лице стало самым лучшим подтверждением. Да, так я и сделаю.
– Я всем расскажу, – тотчас ответила она. – Да, я буду принимать твоих гостей с удовольствием, но ты обязательно должен присутствовать.
– Можно ли принимать гостей по вечерам? – спросил я. – Не в моем обычае выходить днем. Пламя свечей подходит мне больше, чем солнечный свет. Назначай вечер, Бьянка, а мои слуги все приготовят. У меня на каждой стене картины. Ты же понимаешь, я никому их не продаю. Я работаю ради удовольствия. А блюда и напитки я приготовлю по твоему вкусу.
Она была очень довольна. Украдкой я взглянул на Амадео и увидел, что он не сводит с нее глаз, наслаждаясь ее видом, наслаждаясь видом нас обоих, несмотря на уколы ревности.
Риккардо вовлекли в разговор мужчины старше его: они говорили ему комплименты, восхищались его красивым лицом.
– Скажи, что поставить на стол, – продолжал я. – Скажи, какие вина подавать. Моя прислуга будет подчиняться тебе. Я все сделаю, как ты скажешь.
– Какая прелесть! – отвечала она. – Обещаю, у тебя соберется вся Венеция, самое чудесное общество. Люди все время о тебе спрашивают. О чем они только не шепчутся! Ты даже не представляешь, какой восхитительный получится прием.
Так все и вышло.
Через месяц я отворил двери палаццо всему городу. Это событие не шло ни в какое сравнение с пьяным угаром ночей в Древнем Риме, когда гости валялись на кушетках и расставались в саду с содержимым желудков, а я как безумец расписывал стены.
О да, по прибытии я обнаружил толпу добропорядочных, прекрасно одетых венецианцев. Конечно, мне задавали тысячу вопросов. Мои глаза затуманились; я воспринимал смертные голоса как поцелуи. «Ты здесь свой, – думал я. – Они принимают тебя за равного. Ты как будто ожил».
Так пусть критикуют мои работы! Да, я старался, чтобы получилось как можно лучше, но энергия жизни несравненно важнее!
И в центре, окруженная моими любимыми картинами, стояла прелестная белокурая Бьянка, свободная от тех, кто толкал ее на неверный путь, – Бьянка, всеми признанная хозяйка моего дома.
Амадео молча взирал на происходящее недовольными глазами. Прошлое снедало его изнутри злокачественной опухолью, но он не мог ни вспомнить его, ни понять.
Не прошло и месяца, как на закате я нашел его, совершенно больного, в большой церкви на соседнем острове Торчелло, куда он, по всей видимости, забрел в полном одиночестве. Я поднял его с холодного сырого пола и отнес домой.
Разумеется, я понял, в чем дело. Там находились иконы, написанные в стиле его собственных работ. Там находилась старинная мозаика, возраст которой превышал несколько веков, – похожую мозаику он видел в детстве в русских церквах. Он не вспомнил. Он просто набрел в своих скитаниях на древнюю истину – хрупкие, застывшие византийские картины – и, разгоряченный, заработал лихорадку. Я чувствовал жар на его губах, видел огонь в его глазах.
Наступил рассвет, ему не становилось лучше, но мне пришлось оставить его на попечение Винченцо. На закате я поспешил к его постели.
Причиной горячки послужил воспаленный рассудок. Спеленав Амадео как младенца, я отнес его в венецианскую церковь показать дивные картины с пышущими здоровьем персонажами, написанные в последние годы.
Но я убедился, что мои методы бесполезны. Мне никогда не удастся расширить его кругозор, изменить восприятие. Я отнес его домой и снова уложил на подушки.
Я попытался понять его как можно глубже.
Он родом из карающего мира аскетической преданности. Живопись для него лишена радости. Да и вся жизнь на Руси настолько сурова, что он до сих пор не может отдаться удовольствиям, ожидающим здесь на каждом углу.
Осаждаемый непостижимыми воспоминаниями, он медленно, но верно двигался навстречу смерти.
«Я этого не допущу! – Я мерил комнату шагами, поворачивался к тем, кто ухаживал за ним. Я ходил взад-вперед, шепча про себя гневные слова: – Я этого не допущу. Я не позволю ему умереть».
Строго приказав всем выйти из спальни, я склонился над ним и, прокусив язык, наполнил рот кровью, а потом тонкой струйкой окропил его губы.
Он вздрогнул, облизал губы, и в тот же миг ему стало легче дышать, а щеки окрасились румянцем. Я потрогал его лоб. Горячка спала. Он открыл глаза, посмотрел на меня, произнес свое любимое «Мастер», а потом спокойно, без видений и кошмаров, уснул.
Довольно. Я отошел от кровати. Я открыл объемистый дневник и скрипящим пером сделал поспешную запись:
«Он неотразим, но что же мне делать? Однажды я уже заявил на него свои права, объявив, что он принадлежит мне, а теперь я лечу его недуги кровью, которую с удовольствием передал бы ему до капли. Но, врачуя его, я исцеляю его не для себя, а для мира».
Я закрыл книгу, ненавидя себя за то, что дал ему Кровь. Но она вылечила его. Это точно. И заболей он снова, я повторю лечение.
Время летело слишком быстро.
События мелькали с невероятной скоростью. Моя былая убежденность пошатнулась, а красота Амадео возрастала с каждой ночью.
Учителя повезли мальчиков во Флоренцию посмотреть местную живопись. И, вернувшись домой, ученики принялись за учебу с еще большим вдохновением.
«Да, они увидели работы Боттичелли – потрясающе! Мастер до сих пор пишет? Да, но его живопись практически целиком посвящена религии. Дело рук Савонаролы, строгого монаха, осуждавшего флорентинцев за светский образ мыслей. Савонарола пользуется во Флоренции большим авторитетом. Боттичелли верит в Савонаролу и считается одним из его последователей».
Я глубоко опечалился. По правде говоря, я чуть не обезумел от бешенства. Но знал: что бы ни рисовал Боттичелли, все выйдет изумительно. А успехи Амадео становились моим утешением – скорее даже приводили меня в приятное замешательство.
Амадео превратился в самого выдающегося ученика моей маленькой академии. Я нанял для него преподавателей философии и юриспруденции. Он на удивление быстро вырос из старой одежды, научился поддерживать живую светскую беседу и стал любимцем младших мальчиков.
Почти каждую ночь мы проводили у Бьянки. Я свыкся с обществом утонченных незнакомцев – бесконечным потоком европейцев с севера, приезжавших в Италию, чтобы открыть для себя загадку ее древнего очарования.
Очень редко мне приходилось наблюдать, как Бьянка протягивает злополучному гостю чашу с отравленным вином. Очень редко мне доводилось слышать, как бьется ее темное сердце, замечать тень греха в самой глубине глаз. Как она следила за беспечной жертвой, с какой легкой душой провожала ее!
Тем временем наши встречи с Амадео в моей спальне носили все более интимный характер. И не раз, обнимая его, я дарил ему Поцелуй Крови, от которого все тело его содрогалось, а в полузакрытых глазах отражалась сила бессмертия.
Что за безумие? Отдать его миру или забрать с собой?
Я долгое время предпочитал обманывать себя, то и дело повторяя, что мальчик еще может проявить характер и заработать свободу – уехать в богатстве и здравии, навстречу новым достижениям.
Но я отдал ему столько Темной Крови, что он начал изводить меня вопросами. Что я за существо? Почему никогда не прихожу днем? Почему ничего не ем и не пью?
Он обвивал руками живую тайну, зарывался лицом в шею чудовища.
Я отправил его в лучшие бордели постигать наслаждения женщин и наслаждения мальчиков. Он возненавидел меня, но получил удовольствие и вернулся домой, не ища иных услад, кроме Поцелуя Крови.
Он говорил мне колкости, когда я неистово работал в студии, не допуская никого, кроме него, чтобы создать новый пейзаж или изобразить собрание древних героев. Он спал рядом со мной, когда я падал в кровать, чтобы проспать последние часы перед рассветом.
Между тем мы снова и снова устраивали в палаццо приемы. Бьянка, исполненная самообладания, выросла и, сохранив нежное лицо и мягкие манеры, превратилась из юной многообещающей прелестницы в элегантную женщину.
Я часто ловил себя на том, что смотрю на нее и думаю, чем бы кончилось наше знакомство, не обрати я внимание на Амадео. Неужели я не уговорил бы ее, не нашел бы убедительных слов? А потом, рассуждая логично, я, глупец, понимал, что все равно могу сделать выбор в ее пользу и изгнать Амадео из своей жизни, подарив богатство и положение в обществе, но обрекая на смертность.
Нет, она спасена.
Мне нужен был Амадео – Амадео, кого я обучал и воспитывал; Амадео, бесценный ученик Крови.
Ночи мчались, словно во сне. Несколько мальчиков отправились в университет. Один преподаватель умер. Винченцо хромал, но я нанял человека ему в помощь. Бьянка перевесила на другие места кое-какие большие картины. Воздух потеплел, и окна стояли открытыми. Мы собирались пировать на крыше. Мальчики пели.
Не было случая, чтобы я забыл воспользоваться мазями и затемнить кожу, дабы походить на человека. Не было случая, чтобы я не втер их в лицо и ладони. Не было случая, чтобы я не украсил одежду дорогими каменьями и не надел кольца, чтобы отвлечь внимание. Не было случая, чтобы я подошел слишком близко к ярким свечам или к факелу при входе или на набережной.
Я отправился в святилище Тех, Кого Следует Оберегать, и предался медитации, излагая Акаше суть своих желаний и переживаний:
«Мне нужен этот мальчик – мальчик, который теперь стал на два года старше; и в то же время я хочу подарить ему настоящую жизнь. Душа моя разрывается, сердце раскалывается надвое».
Никогда раньше я не мечтал о том, чтобы сотворить себе бессмертного спутника, чтобы фактически воспитать юного смертного и мастерски его подготовить для подобной судьбы.
Но теперь мне захотелось поступить именно так – и мысли об этом не давали мне ни минуты покоя. Я смотрел на холодных как лед Мать и Отца и не находил утешения. Я не дождался ответа на свои молитвы.
Я уснул в святилище, но увидел только мрачные, тревожные сны.
Я увидел сад, тот самый, что всегда рисовал на стенах. Я, как и прежде, ходил по саду, и на нижних ветвях деревьев висели спелые фрукты. Потом появился Амадео. Он шел рядом со мной, но вдруг с его губ сорвался ужасающий жестокий смех.
«Жертва? – спросил он. – Ради Бьянки? Как же так?»
Я вздрогнул и проснулся, тряся головой и растирая плечи, чтобы очнуться от кошмара.
– Я не знаю ответа, – прошептал я, словно он стоял рядом, словно его дух проник сюда, в святилище. – Просто мы встретились, когда она уже была женщиной – образованной, познавшей жизнь, настоящей убийцей, да, настоящей убийцей, совсем юной, но повинной в тягчайших преступлениях. А ты... Ты был беспомощным ребенком. Я мог изменить тебя, мог вылепить таким, каким хотел, – что я и сделал.
Да, я решил, что ты художник, – продолжал я, – что у тебя талант к живописи, я знаю, что твой дар никуда не исчез; признаться, это тоже на меня повлияло. В любом случае, не знаю, почему ты сбил меня с толку – так уж вышло.
Я опять опустился на пол и небрежно улегся на бок, глядя в поблескивающие глаза Акаши, всматриваясь в резкие черты лица Энкила.
Мне вспомнилась Эвдоксия, погибшая много веков назад. Вспомнилась ее чудовищная смерть. Вспомнилось, как горело ее тело на полу храма – там, где теперь лежал я.
Я подумал о Пандоре – где она?
И с этими мыслями уснул.
Я вернулся в палаццо, по обыкновению спустившись с крыши, и обнаружил, что все не так гладко, как мне хотелось бы. Собравшиеся за ужином хранили торжественное молчание, а Винченцо взволнованно сообщил, что ко мне приехал с визитом «странный человек» – он остался в передней и не желает проходить в комнаты.
В передней в тот момент мальчики как раз заканчивали одну из моих фресок. Они торопливо вышли, оставив «странного человека» одного. Остался только Амадео – он без особенного энтузиазма занимался какими-то мелочами, не сводя глаз со «странного человека», и Винченцо забеспокоился.
Более того – ко мне заходила Бьянка, чтобы передать подарок из Флоренции: маленькую картину Боттичелли. Она вступила со «странным человеком» в «неловкую беседу» и после велела Винченцо приглядывать за ним. Бьянка ушла. «Странный человек» остался. Я поспешил в переднюю, но, еще не видя гостя, безошибочно почувствовал его присутствие.
Маэл!
Я бы узнал его с закрытыми глазами. Он совершенно не изменился, совсем как я. Он не обращал ни малейшего внимания на современную моду, точь-в-точь как и прежде никогда не интересовался, как одеваются смертные.
Выглядел Маэл, честно говоря, кошмарно: поношенная куртка из сыромятной кожи, дырявые чулки и подвязанные веревкой башмаки.
Спутанные грязные волосы нуждались в уходе, но лицо хранило на удивление приятное выражение. Увидев меня, он тотчас подошел меня обнять.
– Это и правда ты, – тихо произнес он на древней латыни, словно под моей крышей принято было шептаться. – Я слышал, но не верил. Как же я рад тебя видеть! Хорошо, что ты по-прежнему...
– Да, понимаю, о чем ты, – ответил я. – Я по-прежнему наблюдаю за течением времени. Я очевидец истории, выживший благодаря Крови.
– Я бы никогда так хорошо не сказал, – вздохнул Маэл. – Но, повторяю, очень рад тебя видеть, рад слышать твой голос.
Я заметил, что Маэл весь в пыли. Он осматривал комнату, обращая внимание на расписной потолок с изображением хоровода херувимов и золотого листа, на незаконченную фреску. Понимал ли он, что это моя работа?
– Маэл, тебя по-прежнему легко удивить, – сказал я, ласково отодвигая его в сторону, подальше от света. – Но ты похож на бродягу.
Я негромко рассмеялся.
– Опять предлагаешь мне одежду? – спросил он. – Сам знаешь, я в таких вещах не разбираюсь. Надо бы, наверное. А ты, как всегда, прекрасно устроился. Неужели для тебя открыты все тайны, Мариус?
– Для меня всякая мелочь – тайна, Маэл, – ответил я. – Но приличная одежда всегда найдется. Даже конец света не застанет меня врасплох – я буду при полном параде как при свете дня, так и в ночной тьме.
Я взял его под локоть и провел по анфиладе просторных комнат, остановившись у спальни. Как я и предполагал, картины вселили в него благоговение.
– Я хочу, чтобы ты оставался здесь, подальше от моей смертной компании, – сказал я. – Ты их смущаешь.
– Как же у тебя все продумано, Мариус! – воскликнул он. – В Древнем Риме было проще, правда? Но тут у тебя целый дворец. Тебе, Мариус, и король позавидует!
– Похоже на то, – небрежно ответил я.
Я отворил смежные со спальней чуланы, скорее напоминавшие небольшие комнаты, и достал для него одежду и кожаные башмаки. Он не в состоянии был одеться сам, но я отказался помогать ему. Я выложил предметы туалета по порядку на бархатной постели, словно перед ребенком или перед идиотом, и он начал изучать их, прикидывая, как справиться с каждым самостоятельно.
– Кто тебе рассказал, где меня искать, Маэл? – спросил я.
Он бросил на меня быстрый взгляд, и лицо его на мгновение застыло. Ястребиный нос по-прежнему не вызывал симпатии, в глубоко посаженных глазах появился новый блеск, а рот приобрел более приятные очертания – в моих воспоминаниях он был совсем иным. Возможно, время смягчило его форму. Не уверен, что так бывает. Но стоявший передо мной бессмертный выглядел вполне привлекательно.
– Ты сказал, что слышал, где я живу, – напомнил я. – Кто тебе рассказал?
– Да так, один глупец. – Он пожал плечами. – Маньяк, поклонник сатаны. Его зовут Сантино. Неужели они так и не вымрут? Дело было в Риме. Представляешь, он предложил мне к ним присоединиться!
– Что же ты его не прикончил? – уныло спросил я.
Что за мрачная пропасть снова пролегла между мной и сидевшими за ужином мальчиками, учителями, рассказывающими о проведенных занятиях! Как же мне хотелось вернуться в мир света и музыки!
– Раньше, сталкиваясь ними, ты не отпускал их живыми. Что тебя остановило?
Он пожал плечами.
– Какое мне дело до Рима? Я и ночи там не провел.
Я покачал головой.
– А откуда он узнал, что я в Венеции? Я даже шороха не слышал!
– Я же здесь, – резко ответил он, – но ты и меня не слышал, правда? Не считай себя непогрешимым, Мариус. Вокруг тебя сплошные увеселения да развлечения. Наверное, ты плохо слушаешь.
– Ты прав, но мне любопытно – откуда он узнал?
– В твой дом приходят смертные. Смертные много болтают. Возможно, эти смертные ездят в Рим. Все дороги ведут в Рим – разве не помнишь? – Естественно, он поддразнивал меня, но вел себя довольно мягко, если не сказать дружелюбно. – Ему нужна твоя тайна, Мариус. Он буквально умолял меня объяснить загадку Тех, Кого Следует Оберегать.
– Ты же не поддался на уговоры, Маэл? – спросил я, снова начиная ненавидеть его так же горячо, как в былые ночи.
– Нет, не поддался, – спокойно ответил он. – Но я посмеялся над ним и не стал ничего отрицать. Видимо, стоило бы, но чем старше я становлюсь, тем сложнее мне дается любая ложь.
– Прекрасно тебя понимаю, – сказал я.
– Разве? Посмотри на своих красивых смертных деток! Должно быть, ты лжешь как дышишь, Мариус. А как ты смеешь выставлять свои картины перед смертными, зная, что их жизнь коротка, что им нечего тебе ответить? Если хочешь знать, это сплошное вранье.
Я вздохнул.
Он расстегнул куртку и разделся.
– Почему я воспользовался твоим гостеприимством? – спросил он. – Мне нечего сказать. Наверное, я считаю, что ты, угостившись разнообразными смертными удовольствиями, вполне в состоянии помочь ближнему, потерявшему счет времени, скитающемуся по городам и странам, – тому, кому иногда случается восхититься чудесами мира, а в остальное время ветер застилает ему глаза пылью.
– Можешь говорить себе все, что душе угодно, – ответил я. – Я с удовольствием предоставлю тебе одежду и кров. Но расскажи мне, что случилось с Авикусом и Зенобией? Они путешествуют вместе с тобой? Тебе известно, где они?
– Понятия не имею, – отвечал он, – и не сомневаюсь, что ты уже все почувствовал. Я так давно их не видел, что утратил счет годам и столетиям. Это Авикус ее настроил, вот они и уехали. Оставили меня в Константинополе одного. Не могу сказать, что я очень удивился. Перед расставанием мы совсем охладели друг к другу. Авикус любил ее. Она любила его больше, чем меня. Что еще нужно?
– Мне очень жаль.
– Почему? – спросил он. – Ты оставил нас втроем. Хуже того, ты оставил ее с нами. Мы так долго были вдвоем, а ты навязал нам Зенобию.
– Черт побери, прекрати упрекать меня во всех своих несчастьях! – прошипел я. – Ты когда-нибудь перестанешь меня обвинять? Неужели я подстроил каждую ловушку на твоем пути, Маэл? Что мне сделать, чтобы получить отпущение грехов и избавиться от твоих попреков? Ты сам, Маэл, своими руками, – прошептал я, – вырвал меня из смертной жизни и притащил, совершенно беспомощного, в проклятую рощу друидов!
Я старался говорить тише, но ярость лилась из меня безудержным потоком.
Он искренно изумился.
– Значит, ты ненавидишь меня, Мариус? Я думал, что ты слишком умен для такого заурядного чувства... Да, я захватил тебя в плен, а ты похитил наши тайны, и с тех пор меня преследуют несчастья.
Нужно отступать. Я не желал возвращения к старым раздорам и спокойно стоял на месте, пока не прошла злость. К черту истину!
Почему-то он внезапно подобрел. Сняв последние тряпки и отбросив их в сторону, он заговорил об Авикусе и Зенобии.
– Они вечно пролезали в императорский дворец и охотились в темных углах, – сказал он. – Зенобия редко одевалась мальчиком, несмотря на твои уроки. Она питала слабость к богатым одеждам. Видел бы ты ее платья! А какие волосы – наверное, я любил ее волосы больше, чем она сама.
– Не представляю себе, – тихо отозвался я, но ее образ, выхваченный из его мыслей, смешался с моими собственными воспоминаниями.
– Авикус продолжал учиться, – рассказывал он с легким презрением. – Он освоил греческий. Читал все, что попадалось. Ты всегда оставался его кумиром. Он подражал тебе. Покупал книги, в которых вообще не разбирался. Все читал и читал.
– Может быть, и разбирался, – предположил я. – Кто знает?
– Я знаю, – ответил Маэл. – Я вас обоих знаю. Он как последний дурак собирал без всякой цели стихи и исторические книги. Он ничего в них не искал. Он воспринимал слова и фразы по выраженному в них чувству.
– А где и как ты проводил время, Маэл? – спросил я суше, чем хотел бы.
– Охотился за городом в темных холмах, – ответил он. – Убивал солдат, исключительно зверствующих злодеев, как ты понимаешь. Я одевался как бродяга, а они – как императорская свита.
– Они не стали создавать себе подобных? – спросил я.
– Нет! – усмехнулся он. – Кому это надо?
Я не ответил.
– А ты? Ты тоже не стал создавать себе подобных?
– Нет, – нахмурился он. – Где мне найти такого сильного смертного? Как я узнаю, выдержит ли он испытание Кровью?
– И ты путешествуешь по миру в одиночку.
– Я найду себе пару среди бессмертных, – ответил он. – Разве не нашел я в Риме окаянного Сантино? Может быть, выманю к себе кого-то из юнцов-сатанистов. Вряд ли им всем по вкусу жалкое прозябание в катакомбах, где носят черные рясы и поют псалмы по-латыни.
Я лишь кивнул: Маэл был готов принять ванну, и мне не хотелось его задерживать.
– Как видишь, в доме хватает места, – радушно заговорил я. – На втором этаже справа есть запертая комната без окон. Если хочешь, можешь остаться там на день.
Он тихо презрительно усмехнулся.
– Одежды вполне достаточно, мой друг. Пожалуй, я останусь на несколько часов передохнуть.
– Не возражаю. Оставайся здесь, чтобы тебя никто не видел. Ванна к твоим услугам. Я зайду за тобой, когда мальчики заснут.
Но мне пришлось увидеться с ним гораздо раньше.
Он вышел из спальни и последовал в большую гостиную, где я провожал Риккардо и Амадео, строго велев отправляться прямиком в дом Бьянки и оставаться там весь вечер.
Амадео заметил его. Во второй раз он на несколько роковых секунд попал в поле зрения Амадео. Я знал, что в глубине души Амадео понял, кто он такой, но, как часто с ним случалось, понимание приходило лишь подсознательно. Мальчики поспешно поцеловали меня на прощание и пустились в путь – петь гимны Бьянке и слушать льстивые речи в свой адрес.
Меня раздражало, что Маэл вышел из спальни, но я промолчал.
– Значит, решил передать ему Кровь? – с усмешкой спросил он, указывая на дверь, через которую вышли мальчики.
Я пришел в бешенство. Как всегда в подобных ситуациях, испепелил его взглядом, но от злости не мог вымолвить ни слова.
– Мариус, владетель многих имен, многих домов и многих жизней, выбрал себе славного мальчика, – со зловещей улыбкой сказал Маэл.
Я встряхнулся. Как он прочел в моих мыслях страсть к Амадео?
– Ты потерял бдительность, – мягко продолжил он. – Послушай меня, Мариус. Я не собираюсь тебя оскорблять. Ты идешь среди смертных широким шагом. А мальчик очень молод.
– Ни слова больше, – ответил я, стараясь обуздать гнев.
– Прости, я просто говорю, что думаю.
– Знаю, но больше ничего не желаю слышать.
Я оглядел Маэла с головы до ног. В новой одежде он смотрелся довольно красиво, хотя несколько мелких деталей смялись и нелепо завернулись. Но не мне их поправлять. На меня он произвел впечатление не просто варварское, но комическое. Однако я понимал, что остальные сочтут его интересным мужчиной.
Я думал, что ненавижу его, но в реальности испытывал смешанное чувство. И, стоя рядом с ним, чуть было не дал волю слезам. Но внезапно, чтобы подавить эмоции, спросил:
– Чему ты научился за эти годы?
– Высокомерный вопрос! – тихо ответил он. – А ты чему научился?
Я поведал ему свои теории о возрождении Запада, который черпал вдохновение в классической культуре, заимствованной в свое время у Древней Греции. Я рассказал, как искусство древней империи воссоздается по всей Италии, о высокоразвитых процветающих городах Северной Европы. И объяснил, что, по моему мнению, Восточная империя больше не существует – она сдалась перед натиском ислама. Греческий мир безвозвратно потерян.
– Видишь, Запад вернулся к нам, – заключил я.
Он посмотрел на меня как на отъявленного безумца.
– Ну? Что скажешь? – поторопил я.
Выражение его лица неуловимо изменилось.