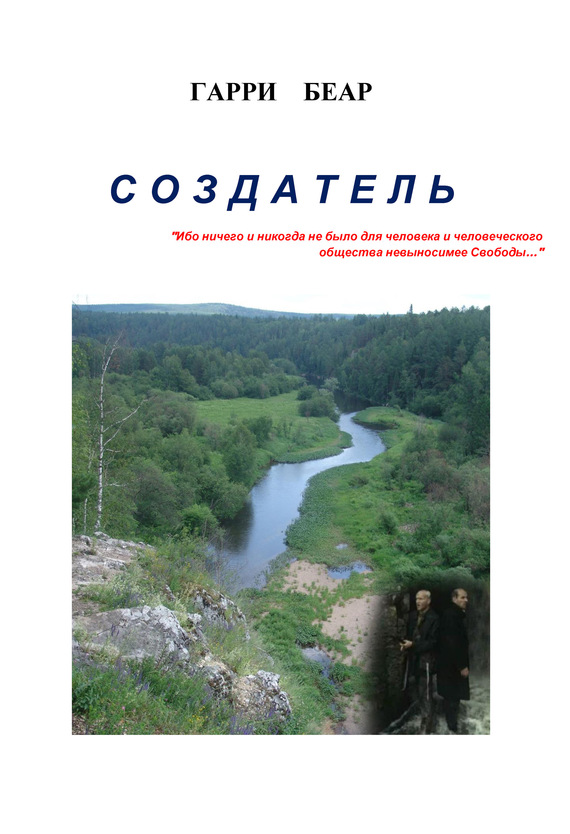Пока не сказано «прощай». Год жизни с радостью Уиттер Брет

UNTIL I SAY GOOD-BYE
by Susan Spencer-Wendel with Bret Witter
Text copyright © 2013 by Susan Spencer-Wendel
All rights reserved
© Н. Маслова, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
* * *
Посвящается Стефани,
которую Бог назначил моей сестрой
Счастливый человек
- На свете сем один счастливец — тот,
- Кто собственностью день сегодняшний зовет,
- Кого судьбы превратность не тревожит:
- Я завтра не боюсь, ведь я сегодня пожил.
- Мороз ли, солнце, ливень или зной —
- Все радости, что знал, мои, навек со мной.
- Прошедших дней нас Бог лишить не в силах.
- Я знал свой час, и все, что было, было.
Введение
Поцелуй с дельфином
Мой сын Уэсли хотел поплавать с дельфинами. Ему исполнялось девять лет в девятый день девятого месяца — 9 сентября 2012 года, — и это была его особая просьба.
Еще раньше я пообещала своим детям, что в течение лета поеду с каждым из них туда, куда они сами захотят. Это время мы проведем вместе. И вместе посеем семена воспоминаний, которые взойдут в будущем.
Подарок для них — и для меня.
В июле я ездила в Нью-Йорк с Мариной, моей дочерью-подростком. В августе по просьбе одиннадцатилетнего Обри мы всей семьей провели неделю на Санибел-Айленде — острове к западу от Флориды.
Поездки были частью большого плана — года, который я решила прожить с радостью. Года, в течение которого я совершила семь путешествий с семью главными для меня людьми. На Юкон, в Венгрию, на Багамы и на Кипр.
А еще этот год был посвящен путешествиям внутрь себя: из фотографий и записей, накопившихся за всю жизнь, я создавала черновик книги и заодно строила на заднем дворе своего дома убежище — чики, открытую по бокам индейскую хижину с крышей из пальмовых листьев и мягкими креслами, куда я приглашала воспоминания и друзей.
В реальности мои путешествия оказались еще прекраснее, чем виделись мне в мечтах.
Поездка с Уэсли была самой простой и последней. Загрузившись в мини-вэн, за три часа мы добрались от нашего дома в Южной Флориде до Дискавери-Коув в Орландо.
— Что за красота! — прокомментировала моя неизменно жизнерадостная сестра Стефани, пока мы ехали по болотистой невзрачной равнине в центре Флориды.
Главная отличительная черта Дискавери-Коув — огромная искусственная лагуна, окаймленная пляжем с одной стороны и скалами — с другой. Над роскошным пейзажем полоскались на ветру пальмы, и кроны их показались мне похожими на фейерверки, возвещавшие наш приезд.
Под моросящим дождем мы выгрузились на пляже и стали наблюдать за плавниками, резавшими волны в так называемой игровой зоне на той стороне лагуны.
— Который из них наш? — допытывался Уэсли. — Который наш?
Девушка-тренер повела нас к воде. Внезапно перед нами возникло удивительное существо: гладкая серая морда с сияющими черными глазами, длинная щель рта — уголки приподняты, словно в улыбке. Вытянутый нос — точь-в-точь бутылочное горлышко — кивал нам, сигналя: «Я хочу играть!»
Уэсли был вне себя. Он кричал и прыгал, не в силах устоять на месте. С длинными светлыми волосами, в облегающем гидрокостюме, синеглазый, он походил на серферов, которыми я так восхищалась в юности.
С днем рождения, сынок!
Обри и Марина стояли рядом с ним и радовались не меньше его.
— Ну разве не гадко держать их взаперти? — спросила Марина, ни к кому особо не обращаясь.
Потом рядом с ней вынырнул дельфин, и она стала потешаться над его дыхательным клапаном. Марине было почти пятнадцать, она уже рассуждала как взрослая, но иногда вела себя совершенно по-детски.
Тренер представила нас. Ее звали Синди — дельфина, не тренера. Синди медленно плавала рядом с нами, словно приглашая погладить ее по бокам. Ее размеры изумили меня: восемь с половиной футов в длину, пятьсот фунтов твердой как камень мускулатуры.
— Ну, как на ощупь? — спросила тренер.
— Как сумка «Коуч»[1], — не удержался от остроты муженек Джон.
— Я люблю Синди! — выдохнул Уэсли.
Синди оказалось больше сорока лет. Я спросила, есть ли у нее дети.
— Нет, Синди у нас делает карьеру, — ответила тренер.
Как я, посвятившая всю жизнь журналистике. Но у меня есть и дети. И вот я, счастливая, стою с ними по пояс в воде и трогаю шкуру морского чуда.
Тренер сказала нам, чтобы мы подняли руки и дали Синди сигнал.
— Сделайте вид, как будто сматываете леску на катушку, и Синди издаст соответствующий звук.
Уэсли от изумления разинул рот.
— Я люблю Синди! — снова сказал он.
С помощью тренера Уэс ухватил дельфиниху за спинной плавник. Лег ничком ей на спину, и следующие полчаса Синди катала нас всех по очереди. Сначала детей, потом Стефани и Джона.
Когда пришла моя очередь, я отказалась.
— Пусть Уэсли прокатится вместо меня, — сказала я.
Ведь это был его день. И когда Синди снова повезла его через лагуну, на его лице был неподдельный восторг.
В тот день мы сделали много фотографий. Уэсли. Обри и Марина. Все мы вместе улыбаемся в камеру на пляже под дождем.
Но мне особенно нравится один снимок: я, наполовину высунувшись из воды на руках Джона, целую дельфиниху в улыбающийся рот.
В тот миг я думала лишь о добром гиганте, которого видела перед собой, о гладкой прохладной морде, которую я целовала. Старалась запомнить.
Потом, глядя на этот снимок, я подумала о добром гиганте у меня за спиной, о том, кто поддерживает меня изо дня в день. Подумала о своих детях, чье счастье делает меня богаче. О моей сестре и друзьях, которые дарят мне радость.
Я подумала об Уэсли, чей девятый день рождения был для меня, скорее всего, последним.
Я уже не могу ходить. В лагуну меня привезли в инвалидном кресле.
Я не могу держать свой собственный вес, даже в воде. Джон вынул меня из кресла и держал в воде на руках, чтобы я не утонула.
Я не могу поднять руки, чтобы положить в рот ложку еды или обнять своих ребятишек. Мои мускулы умирают, и это необратимо. Мой язык меня не слушается, и мне уже не суметь ясно произнести: «Я вас люблю».
Скорым, уверенным шагом я иду к смерти.
Но сегодня я еще живу.
Увидев фотографию, на которой я целуюсь с дельфином, я не заплакала. Я не огорчилась оттого, что многое потеряла. Наоборот, я улыбнулась, радуясь жизни.
А потом, повернув свое инвалидное кресло, я, как могла, поцеловала Джона.
Начало
Июль — сентябрь
И все же счастливая
Странно теперь вспомнить, как я жила раньше, — на автопилоте.
Сорок с лишним часов в неделю я посвящала любимой работе, писала репортажи из уголовного суда для газеты «Палм-Бич пост». Еще сорок — разруливала пограничные конфликты сестры и двух братьев, не давая им перерасти в полномасштабную войну, занималась работой по дому, показывала детей врачам — педиатр, дантист, ортодонт, психиатр (стоит ли удивляться?).
Еще несколько часов в неделю уходило на ожидание, пока дети занимались музыкой, плюс разъезды с урока на урок.
Вечера я проводила, сортируя стираное белье на большом столе в гостиной.
Иногда случалось пообедать с кем-нибудь из друзей или с сестрой Стефани, которая жила через несколько домов от нас, на той же улице.
Еще по вечерам мы с мужем выходили на пару минут во двор поплескаться в бассейне, но и тут нас то и дело настигали разборки детей, не поделивших пульт от телевизора, или младший, шестилетний Уэсли, прибегал с какой-нибудь несусветной просьбой — например, разрешить ему порисовать на ложках.
— Ладно. Только на пластиковых. Не на серебряных!
Я считала, что мне в жизни везет.
Я была счастлива.
И, как всякий человек, считала, что счастья впереди еще много — школьные балы и выпускные, свадьбы и внуки, потом пенсия и два-три десятка лет неспешного угасания.
Но вот как-то поздним вечером летом 2009 года, раздеваясь перед сном, я поглядела на свою левую руку.
— Вот дерьмо! — взвизгнула я. И повернулась к Джону, своему мужу. — Ты только посмотри.
Я протянула ему руку вверх ладонью. Она была высохшей и бледной. Шишечки костей и линии сухожилий проступили сквозь кожу.
Я подняла правую руку. С ней все было нормально.
— Тебе надо сходить к врачу, — сказал Джон.
— Ладно.
Я была так поражена, что у меня не было слов. Казалось, что моя рука ни с того ни с сего умирает. Но беспокоило меня совсем другое. Единственная моя мысль была о том, как я вставлю в свое расписание еще и это!
Сначала я пошла к нашему семейному доктору, добрейшей женщине, которая пятью разными способами спросила, не болит ли у меня левая рука в области ладони или выше.
— Нет, — отвечала я.
— Ну, тогда туннельный синдром тут, видимо, ни при чем. Сходите-ка к неврологу.
Вот так началась моя годичная одиссея по кабинетам врачей. Попытки объяснить увядание моей конечности. Поиски ответа, отличного от того, который Джон, предпринявший собственные изыскания, нашел после первого же моего визита к неврологу: БАС.
Помню, я тогда спросила:
— Это еще что такое?
БАС, больше известный как болезнь Лу Герига, — это нервно-мышечное расстройство, при котором умирают сначала нервы, ведущие к мышцам, а потом и сами мышцы, причем болезнь все время прогрессирует, переходя с одной мышцы на другую. Почему — неизвестно. Как лечить — тоже. Избавления нет.
БАС означал, что смерть в моей левой ладони распространится на всю руку. А потом и на все тело. Я буду слабеть по частям, пока меня не настигнет полный паралич.
А затем, через три или пять лет с момента появления первых симптомов, я умру.
Нет, это же невозможно! Нет. Должно быть иное объяснение.
Может быть, виновата травма? Пару месяцев назад я упала, подъезжая на роликах к дому матери, и так сильно ударилась, что отпечаток бетона на левой ладони не проходил целый час.
А еще у меня грыжа межпозвонкового диска… но это вряд ли могло повлиять на руку.
Доктор Хосе Сунига, мой первый невролог, предположил, что у меня болезнь Хираяма — таинственное расстройство, связанное с нарушением мышечных функций. Ее описание полностью соответствовало моим симптомам, за исключением одного обстоятельства: болезнь настигала в основном японцев.
— А вы ведь не японка, — заметил доктор Сунига.
«Ну, японскую болезнь я как-нибудь переживу», — подумала я. И тут же отправилась покупать суши. Отвергнув калифорнийские роллы как слишком банальные, я выбрала роллы с угрем.
Это была не болезнь Хираяма.
Один специалист по БАС, доктор Рэм Айар, предположил мультифокальную нейропатию — прогрессирующее мышечное расстройство, часто начинающееся с рук. В отличие от БАС, для МФН существовал тест. Он стоил три тысячи долларов. Методом проб и ошибок я выяснила, что моя медицинская страховка не покроет этот расход. И это огорчило и расстроило меня даже больше, чем то, что показал тест: мультифокальная нейропатия — результат отрицательный.
За полгода я побывала у четырех специалистов. В поисках наследственной причины съездила на Кипр.
Когда ничего не прояснилось, я перестала обследоваться. И вошла в период отрицания. Знаете, когда назло всем говоришь, что небо зеленое. В общем, я была так слепа и тупа, что стыдно вспомнить.
Когда весной 2010-го я занялась бикрам-йогой, одна знакомая сфотографировала меня во всех двадцати шести асанах на тот маловероятный случай, если я не смогу продолжать.
В ноябре того же года, когда мы с моими родителями отмечали пятидесятую годовщину их свадьбы, Джон в первый раз нарезал мне ростбиф в тарелке. Ела я великолепно, но вот танго вилки и ножа мне больше не давалось.
Когда мне стало слишком тяжело носить на работу кейс, я перешла на сумку с колесиками. «Хочешь походить на адвоката, да?» — спросил меня один коллега.
Я промолчала.
В январе 2011 года, когда я чистила в ванной зубы, заметила, что у меня дрожит язык. И как я ни силилась, но сдержать это дрожание не смогла.
Несколько недель спустя, когда мы с Джоном обедали у моей сестры Стефани, я заметила, как у той округлились глаза. Джон кормил меня, вилкой кладя еду прямо мне в рот. Постойте, когда же это успело войти у нас в привычку?
— Прекрати, Джон! — рявкнула я. — Сама справлюсь.
На десерт Стеф подала пирог с арахисовым маслом. Мой язык отказался мне служить.
— Убить меня задумала, да? — пошутила я, оставив попытки сдвинуть с места липкий комок у меня на языке.
Я отказывалась признать неизбежное. По крайней мере, сознательно.
Но мы, люди, существа бессознательные. Я купила книгу «Буддизм для чайников» и стала вникать в основы учения дзен, чтобы успокоить разум.
Однажды со своей лучшей подругой Нэнси и нашими мужьями мы отправились на выходные в Новый Орлеан. Это было сразу после Марди-Гра 2011. Настолько сразу, что с улиц еще не успели убрать праздничные гирлянды, растяжки и мусор.
Нэнси хотела осмотреть районы, особенно пострадавшие от урагана «Катрина». Я отказалась, больше интересуясь развлечениями. Как-то поздно вечером мы с Джоном оказались на Бурбон-стрит, напротив стрип-клуба.
Вообще-то, стриптиз не в моем вкусе. До того я всего дважды бывала в таких заведениях, и оба раза по работе.
В первый раз клиент подал в суд на стриптизершу за то, что она во время выступления заехала ему прямо в лицо здоровенным каблуком своей сценической туфли. У мужчины был зафиксирован перелом глазницы и отслоение сетчатки.
Правда.
Во второй раз я писала статью о человеке, пропавшем без вести, а его родственница работала в стрип-клубе под названием «Котенок». Когда я вошла, она как раз так и сяк демонстрировала две сотни фунтов своего тела на сцене. Ее груди напоминали сцепившихся борцов-двойняшек.
— Давай зайдем! — сказала я Джону, когда мы стояли на Бурбон-стрит. — Расслабимся как следует.
Народу внутри было полно. Мы, наверно, производили впечатление людей, которые любят сорить деньгами, потому что вышибала усадил нас за столик прямо у сцены.
В шоу участвовали три женщины — голые, не считая четырехдюймовых плиссированных школьных юбчонок, — и замызганный матрас.
Одна из женщин недавно рожала, у нее было упругое тело, только живот висел, весь исполосованный растяжками. Похоже, у нее только что пришло молоко. И она все пыталась соблазнить кого-нибудь из нас сунуть ей купюру между грудями.
— Давай, детка! Расслабься! — сказала она мне.
— Я сейчас заплчу, — сказала я Джону. — Дай ей немного на ребенка, и пошли.
Мы отыскали местечко почище — с огромной сценой и клубными стульями. И сели далеко-о-о от сцены.
Женщины танцевали на шестах. Они скользили по ним туда и сюда, делали шпагат, оборачивались вокруг, поднимались вверх, боком и спускались головой вниз. Застывали в позе скачущего оленя. В общем, развлечений было в изобилии, но я смотрела только на их руки.
Хваткие.
Цепкие.
Сильные.
Я поглядела на свою бесполезную левую, зная, что мне уже никогда ничего так не схватить. Мои танцы на шесте закончились, не успев начаться.
Утром, завтракая с Нэнси, я поделилась с ней плохой новостью с Бурбон-стрит:
— Представляешь, какой ужас, шерстяные гетры опять входят в моду!
Мы посмеялись, и моя рука была забыта.
Мы с Нэнси всегда смеемся, когда мы вместе.
Но когда мы в аэропорту обнялись на прощание, я увидела в глазах Нэнси правду. Тревогу. Печаль. Она знала, что у меня БАС. И я тоже.
Я начала плакать, прямо там, в аэропорту Нового Орлеана.
— Не плачь, — сказала Нэнси. — Пожалуйста, не плачь.
И она начала смешно копировать восьмидесятилетнего водителя нашего автобуса-шаттла, который минут десять говорил по мобильному, а потом вдруг воскликнул:
— Погоди-ка, да ведь ты мой кузен, Вилли!
Мы посмеялись и расстались, вытирая глаза.
Вернувшись домой, я впала в депрессию.
Больше года я удерживалась от слез. Я верила, что сумею выздороветь, несмотря на усиливавшуюся слабость. Я с головой ушла в заботы о детях, муже, друзьях.
В ту весну я начала делать то, против чего сама себя предостерегала. Вместо того чтобы жить настоящим, я стала бояться будущего с БАС.
Я думала о том, как это будет, когда я не смогу ходить и есть. Не смогу обнять моих детей и сказать им, что я люблю их. Я погружусь в паралич, мое тело полностью потеряет способность двигаться, а мозг будет продолжать жить. Каждую новую утрату я буду осознавать и переживать. А потом я умру, когда мои дети еще такие маленькие.
Я начала жить в этом будущем. Садясь за стол, я каждый раз думала о том, каково это — разучиться жевать. Ночами я лежала без сна и, глядя в потолок, думала: «Настанет день, Сьюзен, когда это будет все, что ты сможешь видеть. И он настанет скоро».
Больше всего я боялась совсем не смерти. А полной зависимости от других. Боялась стать обузой для семьи и тех, кого я люблю.
Однажды я поделилась с одной хорошей знакомой, блестящим юристом, своими страхами о том, что у меня, кажется, БАС.
— О, это хуже, чем смертный приговор, — отрезала она.
Больше я с ней не разговаривала.
Долгое время я вообще ни с кем не разговаривала о своей болезни, так как тоже была уверена, что БАС — это хуже, чем смерть.
«Надо с этим кончать, — стала думать я. — С достоинством, на своих условиях».
Я думала о самоубийстве не реже, чем видела бабочек. Мысль впархивала в мой мозг, и я изучала ее, удивляясь ее симметрии. А потом она ускользала, и я опять забывала о ней, потому что такие мысли преходящи.
Но однажды мысль вернулась назавтра и еще раз назавтра. Потому что мой разум стал садом. Ухоженным, культурным, но не защищенным по периметру. Идеальное место для бабочек.
Я стала раздумывать, не нанять ли мне киллера. Чтобы войти в темный переулок на другом конце города и быть там «убитой». Я не раз сидела в суде с наемными убийцами. И я идеально подходила для предумышленного убийства — самой себя.
Но немного погодя я отбросила эту мысль. Дурацкая идея. Грязная. Ужас.
Я попросила о помощи друзей. Потом подумала, что ведь тогда они сами попадут под арест. И я изменила просьбу: «Пожалуйста, приходите ко мне почитать, когда я больше не смогу двигаться».
Бабочка вернулась, столь же обворожительная, как и раньше.
Я заказала две книги о самоубийстве, выбрав их из дюжин, представленных на «Амазоне». И глубоко задумалась над своей верой в то, что люди должны иметь право и возможность выбрать, когда им умереть.
Я нашла одну швейцарскую организацию под названием «Дигнитас», где смертельно больные люди умирали по собственному желанию — мгновенно, безболезненно, легально.
Идеально.
Потом я прочла следующее: «Для того чтобы получить услугу по самоубийству с сопровождением, нужно… обладать минимальным уровнем физической подвижности (достаточным для того, чтобы самому принять смертельную дозу лекарства)».
Я с моим диагнозом скоро не смогу даже поднять стакан, не говоря уже о том, чтобы выпить его смертельное составляющее. Пищевод ведь тоже состоит из мышц. И они умирают.
Я не стала записываться в «Дигнитас».
И книги соответствующие читать тоже не стала.
Знаете таких людей, которые способны часами говорить о каждой своей болячке? Кто не может чихнуть, чтобы не пожаловаться?
Так вот, я не из таких.
Я держала рот на замке. Продолжала работать. Растить детей. Жить. Даже Джон не знал моих мыслей. Пока однажды, в поисках марок, не наткнулся на те книжки в ящике моего стола.
— Я их просматривала, — правдиво ответила я ему. — Я думала об этом. Но план у меня так и не сложился.
— Пожалуйста, Сьюзен…
— Я не буду. Я никогда не смогу поступить так с тобой. — Я сделала паузу. — Я никогда не смогу поступить так с нашими детьми.
Не думаю, чтобы моя смерть могла уничтожить нашу семью. Но то, как я умру, вполне может повлиять на их способность жить с удовольствием. С радостью.
Мое самоубийство покажет моим детям, что я слабая.
А на самом деле я сильная.
Я записалась на прием к неврологу. 22 июня 2011 года, через четыре дня после десятого дня рождения моего сына Обри.
Я не была у этого врача уже год и устала откладывать визит. Устала напряженно ждать, когда гром судьбы грянет у меня над головой.
Вечер перед походом к врачу я провела в Майами, одна, потому что мне не хотелось разговаривать. Джон уважал мое желание. Любить — значит соглашаться, даже когда не понимаешь почему.
Я остановилась в холостяцкой квартире брата моей подруги Нэнси в Майами-Бич. Старый дом в стиле модерн стоял прямо на воде. Второй этаж. Сумку с моими ночными принадлежностями я затащила по лестнице с трудом.
Ключ от двери лежал под ковриком. Я попросила соседку отпереть ее для меня.
В холодильнике было пусто. Простыня занавешивала окно. На старинной мебели стояли фотографии его и Нэнси с родителями. Я вспомнила, что видела эти вещи в доме подруги, когда мы еще учились в школе.
Брат Нэнси, кинорежиссер, хранил в этой квартире настоящее сокровище из фильмов и книг, среди которых были и путеводители по разным странам мира. Я стала думать о своих многочисленных путешествиях, о радостных лицах людей на фото.
Я думала о любви, которую я знала в жизни. О самой совершенной, неэгоистичной любви, которую я испытала, лунной ночью качая на руках ребенка. И о другой, восторженной, романтичной, когда лунной ночью хочется лишь ласкать любимого.
«Мне повезло, — подумала я. — Я знала любовь. И я счастливый человек, что бы ни случилось завтра».
Нэнси прислала мне СМС: «Слышала, ты едешь в Майами. Думаю о тебе».
«Не хотела тебя беспокоить», — ответила я.
После длительной борьбы я открыла балконную дверь. И долго сидела на балконе и курила — привычка, которая стала для меня утешением.
Среди всего прочего, я училась быть одна. Не самое комфортное состояние для меня. Мы рождаемся в одиночестве и умираем в одиночестве, но все лучшие моменты моей жизни связаны с другими людьми.
Я вспоминала тех жертв и их семьи, которых я повидала за десять лет репортерской работы в суде. И думала о том, сколько людей справились со своими трагедиями и сколько не смогли продолжать нормальную жизнь.
Я готовила себя к трагедии, которая должна была произойти со мной завтра.
Я думала: «Когда завтра тебе скажут, что у тебя БАС, ты должна будешь держаться. Никаких слез. Никаких истерик. Тут важен мощный старт».
Я научилась этому, когда ходила в секцию плавания, где тренер все время твердил нам про мощный старт. Голову втянуть в плечи, тело готово в любую секунду сорваться со стартовой тумбы.
Спокойный выигрывает гонку, верно? Так говорят. Спокойный выигрывает.
В конце концов я решила, что хватит думать. Я взяла с полки самый ядреный фильм: «Кокаин». Наркотики! Насилие! Развлечение! Великолепно! Проглотила таблетку снотворного и легла спать в одежде.
Утром я взяла такси и поехала к непримечательному зданию в центре Майами. Внутри все ходили в медицинской форме, со стетоскопами, уставившись в айфоны. Я подумала: «Кто из них, интересно, тот доктор, которому суждено изменить мою жизнь?»
Приехал Джон. Опоздал, как обычно.
Он и на мои похороны опоздает, мелькнула у меня мысль. И я улыбнулась. Не меняйся, Джон. Пожалуйста, никогда не меняйся.
Возле регистратуры прохаживался представитель АМД — Ассоциации мускульной дистрофии), — приветствуя пациентов, как старых друзей. Медсестра измерила мне давление и температуру. Давление оказалось ниже обычного — девяносто на шестьдесят. Я дышала глубоко и медленно.
Сестра повела нас в смотровую.
Вошел доктор Ашок Верма — высокий, элегантный индиец с очаровательным англо-индийским акцентом, который мне так нравится. Доктор Верма руководит клиникой БАС при Университете Майами.
Он полистал мою карту.
Задал мне несколько вопросов, проделал со мной несколько тестов на мышечную силу, откинулся в кресле и прочирикал:
— Я так думаю, у вас БАС.
Он сказал это очень легко, как будто приглашал меня на вечеринку. Причем с улыбкой. Уж не знаю, улыбался он оттого, что сочувствовал мне, или просто от волнения, но его улыбку я не забуду никогда.
Помнится, я планировала, как буду вести себя, услышав эти слова. Как буду держать себя в руках. Буду сильной. Как пловец, готовый сорваться со стартовой тумбы. Сгусток энергии у меня в груди готов бросить меня в битву.