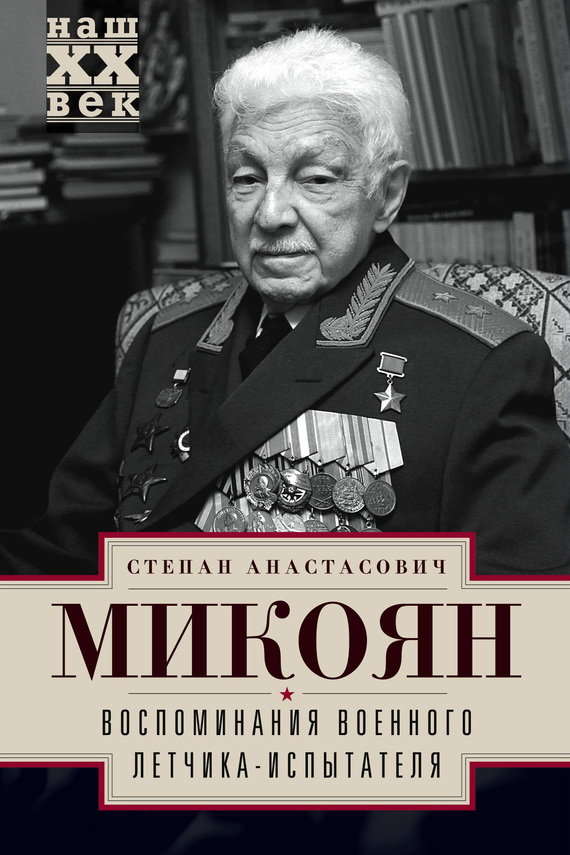Бродяги Хроноленда Дихтяр Юрий

– Шухер.
– Ментяра.
– Гопсосмыком.
– Кто тут Гопсосмыком? – поднял голову писака.
– Это буду я, – поднял руку один из фантомов.
Переписав всех, рекрутёр размял пальцы, хрустнув суставами.
– Всё, господа, поздравляю, вы теперь авангардная часть Вермахта. То есть, в атаку пойдёте впереди паровоза. Ваш отряд называется «Пушечное мясо». Оружие добудете в бою. Паёк вам не полагается, и «Кока Коки» вы тоже получать не будете. Но это всё равно, надеюсь, что вас убьют в первые минуты боя, так что нечего переводить харчи. Кстати, спасибо вам от командования за идею послать первыми в бой фантомов. Всех, а не только вас, огородников. Только вот скажите – зачем вам это нужно? Пиво вы не пьёте, сиськи вас тоже, как-то не особо привлекают, насколько я знаю.
– Мы за идею. За родину. За фюрера.
– О, теперь вижу, что фантомы. Точно, вам же на днях новый канал включили! Первый фашистский! Как я забыл то? А смотри, действует. Даже фантомов зомбирует! Ладно, товарищи, идите. Вас вызовут.
– Пожелай нам удачи в бою, – сказала Мурка.
– Да, идите вы уже! Надоели!
Мурка гордо развернулась и пошла прочь. Остальные посеменили за ней, шумно обсуждая, что просто отлично, когда в них нуждается отечество.
Максим и Лита выпили по чуть-чуть, только чтобы не обидеть компанию, и удалились в кусты за гараж. Влюблённые от любви пьянеют больше, чем от алкоголя.
Борис с проснувшимся белком затеяли спор о разуме.
– Вот, что такое разум? – доставал белк.
– Ну, это когда ты всё понимаешь, – с каждой новой порцией Борису становилось всё сложнее подбирать определения.
– Да ты прямо философ.
– Я хочу сказать, что вот люди разумные…
– Допустим, что разумные, – перебил белк.
– Не допустим, а разумные, потому что… как бы тебе сказать, потому, что дома умеют строить.
– Тоже мне разум. Муравьи тоже строят, и что?
– Ну, ладно, тогда, потому что машины строят, чтоб пешком не ходить. А! Выкусил?
– Блохи тоже на собаках катаются, и что?
– Допустим.
– Люди сексом занимаются постоянно, а не только когда потомство нужно.
– Удивил! Дельфины тоже, и что? А с кроликами вам вообще не сравниться.
– А дельфины книги не пишут.
– Как они писать будут? В воде, что ли? И у ни рук нет.
– Ну, не дельфины, а муравьи пишут? А белки?
– А им не надо. Зачем нам книги? Нам их читать некогда. Засерать мозги нам ни к чему. Ты считаешь разумным читать чужие мысли? Это делают только те, у кого своих мозгов нет.
– А музыка?
– А мы птичек слушаем. Ваши Бетховены с Децелами рядом не валялись с трелью соловья.
– А ваши птички водку пьют?
Белк задумался, запрыгнул на ведро, отхлебнул дронтровки.
– Водку, говоришь? Не пьют. И что?
– А то. Вот оно, отличие разума от неразума. Понял?
– А вот, животные едят перезревшие вишни и тоже пьянеют.
– Я тебя умоляю. Не сравнивай. У разумных существ существует культура пития со всеми атрибутами. После первой не закусывать, между первой и второй промежуток небольшой, а потом поговорить, а сбегать за третьей, а потом, если повезёт – подраться. А песню затянуть? Ой, мороз, мороз, не морозь меня, – затянул Борис.
Белк слушал, как поёт Борис и не смог найти ни одного аргумента против такой формулировки разума. Может, он все эти годы ошибался, слишком мнил о себе? А вдруг, они, и правда, разумные? Да и не вдруг. Точно, разумные. Значит, Дарвин ошибался, назвав единственным разумным существом белку!
– Ну, что, – закончив песню, спросил Боря, – прав я?
– Ты знаешь, наверное, прав. И я торжественно, перед лицом вот этих товарищей, извиняюсь и готов признать, что люди тоже разумные существа.
– То-то же.
– Только тупые. Водку пить – много ума не надо.
– Животное, я тебе сейчас хвост оторву, если ты не заткнёшься.
– Ладно, молчу. О, хвост отрывать – тоже дело не хитрое. Прости, вырвалось. Давай, лучше выпьем за признание белками человека разумным существом. Наливай!
– Слушайте, – сказал им Павел, – достали уже склоками.
Павел в это время общался с динозавром. Наливка была хороша, и речь от неё становилась вязкой и тягучей, словно каждое слово обрело вес, при чём в прямом смысле.
– А вот ты меня не помнишь? – спросил Грмпну.
– Ну, почему, помню. Наверное, помню, – ответил Павел. – У меня память слабая на лица. А на морды – так совсем склероз. Мы встречались? Напомни. Я помню, что пил с одной рептилией, на тебя похожей. Пили неделю, так нас его жена чуть не смешала с навозом.
– Она до сих пор меня тобой упрекает.
– Так это ты?
– Ага, это я. Вот видишь, а я тебя запомнил.
– Конечно, запомнил, ты же почти трезвый был, а у меня неделя из памяти стёрлась. Так вот, где я тебя видел! Думаю ещё – лицо какое знакомое, а это старый друг!
Армия выступила в поход на рассвете. Солнце ещё не выглянуло из-за горизонта, как первые отряды покинули границы города. Впереди шли танки и бронетранспортёры, тягачи с пушками, за ними в крытых грузовиках перевозили пехоту, дальше на мотоциклах следовали отряды полевой жандармерии, и замыкал колонну всякий сброд на трёхколёсных велосипедах и самокатах.
Отъехав от города километра три, остановились позавтракать. Завтракали шумно и долго, с пивом, сосисками и песнями. Пока помыли посуду и собрали столы, солнце уже палило во всю. Пришлось снимать шинели, каски и сапоги. Кто-то остался в форме, кто-то в исподнем, некоторые вообще разделись до трусов. Погрузились и поехали, мечтая о халявной выпивке и четвёртом размере.
Далеко отъехать не успели. Пришло время обеда. Полевая кухня наварила кулеша. На жаре есть не хотелось, поэтому посидели недолго, и снова отправились в путь.
– Так мы и за год не доедем! – возмущался Мэнсон.
– Не переживайте, новый фюрер, еды мы взяли на сутки, главное, выманить их подальше от города. Если бы мы их не кормили, все бы давно разбежались. А так, потихоньку отъедем километров на пятьдесят и объявим, что жратва закончилась, а до противника ближе, чем домой. Куда им деваться? – Геббельс ехидно улыбнулся.
– Ладно, надеюсь, ужинать не будем?
– Почему?
– Как почему? Я хочу побыстрее всех победить. Дорогая, – обратился он к сидящей рядом Рииль, – долго ещё до вашего Мухостанска ехать?
Девушка обиженно фыркнула и промолчала.
– Ужин в семь. Всё по расписанию. Я уже и сам проголодался. Мы, фашисты, народ пунктуальный, если ужин в семь, то пусть хоть весь мир лопнет, а ужин должен быть.
– Вот за это я вас и ненавижу, – Мэнсон дал Геббельсу звонкую затрещину, – фашистов. Скучные вы, дотошные такие, всё у вас по часам, всё по дням расписано. Никакой спонтанности, никакой свободы действий. Пошёл вон, надоел.
– Рад служить, – кивнул Геббельс, – а можно машину остановить, чтобы я вышел?
– Обойдёшься.
Великий идеолог открыл дверцу «Мерседеса» и выпрыгнул на ходу, покатился кубарем по пыльной дороге, чуть не попав под колёса грузовика, и свалился в заросший кювет.
– Риилечка, – обратился Мэнсон к спутнице, – скажи мне одно. Как товарищ товарищу, зачем ты со мной едешь? Там же твои сёстры, мама, подруги. Неужели ты их так ненавидишь?
– А мне интересно посмотреть, как мои сёстры и подруги твоим пивососам по соплям надают.
– Ой, не смеши, куда им против «Тигров» и «Пантер» со своими копьями и луками? Куда вам, бабам, против мужиков?
– Мы не бабы, мы амазонки! Это у вас там бабы, которые готовы терпеть унижения и страдания, только бы член в доме оставался. Это ваши подстилки торгуют телом в подворотнях, да и дома в семье тоже. Это ваши бабы полдня шпалы укладывают, а после работы борщи варят, стирают и детям сопли вытирают, когда мужья с пивом и газетой сидят перед телевизором и пузо чешут. Это ваши бабы замуж выходят за квартиры, машины и кошельки, а не за людей.
– Ну, вот, что за феминистская пропаганда? Где это ты начиталась такого дерьма?
– Слушай, придурок, не зли меня.
– Ладно, ладно. Но всё равно, сиськи против танков – результат очевиден. Так что, ты на моей стороне?
Рииль отвернулась к окну и стала смотреть за сменой пейзажа. Они въезжали в Лес.Фантомы шли отдельной группой, пили Кока-коку и мурлыкали под нос последние хиты MVT. «Огородники» держались особняком, они добились нормального человеческого пайка и стопки старых газет, которые они читали прямо на ходу.
С остальными фантомами им было неинтересно, а люди их не принимали за своих. Но «огородники» не сдавались в своих намерениях стать людьми. Уркаган где-то намутил пузырь шнапса и пару пачек сигарет, они выучили несколько крепких словечек, подслушав их у фашистов. Им так хотелось влиться в ряды человечества. Хотелось быть такими же свободными в поступках и мыслях. Ведь как прекрасно дышать полной грудью и не чувствовать себя вторым сортом. Как это романтично – бухать, драться, материться, ходить на войну, убивать противников, брать пленных и насиловать мирное население, грабить и сжигать дома. То, что их взяли в этот поход, вдохновляло и приближало к цели. Новость, что их пустят первыми в атаку, окрыляла «огородников». Ведь им доверяют самую ответственную часть операции.
– А что такое «пушечное мясо»? – спросил Ментяра у Мурки.
– Где это ты услышал?
– Да солдаты так называют нас.
– Это, наверное, означает, что мы будем как бы снарядами, выпущенными по противнику. Представь, мы ворвёмся в ряды противников, подобно пушечным ядрам, сметая всё на своём пути.
– Красиво. Мне нравится.
– Я горжусь этим, – сказала Мурка.
– И я, – Ментяра от осознания своей значимости выпятил грудь и зашагал, чеканя шаг.
– Ментяра, а когда ты станешь человеком, что ты будешь делать?
– У меня есть одна мечта. Только не смейся, ладно?
– Смеяться над мечтой – никогда.
– Когда я стану человеком, я хочу вырубить как много больше деревьев. А ещё буду покупать химикаты, и сливать их в речку.
– Зачем? – удивилась Мурка.
– Не знаю, но так люди делают. А ещё хочу истребить последних панд. Вот.
– Круто. Молодец.
– А ты что будешь делать?
– После твоей мечты даже как-то неудобно говорить.
– Давай, выкладывай.
– Я выйду замуж за какого-то придурка. Он будет пить, я его буду пилить, а он меня будет бить. Потом я начну ему изменять с кем попало. Рожу ребёнка, отдам его в приют, разведусь и стану проституткой. У меня будет короткая юбка, высокие сапоги, чулки и море косметики на лице. Мне так нравится! Романтика, не то, что у нас сейчас. Вот такая мечта у меня.
– Классно. Эх, какая жизнь весёлая у людей.
– А я, – встрял в разговор Уркаган, – я стану милиционером.
– Супер! – в два голоса одобрили Мурка и Ментяра.
– Да, у меня будет дубинка, наручники и пистолет. Я буду ловить гастарбайтеров, отнимать у них деньги, а их самих продавать бандитам в рабство. Или на органы. Ещё не решил.
– Жиган, а ты кем будешь?
– Я буду бюрократом. Буду взятки брать и посетителям мозги трахать.
– Ай, молодца. А ты, Гопсосмыком?
– А я хочу стать певцом.
– Ты что, с ума сошёл? – удивился Жиган.
– Почему? Я буду петь попсу, стану богатым и знаменитым. Попаду в богемную среду, буду нюхать кокаин, спать с кем попало, даже с мужчинами, заражусь СПИДом и умру. А моё имя будут писать на мусорных киосках и заборах. Вовеки веков. Слава, память обо мне после смерти – вот моя мечта.
– Блин, ну, почему мы не люди? – вздохнул Жиган.
Они шли по пыльной дороге, заросшей у обочины гигантским подорожником и мечтали об одном – стать людьми.Павел проснулся от того, что что-то забыл. Что забыл – он так и не вспомнил, но эта мысль зудела и чесалась в мозгу, не давая уснуть. Спать уже не хотелось, в небе висела сиреневая огромная Луна, в воздухе висел сладкий аромат ночных цветов. Чёрные контуры деревьев вырисовывались на фоне звёздного ковра над головой. Романтичный пейзаж для романтиков и влюблённых.
Павел, к сожалению, не был ни тем, ни другим. Кроме того, у него раскалывалась голова, сводило желудок и тошнило. Полежав несколько минут, безрезультатно пытаясь вспомнить забытое, он решил прогуляться по округе и, за одно, поблевать. Только Павел встал на ноги, покачиваясь и всматриваясь в темноту, как сзади раздался оглушительный рёв, от которого закачались верхушки деревьев, и в траве началась паника. Сотни мелких зверьков бросились врассыпную, спасая свои никчемные жизни. Павел замер, не решаясь оглянуться. Рёв повторился, принеся с собой вонь тухлой рыбы. Стало страшно, захотелось броситься со всех ног в лесную чащу, забиться под корнем векового дуба и ждать своей участи. Но никто не хватал его и не рвал на куски, только слышался странный звук, похожий на работу гигантского насоса.
Павел оглянулся и увидел непонятно откуда взявшуюся гору, заслоняющую полнеба. Гора шевелилась и сопела. И тут опять раздался рёв, и Павел вспомнил, где он, почему так плохо, и с кем он пил. И откуда такой ужасающий звук. Это храпел динозавр.
– Ни фига себе, – пробомотал Павел и пошёл отлить за гараж.
– Кто это? – услышал он голос.
– А ты кто?
– Это мы, Максим и Лита.
Павел пошёл на голос, и увидел в свете луны два силуэта. Влюблённые сидели в обнимку на бревне.
– Что, не спится? – спросил Павел.
– Такая чудесная ночь, – ответил Максим.
– Омерзительная. Жвачки нет?
– Не-а.
Павел подошёл к ним, и тут что-то больно укололо его в лодыжку, в траве зашуршало и мелькнул огонёк, похожий на маленькую лампочку. Павел упал на колени, и схватил руками что-то твёрдое, живое, пытающееся вырваться из рук. Существо выгибалось, царапало коготками, но из этих рук ещё никто не вырывался, как любил говорить Павел. Он поднёс зверька к лицу, пытаясь разглядеть поближе, и вдруг добыча голосом Левитана сказала:
– Так, урод, а ну-ка отпустил меня быстро, а то сейчас как дам в бубен.
Павел от неожиданности чуть не ослабил хватку, но во время взял себя в руки. Существо неожиданно засветилось, и на его теле стала видна шкала с цифрами.
– Кому ты в бубен дашь? – переспросил Павел.
– Никому. Говорю – дама бубен у меня, бьёшь или забираешь?
– Что вы там поймали? – спросил Максим.
– Не знаю, но похоже на радиоприёмник.
Левитан снова сказал:
– Ты что, не понял? Положи, где взял.
И тут вдруг заиграла музыка, и запел Киркоров:
– Зайка моя, я твой зайчик, майка моя, я твой мальчик…
– Прикольно, – улыбнулся Павел.
– Палка моя, я твой пальчик, галка моя, я твой Галкин, – не унимался приёмник, – Тутти-фрутти, тутти-футти, уи а зэ чемпьёнс, тру-ля-ля. Концерт по заявкам окончен. Переходим к новостям. Как заявили учёные, у них пока нет объяснений загадочным явлениям, происходящих во всех уголках планеты. Треугольные облака, дожди из арифмометров и керосиновых ламп, появившийся портрет Брежнева на поверхности Луны, трещины во времени, дыры в бюджете, сиреневый туман, яблоки на снегу, лошадиный грипп – все эти недоразумения вызывают полное замешательство в научных кругах. Церковь утверждает, что это проделки Шайтана, и что близок полный капец за грехи наши. Ну, а простому народу остаётся только ждать новых вывихов природы.
– А у меня есть объяснения, – Павел бросил суровый взгляд на Максима, – это вы сюда эту всю заразу притащили. Не сиделось вам дома. Ничего, скоро всё поправим.
– Дядя, отпусти меня, – сказал Левитан, – или хотя бы держи понежнее, а то уже бок занемел. Новости внешней политики. Сообщение от фашистского политбюро. Наша захватническая армия уже подошла к границам Амазии, послезавтра планируется стремительное наступление, которое обеспечит быструю и полную победу над противником. За Родину, за Мэнсона, за фашизм во всём мире! Пива и сисек! И о погоде…
– Что он сказал? – вскочила Лита.
– А что он сказал? – пожал печами Павел.
– Что там про Амазию?
– Не знаю, я прослушал. Вроде, война какая-то.
– На Амазию напали? Чёрт! Что делать?
Она заметалась по поляне, заламывая руки.
– Нужно предупредить, мне срочно нужно попасть домой.
– Дорогая, успокойся, – остановил её, схватив за плечи, Максим. – Никто не напал. Только планируется.
– Тем более, можно ещё успеть. Паша, помогите мне, пожалуйста. Вы же…кто вы? Хранитель? Сделайте что-нибудь! Остановите это безумство.
На шум появился из темноты Борис, сонно потирая глаза.
– Что вы тут разорались? Павел, а что это у вас?
Приёмник самозабвенно пел что-то из репертуара Кубанского хора песни и пляски.
– Да вот, поймал. Радио какое-то.
Борис щёлкнул зажигалкой и поднёс огонь к зверьку. Это был приёмник, китайский, купленный в киоске на остановке за копейки. Проработал он неделю, и заглох. Долго лежал в гараже на полке, пока Боря вообще не потерял его из виду. Надо же, ожила техника, покрылась чешуёй, отрастила лапки, антенна ороговела и стала похожа на жало. На животике светилась шкала частот.
– А первая пууууля, а первая пууууля, – пело радио, – а первая пуля в жопу ранила коня-а-а.
– Интересно, громкость здесь регулируется? – Павел покрутил приёмник в поиске кнопок или колёсиков.
– А вторая пууууля в жопу ранила меня-а-а-а. Одногла-а-а-зая соба-а-ака покусала мне коня, – не унимался приёмник, пытаясь перекричать людей, – Четыре тру-у-упа возле та-анка украсят утренний пейзаж.
– Что ж он так орёт? Как его выключить? Ни одной кнопки нет.
– Павел! Бросьте вы его! – закричала Лита. – Мне немедленно нужно домой!
– А что, если ему антенну отломать? – предложил Максим.
– А вот этого не надо, – сказал Левитан, и радио сразу стало играть тише, – По просьбе бригады токарей болто-гаечного завода поёт Наташа Королёва. Ааа, в жопу мне тюльпа-аны, вестники разлуки, цвета запоздалой… фигня какая-то. Подставляй-ка губки малые, ближе к милому садись, эх, соло на балалайке.Заиграла балалайка, довольно виртуозно, что-то из Дип Пёпла.
– Наверное, он сошёл с ума, – поставил диагноз Павел, тупо глядя на несчастное существо в руке.
– Почему меня никто не слышит? – снова закричала Лита. – Отпусти меня!
Она вырвалась из рук Максима и пошла в ночь. Но пройдя метров десять, обо что-то споткнулась, упав в траву, и разревелась от отчаяния и беспомощности. Максим бросился к ней, сел рядом на колени и стал утешать.
– Интересно, от чего он работает? – сказал Борис. – Интересно разобрать, посмотреть.
– Я тебе посмотрю, тоже мне вивисектор, – пробасило радио. – А сейчас песня для тех, кто не спит. Лучичимчира, лучичимчира, завтра будет лучичимчира. А я нашёл другую, хоть не пи-и-и-и, простите, цензура вырезала, но целую. Губы твои, как маки, а вместо сердца плазменный мотор.
– Выпусти его лучше, – сказал Боря, – жалко его, убогого, пусть себе живёт.
Павел бережно положил приёмник в траву. Тот сразу вскочил на лапки, заморгал лампочкой, сказал «спасибо» и побежал прочь, распевая: «Волки, зайцы, тигры в клетке, и девчонки-малолетки в ловких и натруженных руках, ля-ля-ля».
– Интересно, там ещё осталось? – Павел ощутил прилив сил и желание снова напиться.
– Там же бочка была. Вы что, всю приговорили?
– Не знаю. А что там эта истеричка от меня хотела? Где она? Лита! – позвал он.
В ответ он услышал всхлипывания и бормотание Максима.
Павел подошёл к ним, присел на корточки и погладил Литу по голове.
– Что там случилось? А то мне это радио все мозги пропело.
Лита села, вытерла слёзы с щёк.
– Война. Фашисты утром нападут на Амазию.
– И что?
– Как что? Там моя родина. Там мама, там дом, там всё, что у меня есть.
– Хм, забавно. Война фашистов и феминисток. Ненавижу одинаково и тех и тех. Даже не знаю, за кого болеть. Они друг друга стоят. Господа, предлагаю делать ставки.
И тут Лита влепила Павлу пощёчину, со всей силы. Так, что он с корточек грохнулся на задницу. Максим вскочил, готовый защищать любимую. Борис тоже стал в стойку. Но Павел засмеялся, поднялся на ноги, отряхнул брюки и сказал:
– Ладно, девочка, не бойся. Что-нибудь придумаем. Не знаю ещё что, да и времени маловато. Давай поспим.
– Но почему послезавтра? – кричал Мэнсон. – Почему не завтра? Почему не сейчас? Мы стоим на границе. До противника рукой подать. Один короткий марш-бросок, небольшое сражение, и мы победители! Трофеи, женщины, праздничный банкет, наши знамёна над покорённым городом. Триумф, парад победы, мародёрство! Что мы ждём?
Главное фашистское командование стояло по стойке смирно, выпячивая груди, увешанные крестами и прочими медалями.
– Я требую ответа! – Мэнсон подошёл к Геббельсу, приставил к его лбу дуло пистолета. – Ты! Отвечай!
– Понимаете, фюрер, у немцев есть национальный праздник – Октовберфест. День пива, веселья, единения и потакания слабостям. И этот день завтра. Мы не сможем заставить людей воевать вместо того, чтобы сдувать пену с бокалов, говорить тосты, скакать на табуретах, петь йодли, есть сосиски и похлёбку из чечевицы. Поймите же, существуют вековые традиции, которые нарушать кощунственно. Арийцы получили мировое господство только благодаря своей педантичности, любви к порядку и распорядку. Тяга к хаосу и спонтанности не живёт в наших душах. Это чуждые нам понятия. Всё должно находиться на своих местах. Трусы в комоде, посуда в шкафу, завтрак в семь, секс по четвергам, а Октовберфест – завтра. Если ломать устои, хотя бы даже один, начнётся беспорядок, разгильдяйство и отсутствие дисциплины. А дисциплина на войне – главное. Вы согласны? Всего день переждать…
– Да?! – закричал Мэнсон. – А послезавтра у вас по плану – катание на пони или стрижка газонов. И что тогда? Так и будем здесь куковать? Нам нужно стремительное наступление. И вообще, какой ещё Октовберфест? У нас что сейчас, октябрь что ли?
– Завтра пятница. Этот праздник проводится каждую пятницу.
– Чёрт, хорошо живёте! В четверг – секс, в пятницу – пиво, в субботу – день похмелья, в воскресенье – церковь. Немедленно привести войска в боевую готовность. Через час выступаем.
– Вы, конечно, можете меня пристрелить, но ничего не изменится. Никто воевать не будет.
– А если расстрелять каждого пятого?
– Хм, – Геббельс почесал затылок. – Не получится. У нас патронов почти не осталось.
– Это как?
– Ну, просто. Мы же провизии мало взяли, чтоб солдаты голодные и злые в бой шли, так они по пути у местного населения патроны на жратву выменивали.
– Что?! Ублюдки! Ладно! Я сейчас лично каждому второму глотку перережу!
Мэнсон дрожащей рукой снял с культи крюк и на его место поставил нож. Огромный, с кровостоком, больше похожий на небольшой меч.
– Сейчас же! Каждому второму! – выкрикнул он и выскочил из палатки, в которой располагался штаб.
– Это вряд ли, – пробормотал Геббельс.
Мэнсон вернулся через несколько секунд. Его трясло от негодования, в уголках рта висела пена. Генералы по-прежнему стояли навытяжку.
– Где все? – спросил Чарли.
– Дома. Говорят же вам – Октовберфест. Что его, в лесу праздновать? И пива тут нет. Но ничего, послезавтра в семь утра все будут здесь, все до одного. Ни минутой позже. Чтоб на завтрак успеть. Завтрак в семь…
– Спасителя ангела хранителя мать! – рявкнул Мэнсон. – Пошли вон все, пока я за вас не взялся.
Командование за секунду растворилось в воздухе. Мэнсон сел на стул, стараясь унять раздражение. Его всего трясло, и хотелось кого-нибудь выпотрошить. Он слышал, как офицеры шумно погружаются в грузовик, чтобы успеть домой, отпраздновать грёбанный Октовберфест. Завёлся мотор, чихая и пукая, и машина укатила, увозя вдаль дружное «Ах, мой милый Августин».
Чарли закурил, вышел на улицу в объятия ночи. При свете луны прорисовывались контуры брошенных танков, пушек, мотоциклов и самокатов. Поляна, на которой разбили лагерь, больше походила на свалку металлолома.
Кроны деревьев чёрными великанами покачивались на фоне усеянного звёздами неба; журчал сверчок и злорадно ухала сова. Воздух пропитался ароматами ночных цветов. Но Мэнсон видел перед собой горы трупов и слышал мольбы о пощаде. Голоса в голове требовали.
– Ну что же ты, – говорили они, – для чего ты собрал нас? Слабак! Где жертвы? Мы голодны. Напои нас кровью, накорми нас плотью. Или мы устроим в твоей башке такую революцию… Давай, взорви этот мир к чертям собачьим! Пусть они все сдохнут.
Кто-то истерично хохотал, кто-то монотонно просил, кто-то матерился. Голова разболелась, в глазах заиграли бензиновой радугой цветные пятна, подступила тошнота.
– Заткните пасти, уроды. Замолчите немедленно.