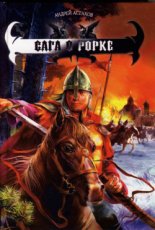Смерть эксперта-свидетеля Джеймс Филлис

– Ну, еще бы, – сказала она. – Кто же этого хочет. – И Дэлглишу: – Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти.
– Нам нужны будут ваши письменные показания.
– Разумеется. Разве бывает так, чтобы они не были вам нужны? Тоска и одиночество, страх и отчаяние, вся человеческая неразбериха, на аккуратно подшитых полутора страничках канцелярской бумаги.
– Нет, только факты.
Он не спросил ее, когда это началось. На самом деле это не имело большого значения, и он счел, что нет необходимости спрашивать. Бренда Придмор говорила, что сидела на концерте в часовне в одном ряду с миссис Шофилд и доктором Керрисоном с детьми. Это было в четверг, двадцать шестого августа. А в начале сентября Доменика порвала с Эдвином Лорримером.
У двери она приостановилась и обернулась. Дэлглиш спросил:
– Он звонил вам утром, после убийства, – сказать, что положил ключ в карман Лорримеру?
– Он никогда мне не звонил. Никто из них не звонил. Никогда. Мы так договорились. А я никогда не звонила ему. – Она помолчала, потом сказала, достаточно резко: – Я не знала. Может быть, подозревала, но ничего не знала. Мы – как это вы выражаетесь? – не предумышляли этого вместе. Я не виновата. Это было не из-за меня.
– Нет, – сказал Дэлглиш. – Я и не предполагал, что из-за вас. Мотив убийства редко бывает таким незначительным.
Она подняла на него свои невероятные, незабываемые глаза и спросила:
– Почему я вам не нравлюсь?
Эгоцентризм, продиктовавший такой вопрос, да еще в такое время, неприятно поразил Дэлглиша. Но гораздо неприятнее было ему узнать кое-что и о себе самом. Он прекрасно понимал, отчего эти двое мужчин готовы были тайком, виновато, словно сексуально озабоченные подростки, пробираться на свидания с ней, становиться партнерами в ее сложной эротической игре. Он и сам, если бы представилась такая возможность, сделал бы то же самое.
Она ушла. Дэлглиш подошел к мисс Уиллард:
– Это вы звонили доктору Лорримеру, чтобы сообщить об обгоревших свечах и номерах псалмов на доске в часовне?
– Я болтала с ним, когда он подвозил меня в церковь, к мессе, в позапрошлое воскресенье. Приходилось мне о чем-нибудь разговаривать, он-то всегда молчал. А я беспокоилась из-за свечей в алтаре. Я впервые заметила, что кто-то их зажигал, когда заходила в часовню в конце сентября. А в последний раз они еще больше обгорели. Я подумала, а вдруг часовней пользуются «Слуги сатаны»? Я знаю, она уже давно секуляризована, но ведь все равно это святое место. И стоит так укромно. Никто там не бывает.
Жители Болот не любят выходить по вечерам. И я подумала, может, стоит поговорить с пастором или с отцом Грегори посоветоваться. Доктор Лорример попросил меня опять зайти в часовню на следующий день и сообщить ему номера псалмов, что на доске написаны. Я подумала тогда – как странно, что он об этом попросил. Но он, видно, подумал, что это важно знать. А я даже и не заметила, что номера поменялись. Понимаете, я могла попросить ключ. А ему это было бы неприятно.
Но он ведь мог взять ключ, не расписываясь в журнале, подумал Дэлглиш. Почему же он не сделал этого? Из-за риска, что его увидят? Потому, что его одержимой законопослушной натуре претила сама мысль о нарушении лабораторных правил? Или, что более вероятно, оттого, что ему невыносимо было бы войти в эту часовню снова, увидеть воочию приметы ее предательства? Она даже не побеспокоилась изменить место встреч. Она по-прежнему пользовалась хитроумным кодом, чтобы обозначить дату нового свидания. Даже ключ, который она вручила Керрисону, был ключом Лорримера. И никто лучше него не знал значения тех четырех цифр: двадцать девятый день десятого месяца, в шесть сорок.
– И вы вместе с ним ждали в тени деревьев в прошлую пятницу? – спросил коммандер.
– Это была его идея. Ему нужен был свидетель, понимаете? О, у него были причины беспокоиться. Такая женщина, совершенно неподходящая, чтоб стать мачехой Уильяму. Один мужчина за другим, сказал доктор Лорример. Поэтому она и из Лондона должна была уехать. Не могла ни одного мужчину пропустить. Любой ей годился. Он все про нее знал. Сказал – все в Лаборатории знают. Она даже ему когда-то делала авансы. Кошмар. Он собирался написать миссис Керрисон и положить этому конец. А я не могла дать ему адрес. Доктор Керрисон такой сдержанный на этот счет. Но я не уверена, что он и сам точно знает, где сейчас его жена находится. Но мы знали, что она с одним доктором сбежала, и его фамилию знали. Такая обычная фамилия, каких много, но доктор Лорример сказал, что сможет найти его по медицинскому справочнику.
Медицинский справочник. Вот о чем ему надо было справиться, вот почему он так быстро открыл дверь, когда позвонил Брэдли. Ему нужно было лишь выйти из директорского кабинета на первом этаже. И в руках у него была тетрадь для записей. Как это Хоуарт сказал? Он терпеть не мог клочков бумаги. Он всегда пользовался тетрадью, записывая все, что ему представлялось важным. А это было важно. Фамилии и адреса возможных любовников миссис Керрисон.
Мисс Уиллард подняла голову и взглянула на Дэлглиша. Он увидел, что она плачет, слезы стекали по щекам, оставляя блестящие полосы, и падали на сплетенные, нервно сжимающиеся пальцы.
– Что с ним будет? – спросила она. – Что вы с ним сделаете?
Зазвонил телефон. Дэлглиш быстро прошел через холл в кабинет и взял трубку. Это был Клиффорд Брэдли. Голос его звучал громко и возбужденно, как голос восторженной девушки.
– Коммандер Дэлглиш? – спросил он. – В полиции мне сказали, что вы, может быть, еще тут. Я должен вам сейчас же сообщить. Это важно. Я только что вспомнил, откуда я знал, что убийца еще в Лаборатории. Я услышал какой-то звук, когда подошел к двери. Тот же самый звук я услышал две минуты назад, когда шел вниз по лестнице, выйдя из ванной. Сью как раз закончила с матерью по телефону разговаривать. Вот что это был за звук: кто-то трубку положил на рычаг, а я услышал.
Брэдли всего лишь подтвердил то, о чем Дэлглиш подозревал уже давно. Он вернулся в гостиную и спросил у мисс Уиллард:
– Почему вы сказали нам, что слышали, как доктор Керрисон звонил по телефону из своего кабинета в девять часов? Он просил вас солгать ради него?
Она подняла к нему испещренное пятнами лицо и полные слез глаза:
– О нет, что вы! Он никогда не сделал бы этого! Он только спросил, не слышала ли я случайно, как он разговаривал. Это было, когда он вернулся домой после вызова на место преступления. Я хотела ему помочь, хотела, чтоб он был мной доволен. Ведь это была такая незначительная, такая несущественная ложь. И, если по-настоящему, это даже не было ложью. Я подумала, что, может, я и в самом деле слышала его голос. Вы, может, его подозревали, а я знала, что он просто не мог этого сделать. Он добрый, хороший и очень мягкий человек. И это, кажется, такой простительный грех – оберечь невинного. Эта женщина завлекла его в свои сети, но я знала, что он не способен на убийство.
Скорее всего, он с самого начала собирался позвонить в больницу из Лаборатории, если не успеет вернуться домой вовремя. Но звонить туда, когда тут же лежал убитый им Лорример, – это требовало железных нервов. Он, видимо, едва успел положить трубку, как услышал приближающиеся шаги. И что тогда? В темную комнату – следить и ждать? Это, должно быть, был один из самых страшных моментов: стоять вот так, в темноте, задержав дыхание, с колотящимся сердцем, и думать, – кто же это может быть, и как вошел в Лабораторию? Это ведь мог быть Блейклок, Блейклок, который сразу же позвонит в полицию, который сразу же примется обыскивать Лабораторию.
Но это был всего-навсего до смерти перепуганный Брэдли. Не было ни телефонных звонков, ни призывов на помощь, только эхо панического бега по коридору. И теперь все, что ему оставалось делать, – это спокойно последовать за Брэдли, спокойно выйти из Лаборатории и отправиться домой через новое здание, так же, как он пришел сюда. Он выключил свет и подошел к парадной двери. И увидел свет фар: машина Дойла свернула на въездную аллею и остановилась в кустах. Он теперь не мог решиться выйти через эту дверь. Путь был закрыт. И ждать, пока они уедут, он тоже не мог. Дома осталась Нелл, она могла проснуться и спросить, где отец. И ответный звонок в десять часов. Необходимо было вернуться.
Но головы он и тут не потерял. Это был умный шаг – взять у Лорримера ключи и запереть Лабораторию. Полицейское расследование неминуемо должно было сосредоточиться на четырех наборах ключей и ограниченном числе тех, кто имел к ним доступ. И он знал единственный путь из здания, а мужества и умения им воспользоваться ему было не занимать. Он надел халат Миддлмасса, чтобы предохранить свою одежду: он ведь знал, какую фатальную роль может сыграть одна надорванная шерстяная нитка. Но ничего не было порвано. А легкий ночной дождь смыл со стен и окон все следы, которые могли бы его выдать.
Он благополучно добрался домой и придумал предлог, чтобы зайти к мисс Уиллард, создавая себе более прочное алиби. Никто ему не звонил, никто не приходил. И он знал, что завтра будет одним из первых вызван освидетельствовать труп. Хоуарт сказал, что стоял возле двери, пока Керрисон осматривал тело. Видимо, тогда-то он и вложил ключ от часовни в карман к Лорримеру. Это и стало одной из его ошибок: Лорример носил ключи в специальном кожаном футляре, а не просто в кармане.
По гравию въездной аллеи прошуршали шины. Дэлглиш взглянул в окно: подъехала полицейская машина с сержантом Рейнольдсом и двумя женщинами-полицейскими на заднем сиденье. Сопротивление материала было сломлено, можно было открывать дело. Только на самом деле сломленным оказывалось не сопротивление материала, сломлены бывали прежде всего люди. А сейчас Мэссингем и он, Дэлглиш, освободились для последнего разговора – самого трудного из всех.
У кромки мелового карьера мальчик запускал красного змея. Увлекаемый свежайшим ветром, змей взмывал вверх и пикировал, виляя волнистым хвостом на фоне лазурного неба, безоблачного и ослепительного, словно в разгар лета. Весь карьер полнился веселыми голосами и смехом. Даже пустые жестянки из-под пива сверкали, словно блестящие игрушки, а скомканная бумага кегельными шарами каталась под порывами ветра. Воздух был свежий, остро пахло морем. Легко было поверить, что субботние покупатели, тянувшиеся через пустырь с корзинками и детьми, направляются на пикник у берега моря, что меловой карьер выводит прямо к дюнам и зарослям тростника, к звенящему детскими голосами пляжу. Даже щит ограждения, который полицейские, борясь с ветром, пытались установить, выглядел как ширма кукольного театра «Панч и Джуди», перед которой в некотором отдалении собралась кучка зевак, терпеливо ожидающих начала представления.
Первым навстречу им по склону карьера поднялся суперинтендент Мерсер. Он объяснил:
– Неприятное дело. Муж той молодой женщины, которую в среду тут обнаружили. Он подручный мясника. Вчера унес с собой один из ножей и вечером явился сюда, горло себе перерезал. Записку оставил, бедолага чертов: признался, что это он убил. Этого могло и не случиться, если бы мы успели его вчера арестовать. Но пришлось подзадержаться из-за убийства Лорримера и отстранения Дойла. Мы результаты по крови только вчера поздно вечером получили. А вам кого надо повидать?
Мерсер с любопытством поглядел на Дэлглиша, но тот сказал только:
– Доктора Керрисона.
– Он тут уже закончил. Я ему передам.
Минуты через три длинная фигура Керрисона появилась над кромкой карьера, и доктор направился к ним.
– Это Нелл? – спросил он. – Да.
Он не спросил, как или когда. Он внимательно выслушал Дэлглиша, произносившего обычные слова предупреждения, как будто никогда раньше ему не доводилось их слышать, как будто он хотел, чтобы они запали ему в память. Потом, глядя на Дэлглиша, сказал:
– Мне не хотелось бы сразу ехать в полицейский участок Гайз-Марша. Хочу рассказать об этом вам сейчас, и только вам одному, никому больше. Никаких трудностей у вас не будет. Сделаю полное признание по всей форме. Что бы ни случилось, я не хочу, чтобы Нелл пришлось давать показания. Вы можете обещать мне это?
– Вы же сами знаете, что не могу. Но я не вижу причин, почему Королевскому суду надо было бы вызывать ее, если вы намереваетесь признать себя виновным.
Дэлглиш открыл дверцу машины, но Керрисон отрицательно покачал головой. И сказал без малейшего намека на жалость к себе:
– Мне бы хотелось побыть на воздухе. Впереди столько лет отсидки, когда у меня не будет возможности пройтись под открытым небом. Может быть, это – на всю оставшуюся жизнь. Если бы только убийство Лорримера, я мог бы надеяться на вердикт о простом убийстве. Оно ведь было непредумышленным. Но второе – предумышленное.
Мэссингем оставался у машины, пока Дэлглиш и Керрисон ходили вокруг мелового карьера. Керрисон говорил:
– Это началось здесь, на этом самом месте, всего четыре дня тому назад. А чувство такое, будто вечность прошла. Другая жизнь, другое время. Нас обоих вызвали в меловой карьер, на место убийства, а он потом отвел меня в сторону и велел мне встретиться с ним в тот же вечер, в восемь тридцать, в Лаборатории. Не попросил – велел. И сказал, о чем собирается поговорить со мной. О Доменике.
– Вы знали, что он был ее любовником? – спросил Дэлглиш. – До вас?
– Не знал, пока не увиделся с ним в тот вечер. Она никогда не говорила со мной о нем. Ни разу даже его имени не упомянула. Но когда он излил на меня этот поток ненависти, зависти, ревности, тогда, разумеется, я все понял. Я не стал спрашивать, как он про меня узнал. Я думаю, он сошел с ума. Может быть, мы сошли с ума оба.
– И он пригрозил вам, что напишет вашей жене и помешает передаче детей на ваше попечение, если вы не откажетесь от Доменики?
– Он собирался написать ей в любом случае. Он хотел вернуть Доменику, и, я думаю, он, бедняга, и вправду верил, что это возможно. И все же ему обязательно надо было меня наказать. Только один раз в жизни я видел такую же ненависть. Он стоял там, с побелевшим лицом, понося меня, обливая грязью, грозя, что я потеряю детей, что я не имею права быть отцом, что я их никогда больше не увижу. И вдруг оказалось, что это говорит не Лорример. Понимаете, я все это уже слышал раньше от собственной жены. Голос был его, но слова – ее. И я понял, что больше не могу этого вытерпеть. Я не спал почти всю предыдущую ночь; Нелл устроила мне ужасную сцену, когда я вернулся домой; и я весь день волновался, не представляя, что Лорример собирается мне сказать.
И тут зазвонил телефон. Звонил его отец, жаловался на телевизор. Лорример очень коротко поговорил с ним и повесил трубку. Но, когда он разговаривал, я увидел молоток. И вспомнил, что у меня в кармане куртки – перчатки. Разговор с отцом, казалось, его отрезвил. Он заявил, что ему нечего больше мне сказать. И вот, когда он повернулся ко мне спиной, я схватил молоток и ударил. Он упал без единого звука. Я положил молоток на стол и тут увидел раскрытую тетрадь для записей с адресами и фамилиями трех врачей. Один из них был любовником моей жены. Я вырвал эту страницу, скомкал и сунул в карман. Подошел к телефону и позвонил. Было только девять часов. Я думаю, остальное вам известно.
Они уже обошли меловой карьер, шагая рядом, глядя на яркую траву на краях впадины. Теперь они повернули и пошли тем же путем обратно.
– Лучше будет, если вы мне расскажете, – сказал Дэлглиш.
Но ничего нового он так и не узнал. Все произошло именно так, как он рассудил. Когда Керрисон закончил описывать, как он сжег халат и тетрадную страничку, Дэлглиш спросил:
– А Стелла Моусон?
– Она позвонила мне в больницу и попросила встретиться с ней в часовне вчера в половине восьмого. Примерно сказала, о чем пойдет речь. Сказала, что у нее оказался черновик письма, который она нашла на чьём-то секретере. Я понял, о чем там говорилось.
Она, видимо, взяла письмо с собой в часовню, подумал Дэлглиш. У нее в столе письма они не обнаружили, ни черновика, ни оригинала. Это было совершенно необычно, что она и в самом деле рискнула дать Керрисону понять, что письмо при ней. Как он мог быть уверен, что она не сняла с письма копию? И как она могла быть уверена, что он не попытается силой завладеть письмом?
Словно прочитав его мысли, Керрисон сказал:
– Все было не так, как вы полагаете. Она не пыталась продать мне письмо. Она ничего не собиралась продавать. Она объяснила мне, что взяла письмо с секретера почти импульсивно, не хотела, чтобы его обнаружила полиция. По какой-то причине, которую она не захотела мне привести, она ненавидела Лорримера и не испытывала ко мне неприязни. Вот что она мне сказала: «За свою жизнь он достаточно причинил горя. Так надо ли, чтобы он причинял людям горе и после смерти?» И еще одну необыкновенную вещь произнесла: «Когда-то я была его жертвой. Не вижу, почему теперь его жертвой должны стать вы». Она смотрела на это так, что она как бы на моей стороне, что она оказала мне услугу. И теперь просила меня об ответной услуге, о чем-то совершенно обычном и простом. О чем-то, что я, с ее точки зрения, вполне мог себе позволить.
– Денег на покупку Спроггова коттеджа? – спросил Дэлглиш. – Чтобы она и Анджела Фоули могли внести залог.
– Она даже не просила о безвозмездном даре. Только взаймы. Ей нужно было четыре тысячи фунтов под такой процент, какой она могла себе позволить. Она отчаянно нуждалась в деньгах, и ей надо было найти эту сумму как можно скорее. Она объяснила мне, что ей не у кого больше было просить. И была вполне готова подписать соответствующий, юридически оформленный договор. Мягче, добрее и разумнее шантажиста и придумать невозможно.
И она полагала, что имеет дело с самым мягким, добрым и разумным человеком на свете. Она совершенно не испытывала страха до самого последнего, страшного момента, когда он вытащил из кармана шнур и она поняла, что перед ней не товарищ по несчастью, не жертва, а убийца. И Дэлглиш спросил:
– Шнур вы, должно быть, приготовили заранее? Когда вы решили, что она должна умереть?
– Даже и это, как и смерть Лорримера, было почти случайностью. Она взяла ключ у Анджелы Фоули и пришла в часовню первой. Сидела на одной из скамей в алтаре. Дверь она оставила открытой, и когда я вошел в притвор, я увидел сундук. Я знал, что там лежит шнур. У меня было достаточно времени обследовать часовню, пока я ждал Доменику. Так что я достал шнур и положил в карман. Потом прошел к ней, и мы поговорили. Письмо она взяла с собой, оно было у нее в кармане. Она его достала и показала мне. Ни капельки страха. Письмо не было закончено, всего-навсего черновик, над которым он трудился. Он, видимо, наслаждался, когда его писал, очень старался получше все выразить.
Она была необыкновенная женщина. Я сказал, что одолжу ей деньги, что попрошу своего поверенного составить соответствующий договор. Там лежал молитвенник, и она заставила меня положить на него руку и поклясться, что я никогда, никому не скажу о том, что между нами произошло. Я думаю, ее ужасала мысль, что Анджела Фоули когда-нибудь узнает об этом. Тогда-то я и понял, что она, и только она, владеет этой опасной информацией, и решил, что она должна умереть.
Он остановился. Повернулся к Дэлглишу и сказал:
– Понимаете, я не мог рисковать, доверившись ей. Я не пытаюсь оправдаться. Я не пытаюсь даже заставить вас понять меня. У вас нет детей, вы не знаете, что значит – быть отцом. Вы и не смогли бы понять. Я не мог позволить, чтобы моя жена получила в руки такое оружие против меня, когда дело об опеке дойдет до высокого суда. Присяжных вряд ли обеспокоило бы то, что у меня есть любовница: это не означает, что я не способен заботиться о своих детях. Если бы означало, многие ли родители получили бы право опеки над своими детьми? Но тайная связь, скрытая мной от полиции, да еще с женщиной, чей предыдущий любовник был убит? А мое не весьма надежное алиби в тот вечер, при достаточно веском мотиве убийства? Не покачнет ли все это чашу весов? Моя жена привлекательна и лжет вполне правдоподобно – и внешне кажется вполне нормальной. Безумие не так уж трудно диагностировать, невроз гораздо менее драматичен внешне, но смертельно опасен, если с ним приходится сосуществовать. Она оторвала нас друг от друга – меня и Нелл. Я не мог допустить, чтобы она забрала Уильяма и Нелл. Когда я стоял там, в часовне, и смотрел в глаза Стеллы Моусон, я понял: ставка – их жизнь против ее.
И это оказалось так легко. Я набросил шнур ей на шею двойной петлей и сильно потянул. Она умерла, должно быть, сразу же. Потом я отнес ее в притвор и повесил, привязав шнур к крюку. Не забыл потереть подошвы ее сапог о сиденье стула, а стул опрокинул. И пошел через поле туда, где оставил машину. Я ее поставил там, где Доменика ставит свой «ягуар», когда мы с ней встречаемся: в тени старого амбара у дороги на Гайз-Марш. Даже расчет времени был очень удачным. Я должен был ехать в больницу на заседание медицинской комиссии, но собирался сначала заехать к себе в Лабораторию, кое-что доделать. Даже если кто-то в больнице и заметил, в какое время я приехал, оставалось всего двадцать минут, которые я не мог оправдать. Но я вполне мог задержаться в пути на лишние двадцать минут.
Они молча шли к машине. Потом Керрисон снова заговорил:
– Я и до сих пор не могу этого понять. Она такая красивая. И дело не только в ее красоте. Она могла бы получить любого мужчину, стоило только захотеть. Поразительно, что по какой-то непонятной причине ей оказался нужен я. Когда мы были вместе, лежали при свете свечей в тишине в покое часовни, после того как были близки, все волнения, все тревоги, вся ответственность – все исчезало, забывалось. Встречаться было легко, ведь вечера очень темные. Она могла спокойно оставлять машину у амбара. Никто не выходит на Гайз-Марш-роуд по вечерам, и машины очень редки. Я знал, весной будет труднее, потому что темнеет поздно. Но ведь я и не надеялся, что так долго буду ей нужен. Это чудо, что я вообще ей понадобился. Я никогда не загадывал дальше следующей встречи, дальше новой даты на доске для обозначения псалмов. Она не разрешала мне звонить ей. Я никогда не видел ее, не разговаривал с ней иначе, как только наедине, в часовне. Я понимал – она не любит меня, но это было не важно. Она давала мне все, что могла, этого мне было достаточно.
Они уже подошли к машине. Мэссингем открыл и придержал дверцу. Керрисон обернулся к Дэлглишу и сказал:
– Это не было настоящей любовью, и все же, по-своему, мы любили друг друга. И был такой покой. И сейчас тоже – покой: ведь я больше ничего не должен делать. Конец ответственности, конец волнениям. Убийца навсегда ставит себя вне общества, вне человечества вообще. Это – как смерть. Я словно умирающий: проблемы никуда не ушли, это я ухожу от них в иное измерение. Я многое утратил, убив Стеллу Моусон, даже право чувствовать боль.
Он сел в машину на заднее сиденье, не проронив больше ни слова. Дэлглиш закрыл дверцу. И тут сердце его на мгновение дало сбой: желто-синий мяч, выпрыгнув из карьера, понесся ему навстречу, а за ним, громко смеясь, с кричащей матерью по пятам, выскочил на дорогу мальчик. На единый ужасный миг Дэлглишу показалось, что это Уильям: это его темная челка, его красные, сверкающие на солнце сапожки.