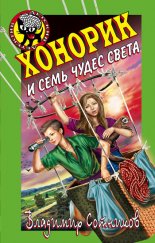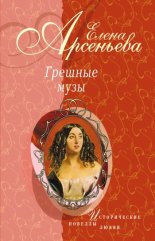Амнезия Чехонадская Светлана
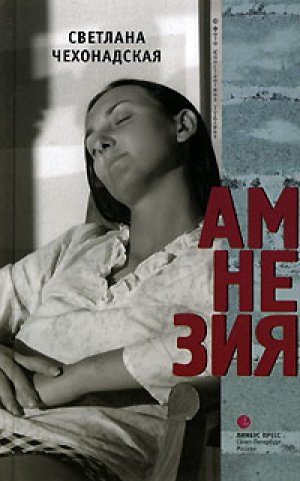
– Отработали и разбежались. И вообще, они пили, мне кажется. Я бы их больше не нанял. А бригадир – россиянин, он из Тамбова, он русский…
Турчанинов нашел бригадира уже к вечеру. Как раз этот-то, из Тамбова, и был пьяным. Он сидел на лавочке возле кустов, лениво переговаривался с двумя таджиками, сидящими на траве, и отхлебывал пиво из бутылки. Лицо у него было красное – видимо, сгорел на солнце.
– Меня уже допросили! – развязно сообщил он. – И криминала не обнаружили. Я и не должен документы проверять, пусть ДЕЗ проверяет.
– Сколько человек работало у двенадцатого дома?
– Четверо.
Таджики залопотали, потом засмеялись.
– Это вы их нанимали?
– Да прямо! Ты больше нашего директора слушай. Он и нанимал, а теперь все на меня валит. Да пусть валит, мне насрать, я этой работой не дорожу…
– Где он их нашел, как вы думаете?
– Я после рабочего дня никак не думаю. Клянусь, ни одной мысли нет в башке! Как назло.
– Я не милиционер, я частный детектив.
– Увлекательная работа, – с большим интересом произнес бригадир. – А как платят, нормально?
– И все-таки, где он их нашел?
– Один здесь все время ошивается, но работник из него – как из меня балерина. Ну, когда никого нет, его берут. За бутылку. Двое других пришли в ДЕЗ сами. Как раз нужно было в двенадцатом доме двор привести в порядок, мне их Михалыч и дал. Сказал, чтоб за неделю управились.
– Вы о них что-нибудь знаете?
– Что я о них могу знать? Алкаши… Вот Уруз, – он показал пальцем на одного из таджиков, – он киргиз и не пьет. Религия не позволяет! Хорошая религия мусульманская, да, Уруз? У него два высших образования, секи! Он строитель. Что, Уруз, не нравился вам Советский Союз? Независимости хотелось? Получили независимость, довольны? Вот придурки! Так вам и надо.
Таджик, оказавшийся киргизом, беззлобно улыбнулся.
– Видишь, как ты много знаешь об Уру-зе, – ласково произнес Турчанинов. – И о тех ребятах ведь знаешь.
Бригадир сильно удивился.
– Ну, тот, что здесь ошивается, я о нем кое-что знаю, – согласился он. – У него мать алкоголичка, они жили в этом районе, еще в коммуналке. Он здесь каждую подворотню знает. Даже откопал однажды какое-то говно, которое еще в детстве закопал. Секи?
– А двое других?
– Один приезжий. С Хохляндии, кажется. Если бы я сразу знал, я бы его не взял – терпеть не могу хохлов. Хитрый! Себе на уме, сволочь.
– Сколько ему лет?
– Да за пятьдесят, пожалуй. Кстати, у него одного легкого нет, вспомнил! Он дышал так смешно, как будто он резиновая игрушка и у него в боку дырка!
Уруз снова улыбнулся, другой киргиз, видимо, не понял ни слова.
– Так. А третий?
– А третий молчал все время. Вот о нем, честное слово, бля буду, ничего не знаю! Только имя и фамилию.
От неожиданности Турчанинов рассмеялся.
Бригадир, видимо, решил, что ему не поверили, и обиделся.
– Чего ты ржешь? – спросил он. – Правда. Он сказал, что его зовут Михаил. А фамилия Королев.
… Марина шла к своему подъезду. В руках у нее были два пакета с продуктами – она возвращалась из супермаркета. На дне пакетов лежали сыр, сосиски, хлеб, дальше йогурты, творог, еще выше яйца; пакеты оттягивали руки. Она очень жалела, что рядом нет шофера. Нет, не из-за тяжести: ей казалось, что за ней следят.
Марина теперь пугалась собственной тени. Ее предупреждали в клинике, что реакция на произошедшее будет отсроченной, то есть труднее всего станет примерно через месяц. Так и получилось.
Пытаясь анализировать свою жизнь, она ясно увидела, что она – девушка, проведшая пять лет в коме, круглая сирота, оставленная один на один с миром, многие законы которого она даже не помнит. «Вам будет трудно, – говорила Иртеньева. – Но вы должны знать, что это нормально. У вас даже появится отчаянье, и это тоже хорошо! Так лечат многие упорные хронические заболевания: вызывают обострение и лечат уже открытую форму. Иначе хроническую болезнь не победить – она должна выплеснуться наружу».
Иртеньева вообще много Марине объясняла, относилась к ней как к студентке медицинского института. Бывшей и будущей, хотя какое может быть будущее? Разве теперь сдашь все эти вступительные экзамены? Ей в последнее время часто снилось, что она стоит у школьной доски и ее спрашивают о чем-то – она понимает, что вопрос связан с физикой, и покрывается холодным потом: ничего из физики она не помнит.
Узнав об этих ее кошмарах, Иртеньева рассмеялась и сказала, что они бывают у многих людей, и дело не в амнезии. «Мне, например, снится, что я должна сдавать экзамен по диалектическому материализму. Марина, я точно так же покрываюсь холодным потом. Однажды даже прозвучало название: эмпириокритицизм! Как же я испугалась: такое страшное название! Кретинизм – куда лучше».
Они обе смеялись над этими словами.
Иртеньева говорила еще, что при первых признаках отчаянья нужно обратиться к ней – в любое время дня и ночи; что она даст специальные таблетки… Марина боялась этих таблеток, потому что очень боялась теперь что-то забыть, даже поняла, что никогда не сможет пить вино, ведь и оно может исказить ее восприятие мира. Такое ценное, с таким трудом добытое… В эти минуты Марина верила, что она – Марина.
Обещанное отчаянье начало прибывать, как прилив: медленно и неотступно. Его она боялась не очень сильно, гораздо страшнее было знание, связанное со всеми этими преступлениями и возможностью оказаться не тем, кем она проснулась. Это был бы уже не прилив – цунами. Выжить в нем казалось ей почти невероятным.
Марина шла со своими пакетами и ругала себя: она по привычке посчитала, что десять часов – еще не ночь, но заканчивался июль, и день сильно укоротился. Тени сгустились, кусты приблизились к дорожке и даже задевали ее лицо. Хотелось протянуть руки перед собой и идти так, но руки были заняты.
За кустом кто-то зарычал, сердце ухнуло в пятки.
Вчера она слышала по телевизору, что в Москве развелось огромное количество бездомных собак, и они даже загрызли какую-то женщину на пустыре… Какая страшная смерть. Рычание словно двигалось следом, там, за кустами…
«А вдруг это собака из моих снов? Вдруг это Рекс?… Что-то хлопает: это выбивают ковер или стучит собачий хвост? Да это удары сердца! – Оно билось уже в горле и в ушах. – А если я сплю, то может быть все что угодно. В том числе самое страшное. Сны разума рождают чудовищ, кто это сказал? Кто это сказал?! Как можно не помнить таких очевидных вещей! Проклятая уродка, кто это сказал, вспомни!!! Успокойся! Успокойся… Во сне не может быть страшнее, чем наяву. Твоя явь намного страшнее любого сна… Если это собака, бежать нельзя…»
Кусты кончились, она вышла к освещенному подъезду и обессиленно опустилась на лавочку. И ноги и руки были слабыми, словно их кости размягчились до консистенции зефира.
Просидев несколько минут, Марина глубоко вдохнула и решила продолжать путь. В конце концов, остается самая безопасная его часть. Подъезд на замке.
Она открыла его ключом, поднялась к лифту, нажала кнопку – руки дрожали не только от испуга, но и от тяжести пакетов. В закрытом лифте ей стало лучше, хотелось ехать так до утра.
Двери открылись, Марина с ужасом посмотрела перед собой.
Лестничная площадка была абсолютно темной. Кто-то выкрутил лампочку? Или она перегорела?
«Да успокойся, подъезд на замке! Нужно пройти только шесть шагов, достань ключи заранее…» Она послушно достала ключи. «Неприятен только закуток у соседской двери, – предательски сказала память. – Там так темно и страшно, там может поместиться человек. Он выдвинется из темноты и медленно пойдет к тебе, а ключ все не будет, не будет попадать в замочную скважину. И это будет бесконечно, но и это кончится, ах, лучше бы оно не кончалось, ведь даже страх не так страшен, как смерть…»
Лифт уже три раза закрывался, и она снова открывала двери, нажимая кнопку. Воображение ворочалось внутри нее, готовясь представить новые сцены, – скажем, его руку, хватающуюся за дверь лифта, его лицо, внезапно появляющееся из темноты. Марина уже вообще не знала, что делать: теперь ей было страшно и спускаться. Она стояла и думала, что кто-то же должен появиться в подъезде! Десять часов – это еще не ночь.
И точно, внизу, на первом этаже, женский голос крикнул: «Лифт сломался, что ли?» От этого крика ей сразу стало легче. Она шагнула вперед, прошла шесть шагов, поднесла руку с ключами к замочной скважине.
И в этот момент произошло то, что в таких подробностях описывало ей воображение. Тьма в закутке у соседской двери зашевелилась, раздвоилась, ее громадный кусок оторвался и медленно двинулся по направлению к Марине.
Ключ вошел в замочную скважину, как нож в тело, а пакеты упали, и оказалось, что там еще были стеклянные бутылки…
29
Вопреки собственным представлениям о том, какие факты являются странными и удивительными, Иван Григорьевич Турчанинов не очень удивился, услышав из уст пьяного тамбовского бригадира фамилию Королева. Уже немного позже он попытался проанализировать причины собственного хладнокровия и пришел к выводу, что чего-то подобного он и ожидал.
Многое в этом деле давно казалось ему слишком картинным. Картинным был и этот жест возможного убийцы.
Турчанинов сидел в опустевшем дворе и переживал, что у него нет пива, как у бригадира. Было бы уютно и весело прихлебывать его из бутылки, сидя на темной, шелестящей листьями площадке – как в молодости!
На такой площадке он познакомился с женой, только пили они тогда портвейн. Он учился в высшей школе милиции, она – во втором медицинском институте. Их вузы были соседями, и сами они жили рядом – на улице Волгина. Хорошее время… Турчанинов улыбнулся.
Тогда было так же тепло, и так же шелестели кусты. Светил фонарь, вокруг него вилась мошкара. В годы его молодости район, где находилась высшая школа милиции, не был застроен, как сейчас, и когда они отходили целоваться, вокруг них были поля, и однажды на пустую дорогу выбежал ежик.
Он бежал, смешной-смешной, а по дороге ехала милицейская машина, и они испугались, что она ежика задавит, – бросились наперерез, машина остановилась, а ежик забежал под машину и там спрятался.
Полчаса они вместе с милиционерами пытались его достать, и милиционерам даже не пришло в голову плюнуть на ежика и поехать дальше.
И полей тех нет, и милиционеры совсем другие…
Сейчас, наверное, ему и не узнать тех мест. Они остались только в его памяти, и они такие красивые, какими, наверное, и не были никогда наяву. В них нет шума, грязи, проблем, раздумий, есть только тишина, спасенный ежик, хорошие милиционеры – если через час после той остановки они остановились снова и отбили кому-то почки, он этого все равно никогда не узнает, – и есть только любимое лицо в обрамлении темных кудрявых волос.
Он с удовольствием ступил на это поле памяти и даже почувствовал теплое сопротивление травы под ногами. Это была какая-то другая Москва – тихая, молчаливая, безопасная. Работа милиционера стабильна, работа врача почетна, они с будущей женой такие беззаботные… Да и не в работе дело – он и без работы был бы счастлив в том дне. Как мало надо человеку, в общем-то. Чтобы кто-то любил и любить самому. Такой простой рецепт…
Поле, на котором он стоял, не имело границ, казалось, оно круглое и просто заворачивается за горизонт. Только слева в небе мерцали огоньки домов. Пахло полынью и тысячелистником. Это была не деревня, не город, не юг и не север, не лето и не зима: настоящее поле памяти, поселиться в котором, как он догадался только теперь – счастье невыразимое.
Он слышал стрекотание кузнечиков и тихий смех. Он видел лицо жены и видел себя самого, стоящего рядом с ней, обнимающего ее – видел как бы и от первого лица и от третьего одновременно.
Это была такая славная и нежная картинка, что он улыбнулся и в реальности, на этой своей сегодняшней лавочке в центре Москвы.
А потом поле завертелось и захлопнулось. Турчанинов вернулся с него без всякого сожаления – мысль, пришедшая в голову, показалась ему важной.
«Марина рассказала, что из курилки медицинского института тоже видно поле. Там есть трансформаторная будка. О ней я уже где-то слышал… Ну да! О ней рассказывал Степан Горбачев. За этой будкой целовалась его жена Лола – так же, наверное, как и я на своем поле. Если дочь Михаила Королева стояла в этой курилке, она могла видеть мачеху, целующуюся с неизвестным мужчиной. Как она должна была отнестись к этому?»
Мысли вернулись к фамилии Королева.
«Итак, если Сергеева убил человек, называвший себя Михаилом Королевым, то почему он так себя называл? Он умный человек, его план с оранжевым жилетом сработал великолепно. Он мог бы оставаться умным и дальше. Достаточно было стащить из этой квартиры несколько ценных предметов, и следствие пошло бы по версии ограбления. Но он не стал этого делать. Он взял медицинские бумаги, даже не проверив, не осталось ли что-нибудь в шкафу, и взял телефон, по которому отвечал до тех пор, пока мы не нашли тело Сергеева. Мог он и догадаться о том, что коммунальщиков заподозрят и даже допросят. Но такой осторожный, выдававший себя за гастарбайтера, не предъявивший никаких документов, он, тем не менее, сказал бригадиру имя и фамилию. Он собирался недвусмысленно заявить, что это дело связано с Мариной Королевой. Он не хочет, чтобы его разоблачили, но хочет, чтобы мы знали причины убийства. А какие могут быть причины?»
Зазвонил мобильный. Он взглянул на высветившийся номер: Маринин шофер. Посмотрел на часы: одиннадцать ноль пять. В груди кольнуло. Звонок слишком поздний, чтобы быть не важным.
– Иван Григорьевич! – Шофер был в панике. – Беда! Я тут к Марине по пути заехал, хотел проверить, как да что, – мобильный ее не отвечал, я и заехал, думал проверить… Беда, Иван Григорьевич!
«Господи, бывший милиционер, а не умеет держать себя в руках».
– Говорите связно. Что случилось?
– Короче, у дверей валяются пакеты с продуктами, все разбито, яйца какие-то выкатились…
– Только пакеты валяются? Больше ничего?
(Он хотел спросить: «Тело не валяется?» – но не смог).
– Нет, там никого нет, но эти пакеты, яйца, бутылки разбитые… Я стал в дверь звонить, но никто не отвечает!
– У вас же есть ключ.
– Да есть-то он есть, но дверь не открывается! Словно ее подперли изнутри!
– Подперли изнутри?!
– Да! И телефон домашний занят! Сняли трубку, понимаете? Мне милицию вызывать?
– Да, конечно. Я тоже сейчас подойду, я тут рядом.
Уже сказав эти слова, он подумал: «Это плохо, что я рядом, вообще-то…»
30
Степан Горбачев хорошо помнил день, когда ему позвонил Миша. У него в тот период было просветление: пару месяцев назад он закодировался, и теперь ему казалось, что бросить пить у него получится.
Все последнее время он убирал квартиру: тер, мыл, как ненормальный, и не потому что так уж у него было грязно (хотя было грязно), а потому что получал от этого физическое наслаждение. Он и руки теперь мыл по несколько раз на дню.
Зазвонил телефон, и Степан, прежде чем взять трубку, обтер ее тряпкой.
– Привет, Степа, – сказал мужской голос, который он узнал только через секунду, а в эту секунду просто наблюдал за подступившей к сердцу печалью. («Миша!» – ахнул он про себя). – Узнаешь?
– Миша, – сказал он вслух. – Как я рад тебя слышать…
И вдруг заплакал.
– Ты меня слышишь? – спрашивал Королев. – Я тебя не слышу.
– Нет, я слышу, Миша. Рад, говорю, тебя слышать.
– Я тоже. Мне сегодня с утра так муторно было, я долго не мог понять, в чем дело, а потом понял: я видел тебя во сне. Мне ужасно захотелось поговорить с тобой. Во сне была еще толстуха с нашего курса, как же ее звали, такая смешная была, мы ее дразнили.
– Ее звали Пионерская Зорька.
– Точно! У нее был пионерский голос… А по имени как?
– По имени не помню.
– Как ты, Степа?
– Да я нормально. Пью только. Но я завязал, закодировался!
– Ты не пей, это вредно.
– Да я понимаю…
Они еще несколько минут разговаривали в таком же духе: ходили кругами, словно прислушивались к собственным ощущениям. Наверное, ощущения удивили обоих. Ни Степан, ни Королев не предполагали, что так растрогаются.
Уже через полчаса Михаил приехал к нему домой. Степана поразило, как он постарел. В глазах друга он увидел ответное удивление; что ж, он ведь предупреждал, что пьет.
Королев был очень скромно одет, безо всяких телохранителей, без подарков и, разумеется, без бутылки. Степан поставил чай. Он ждал, что Королев удивится чайнику – старому-престарому – все его девки поражались, что он не удосужился купить электрический, но Миша не обратил на чайник внимания, и это словно разогнало пелену, остававшуюся между ними.
Отрешенный взгляд друга смягчался только изредка: когда встречался со взглядом Степана. В остальные моменты он как бы смотрел сквозь вещи, не видел их и не хотел видеть. Вначале Горбачев подумал, что именно такой и должна быть пресыщенность, которую часто теперь напяливают на людей с неограниченными возможностями, но потом у него мелькнула странная мысль, что он разговаривает с покойником.
– Слышал, наверное, какое у меня горе? – спросил Королев.
– Ты, Миша, не бери в голову, все рассосется. Наши власти попугают-попугают, да и отстанут. Дело-то ты выиграл, а там уж так все туго завязывалось… – Он еще продолжал говорить, но уже понимал, что говорит не то.
– Да ты не знаешь? У меня же Марина чуть не умерла.
– Как это?!
– Да ударили по голове на дискотеке…
– Не насмерть?!
– Нет.
– Ну слава Богу!
– Да, все нормально. Лежит, конечно, в больнице, но врачи говорят: все будет хорошо… Она в коме.
– В коме? Это значит без сознания?
– Да, без сознания… Давно уже.
– Она выкарабкается.
– Конечно, выкарабкается! И главврач этот – козел, ничего не понимает, ненавижу пессимистов… Зачем ты пьешь, Степа?
– Я слабый человек. Наверное, поэтому.
– Я искал тебя в институте, мне сказали, что ты давно уже там не работаешь. Я почему-то не догадался сразу позвонить по домашнему, мне всегда трудно привыкнуть, что у кого-то перемены происходят гораздо медленнее, чем у меня. Так почему ты ушел? Из-за пьянки?
– Ну, разумеется.
– Где же ты работаешь?
– Да где придется… Не бери в голову.
– Ты начал пить из-за Лолы?
– Ты, Миша, видимо, решил брать на себя все грехи мира?
– Я грешный человек, чего уж скрывать. Степан вдруг ощутил острую радость: он давно не общался с теми, с кем был достоин общаться. В последнее время вокруг него была всякая нечисть. Алкаши да дешевые девки, с ними не поговоришь. Некоторые из нынешних молодых и в школе-то никогда не учились, он, бывший преподаватель, даже устал удивляться. А ведь он был умный и образованный человек, когда-то он разговаривал так, что девочки-студентки летели к его огню, как бабочки.
– Боюсь, это сорт гордыни, – произнес Степан. – Ты, наверное, грешный человек, но ты виновен не во всем плохом, что произошло в мире. Так что не приписывай себе моего падения. Хотя ты косвенно к нему и причастен.
– Из-за Лолы?
– Ты все еще с ней живешь?
– От нее не отвяжешься… Ты не ответил на мой вопрос.
– Я любил Лолу. Она неплохая женщина. А может, плохая? Я так и не понял.
– А я понял: она плохая.
– Она простая. Плюс начисто лишена сострадания.
– Ты дал определение того, каким не должен быть человек.
– Человек должен быть сложным и добрым?
– Именно. Сложным и добрым.
– Может быть… А должен ли он быть смелым?
– Смелым? – удивился Королев.
– Помнишь, как у Булгакова: «Трусость – самый страшный порок».
– Никогда не любил эту книгу и ничего не находил в этих словах.
– А я в последнее время думаю, что меня сгубила моя трусость. Сидел, как зайчонок в своей норе – поганый трусливый зайчонок, вот и досиделся…
Слова лились, как вода из чайника. Михаил сначала удивленно смотрел на него, потом, видимо, увлекся, проходя вслед за Степаном этот путь…
Он начинался с их встречи у новых горбачевских «Жигулей» («Я был в белых носках?» – тихо ахнул Королев), он заворачивал к офису, отделанному пластиковыми панелями («Помню, помню. Какое чудное время! Все тогда получалось!»), вел дальше, к особняку («Там на меня было совершено первое покушение», – помрачнев, сказал Миша)… И вот уже Степан просится на работу, а после отказа проклинает себя последними словами, шепчет себе днем и ночью: «Трус! Трус! Трус!»
– Я все понял! – вдруг остановил его Королев. – Дело не в трусости, дело в зависти. Это она тебе сгубила жизнь.
– Зависть? – медленно повторил Степан. От медленного произнесения это слово показалось ему неприятно и неприлично свистящим.
– Ну да!
Они были так возбуждены и обрадованы встречей, что чай из старого чайника по-настоящему опьянил их.
– … У тебя был свой путь, замечательный, зачем ты все время сравнивал? Ты съел себя, брат.
– Может, ты и прав, – удивленно сказал Степан. – Завистливый я какой-то уродился. Но как определить, где отсутствие зависти, а где лень? Ну вот, скажем, сидит человек всю жизнь на одном диване, детей нет, жена сбежала, ему говорят: ну делай что-нибудь! А он отвечает: я не завистливый.
– Ну и пусть сидит. Что, он тебе мешает, что ли?
– Так это я сижу!
– А зачем ты сидишь на этом своем диване? У тебя был институт, была партия, какой диван-то? Жил бы да радовался. Ты не помнишь, нам однажды на лекции по философии одну притчу рассказали, я ее очень люблю и часто вспоминаю. Про раббе Мойшу.
– Да, помню, это из Талмуда. Хорошая притча… Значит, зависть? Наверное, ты прав. Смотри-ка, ты умный!
Они помолчали, улыбаясь.
– И все-таки я не понимаю, – снова произнес Степан. – Как определить, где отсутствие зависти, а где лень?
– Говорят, надо понять, чего ты хочешь. Так, наверное. По-настоящему хочешь. Некоторые, вон, всю жизнь тужатся, стремятся к чему-то, скажем, бизнес строят, работают по двадцать часов в сутки, а потом на закате жизни понимают, что больше всего им хотелось сидеть на берегу реки и ловить рыбу.
– Но, Миша, так хорошо рассуждать, если всего добился. А если ты просидел всю жизнь на берегу реки, если ты до старости ловил эту чертову рыбу, то тебе любой может ткнуть: «Все ты, брат, просидел, все пропустил».
– Да ткнуть можно любому. Надо меньше прислушиваться к тем, кто тычет. Их цель одна – чего-то от тебя добиться. Они ведь не тычут, Степа, они подталкивают в нужном для них направлении. Я этого нахлебался досыта.
– Значит, я должен был услышать, что хочу оставаться простым преподавателем? Что я счастлив, когда я простой преподаватель?
Миша пожал плечами и не ответил.
– А чего хотел ты? – спросил Степан. – Ты добился, чего хотел?
– Я хотел… – Миша помолчал. – Я хотел изумлять… Да, я хотел быть поразительным. И я добился. А если меня посадят, к чему, собственно, все и идет, я изумлю еще больше. Обо мне станут писать газеты, может быть, три десятка правозащитников выйдут на демонстрацию – нет, не для того чтобы поддержать меня, а чтобы укусить власть. Сейчас мне понятно, что для счастья недостаточно желать, нужно еще четко осознавать цену, которую ты согласен заплатить за осуществление желания. Я ведь не был согласен изумлять «любой ценой», но вел себя так, словно согласен. Цена – это очень важно. Странно, что я, бизнесмен, только недавно это понял. Я даже на рынке до сих пор люблю торговаться, а здесь платил, не задумываясь. Меня развели, как лоха, Степа… Вот Лола, кстати, в этом смысле молодец. Она и желает, и цену осознает. Природная такая мудрость.
– Так что все-таки с Лолой? Почему от нее нельзя отвязаться?
– Два миллиона требует.
– Ого! – Степан замолчал, потом осторожно коснулся Мишиной руки. – А для тебя это много?
Миша хотел что-то сказать, но вдруг осекся и засмеялся.
– Да не хочу я ее отпускать, Степа. Тебе врать не буду. Люблю я ее.
– Она заслуживает.
– Да не заслуживает она! Но люблю. Так мне и надо, все я привык покупать, ее тоже купил. Да и она меня любит, дурочка, только не понимает этого.
Он посмотрел на Степана с надеждой, словно хотел, чтобы Степан сказал: «А как тебя можно не любить, Миша? Ты настоящий мужчина, ты борец».
Это было правдой: Королев – настоящий мужчина, борец. Но за это можно любить, а можно и ненавидеть. Это уж как повезет: любят за просто так. За черт знает что любят! За глаза какие-нибудь, за собой же выдуманные достоинства…
– Как тебя можно не любить, Миша? – тем не менее, сказал Степан. – Ты настоящий мужчина, борец.
– Устал я только, – пробормотал Королев. – И врач этот меня расстроил.
– А тех, кто Марину… Их нашли?
– Нет.
– Это с твоим бизнесом связано?
– Да не знаю я!
Они сидели до утра. С первыми лучами рассвета все вдруг преобразилось, как в сказках от крика петуха – серый и тусклый московский день накрыл их возбужденное опьянение и остудил его. По лицам поползли морщины, лицо Степана стало сизым, он вдруг понял, что это их последняя встреча.
Нет, он не ожидал, что Королев покончит с собой – просто он был уверен, что больше им незачем встречаться. Бывают в жизни такие встречи: они наполнены радостью узнавания и надеждами на продолжение, но их смысл только один – завершить то, что не завершено. На них обычно просят прощения либо признаются в любви, которой не вернуть. Ими пишутся финалы историй, и из них не вытянешь больше ни одного слова.
«Какой красивый мир сидит во мне до сих пор, – думал этот бывший ученый, глядя на неуклонный подъем по серому небу чуть более светлого серого сияния. – Ничем его не истребить…» – Он еще чувствовал в себе силу думать, но желания думать уже не было.
Когда через месяц Степан узнал о самоубийстве Королева, он не удивился, но очень долго плакал. На похоронах он встретил Елену, она выглядела еще хуже, чем Миша в гробу, и Лолу – эта совсем не изменилась.
Она бросилась ему на шею, но такой встречи, какая была у него с Королевым, с ней не получилось.
А вот отношения, как ни странно, завязались. По ее инициативе. Она часто теперь звонила, отчитывала его за возобновленное пьянство, даже несколько раз приезжала по его просьбе и разбивала бутылки с водкой.
Последний раз она приехала тридцатого апреля.
31
Турчанинов шел быстрым шагом и преодолел расстояние в четыре квартала за десять минут. Он думал, у подъезда уже будет стоять милицейская машина, но никого не увидел. Свет ярко горел над входом и внутри, ничего зловещего вокруг не было.
Иван Григорьевич в некоторой растерянности остановился перед запертой дверью, и ему тут же показалось, что сзади рычит собака. Турчанинов быстро оглянулся: с детской площадки на него смотрела какая-то дворняга. Она низко наклонила голову и наблюдала за ним, даже и не рыча – скорее, булькая горлом.
«Черт, когда они рычат, это плохой знак, – подумал он. Лучше бы лаяла… Как войти в подъезд?» Ему захотелось не войти туда, а вбежать.
Тут же в освещенном холле, за фикусом, кто-то прошел. Человек приблизился, и Турчанинов узнал в нем Марининого шофера.
– Не приняли вызов, можете себе представить! – растерянно сказал тот, пропуская следователя внутрь. – Сказали: вызывайте МЧС или ДЕЗ, пусть они дверь выламывают. Мол, мы тут при чем? И все пьяные…
– Охамели совсем, – Турчанинов поймал себя на излишней поспешности, с которой захлопнул дверь. Он оглянулся: дворняга лежала возле песочницы и, кажется, собиралась поспать. «Накрутил себя!» – с облегчением подумал он.
Они пошли к лифтам.
– Что случилось, рассказывайте.
– Да я все рассказал. Дверь изнутри подперта чем-то.
– Не закрыта?
– Нет, чуть-чуть отходит.
– Там тело, думаете?
Шофер вдруг перекрестился, причем как католик – слева направо.
– На тело не похоже…
– Что же это тогда?