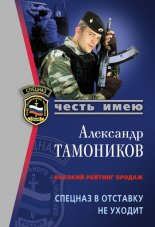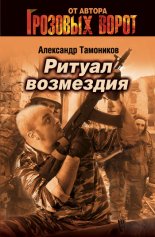Обитель духа Погодина Ольга
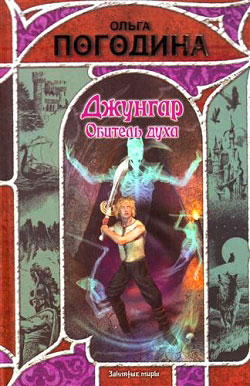
Юрта шамана стояла у кривой березы, на небольшом холме. На березу обычно вешали приношения, какие хотели посвятить эзэдам – духам местности. Место считалось священным, и без особой нужды джунгары старались сюда не ходить: в таком месте духов кормят, они близко, а непосвященному сунуться – может и недобрым обернуться.
Но сейчас он издали заметил двух всадников у юрты, о чем-то толкующих с помощником. Прищурил глаза. Так и есть. Рыжая сестренка чужака. Кажется, чужака зовут Илуге. Чудное имя. Совсем не из языка косхов.
Завидев его, девушка и раб поехали навстречу. Пожалуй, надеть такие обноски постыдилась бы и последняя нищая старуха, но рыжей было явно все равно. Они действительно пришли сюда, в чем были.
– Да будет милостивы к вам эзэды, – приветливо сказал он и увидел, как у обоих расцвели лица. Видимо, немного радушия они здесь видели.
– И тебе того же, Хэсэтэ Боо, – почтительно отозвалась девушка. Она действительно отмылась. Несмотря на то, что, как и все степные жители, лицо ее для защиты от холода было вымазано жиром, было видно, что кожа у нее ослепительно белая, какая чаще всего и бывает у рыжих.
– Что привело вас ко мне? Лучше ли твоему брату? – спросил он, и был награжден страдальческой и робкой улыбкой, от которой и у столетнего старца бы дрогнуло в груди.
– Он стал меньше бредить, – ответила она. – Но все еще временами не узнает ни меня, ни Баргузена. На Баргузена один раз с мечом кинулся, чуть не убил. Ночью кричит, и язык какой-то странный.
– Давай ему то зелье, – строго приказал шаман. – Трижды в день. И онгонов, что я дал, поставь на переднем месте, жертвы им приноси. Они вас принять должны, молиться надо.
– Я все так и делаю, – кивнула девушка.
– Тогда в чем дело?
– Вот… плату тебе принесли, – смущенно пролепетала она, торопливо снимая с седла сверток. Развернула. В свертке оказался дорогой шелковый куаньлинский халат пронзительного синего цвета. Как васильки. Как ее глаза.
Онхотой расхохотался. Он смеялся долго и весело, закинув к небу острый подбородок, пока девушка не порозовела вся, до кончиков ушей.
– Зачем мне твой халат, красавица, – отсмеявшись, сказал он. – Конечно, есть такие шаманы, которые в женском камлают, но мне это ни к чему. Забери его.
– Нет, возьми. – Глаза девушки налились слезами. – Жене подаришь, сестре, матери. А ты моего брата лечил. Отблагодарить хочу.
«Упрямая», – ласково подумал Онхотой. Он вдруг представил ее в этом ярком шелке.
– Нет у меня никого, – мягко сказал он. – Ты бы лучше его на корову выменяла.
Она залилась краской еще гуще. Зим пятнадцать ей, не больше. Невеста. Онхотой нагнулся, заглянул в опущенные глаза.
– Тебя как звать-то?
– Янира. – Голос слегка дрожит. Не привыкла просить, гордая!
– Ну вот что, – теперь он говорил властным, непререкаемым тоном, – ты, женщина, слезы утри и слово мое слушай. Брату твоему нужно масло от тельной коровы для его раны. Так что иди и сделай, что я говорю. А в уплату за лечение будешь мне половину удоя приносить. Масло, хурху делать. Женщины у меня нет, так что это мне и нужно. А халат забери. Поняла ли?
Эх, хороша же девка, когда улыбнется! А она улыбнулась – широко, счастливо. Единственный был халат, подумал Онхотой.
– Поняла, Хэсэтэ Боо!
Попрощавшись, они уехали, а Онхотой, все еще улыбаясь, двинулся к юрте. Ну и странные же чужаки к ним пожаловали! Шесть коней и дорогой шелковый халат. Брат и сестра, сходства между которыми, что между орлом и цаплей. И еще этот раб их, который напоследок на него, Онхотоя, ну вовсе недружелюбно зыркнул. И еще он подумал, что плату-то девчонке не просто так назначил. Уж молока и хурхи ему достаточно и от старухи Шулуут. А только пусть принесет и чужачка.
У порога его встретили изумленные взгляды помощников. Нечасто они на его лице улыбку видали, подумал Онхотой. Не часто… Есть в этой рыжей что-то светлое, солнечное. Так и тянет погладить по огненной голове. И как ее еще никто не посватал-то, удивительно! У косхов глаз нет, вот что. Зато уж по весне будет тебе, чужак, развлечение: за сватами полог закрывать устанешь. Онхотой хмыкнул снова.
Оказавшись в приятной его глазу полутьме, шаман подошел к онгонам, помазал им разинутые рты припасенным маслом. Сбросил доху с плеч. И задумался.
Все его последние видения были так или иначе связаны с чужаком. Не простой это парень. Хану он пока об этом не сказал. Самому еще осмыслить надо. Может, даже попросить помощи у Заарин Боо – своего учителя из кхонгов. Но прежде все вспомнить надо. В точности как было.
Первый раз Онхотой увидел беляка во время Йом Тыгыз, когда проводил Обряд Посвящения. Хороший год был. К молодым воинам пришли хорошие покровители: архар, росомаха, медведь, куница. Никто не остался без покровителя. Посвящали в этом году и обоих внуков хана: Джэгэ и Чиркена. Молодой наследник хана, Джэгэ, призвал к себе странного духа. Змея пришла к Джэгэ. Сильный это дух-покровитель. Не всякий шаман такого получить может. Однако, говорил Заарин Боо, такой покровитель для человека наиболее опасен: как змея может убить своим ядом от незаметной ранки, так и дух этот слишком большую власть над человеком обрести может. Обовьется вокруг и сердце холодным и лживым сделает. Джэгэ еще мальчик, но в будущем – могучий и грозный джунгарский хан. Как-то оно выйдет, еще поглядеть надо.
К Чиркену пришел Волк – покровитель джунгаров. Великими делами Волк своих избранников отмечает, но и карает жестоко. Никому не сказал Онхотой, что проследил за путешествием мальчика и что он там увидел. А увидел он горы до самых небес, каменистое и угрюмое плоскогорье, над которым бушевала страшная гроза. Молнии били и били, с треском и грохотом раскалывая камни. И посреди этого видел шаман сражающихся людей. Одни были джунгары, и вел их Чиркен. Другие – куаньлины в своих узорчатых бронзовых шлемах. В призрачных вспышках молний, в трескучих оглушительных раскатах грома шел отчаянный, ожесточенный вой, и дыхание смерти касалось его ноздрей. Они сражались. Потом все залил ослепительный свет, и Онхотой увидел, как по равнине навстречу мчатся еще всадники. Впереди всех на белом как молоко жеребце – тот, кого он увидел вживе немного спустя. А на помощь ли, или на расправу мчится тот всадник…
Следовало еще камлать. Однако духи-покровители больше не пускали его, не давали увидеть ничего, кроме мутной багровой тьмы. Онхотой бросил бесплодные попытки попытаться проникнуть в свое старое видение.
А новое пришло неожиданно и совсем недавно, во время совершения обряда Тиирэлгэ над больными. Сэргэ-тииргэн – так называли место для совершения такого обряда – испокон веку располагалась неподалеку от зимнего становища. После летней перекочевки всех, кто болел, а также беременных женщин, следовало «провести» через обряд, чтобы духи болезни бывших и будущих потеряли их следы. Для того следовало обкатиться по земле вокруг священного места в шубе из шкуры черного барана, а шкуру потом сжечь. Онхотой руководил обрядом, а его помощники помогали участникам обряда найти верное направление, поднимали на ноги, поили кумысом на травах. Обряд уже заканчивался, и Онхотой уже начал напутственное благословение, когда увидел. Сразу несколько стремительно сменившихся видений промелькнуло в голове, наслоилось друг на друга – слишком быстро, чтобы человеческий разум сумел все их осознать и запомнить. Но кое-что ему удалось удержать в памяти. И даже этого хватило, чтобы наложить бремя молчания на его уста – уста шамана, у которого ложь или зависть отнимает по девять лет жизни. Слово – оно ведь как дыхание, не знаешь, с чем смешается и куда улетит. А слово шамана – тем более.
Онхотой охватил себя за плечи, задумчиво покачался на носках. Небесные духи принесли с чужаком дыхание перемен. Но знака не дали. Или все-таки следовало все же хана предупредить?
– У-у, глаза рыбьи, – зло сказал Баргузен, когда они отъехали.
– Что это ты? – удивилась Янира, себя не помнившая от счастья. – Он такую плату назначил, что лучше быть не может. И не в долгу остались, и корову купим. А у нас в котле один суп из деревянной ложки! Пожалел он нас.
– Обошлись бы и без его жалости, – прошипел Баргузен.
– Мне тоже было неловко, – согласилась Янира. – Но ведь это же для Илуге.
Баргузен не нашелся что ответить. Молчал, сопел, а потом вдруг взорвался:
– Ненавижу, что меня здесь держат за раба. Смотрят, как на пустое место!
– А что, к тебе раньше разве по-другому относились? – удивилась девушка. – Живы остались. Все. Я думала, нас убьют еще там, у реки. Все из-за меня. Я тогда тебе про этот джунгарский обычай рассказала.
– При чем тут это? – Баргузен почти кричал.
– Тогда я совсем не понимаю, – пожала плечами Янира.
– И не поймешь, – горько бросил Баргузен.
Они долго ехали молча, погруженные каждый в свои мысли. Уже на полпути к своей юрте Баргузен вдруг ткнул ее в бок, заставив обернуться.
Немного ниже, в небольшой круглой низинке между двумя пологими сопками, джунгары тренировались в искусстве соскакивать и запрыгивать в седло на всем скаку. Девять или десять закутанных в овчинные тулупы фигур выстроились в ряд, пока кто-то один разгонял своего коня, делая широкий круг, и прямо напротив зрителей не выполнял свой трюк – один другого сложнее. Просто уму непостижимо! То один встал во весь рост на несущемся галопом коне. То другой соскочил с седла и тут же взлетел обратно задом наперед. Янира смотрела на них во все глаза – она и не думала, что такое возможно.
– Это женщины, – прошептал Баргузен у самого ее уха.
– Не может быть! – Янира вгляделась и поняла это в то же мгновение. И действительно, для мужчин фигурки были слишком маленькими и легкими. Женщины!
– Я слышал, в старые времена джунгарки бились наравне со своими. – Баргузен остановил коня, и какое-то время они оба молча наблюдали за удивительным зрелищем.
– Если у них так умеют ездить женщины, как же ездят мужчины? – выпалила Янира. Она повернулась к Баргузену, ее глаза сияли от восторга.
– Не знаю, как ездят, а дерутся они хуже, чем Илуге. – Баргузен самолюбиво дернул верхней губой. – Подумаешь… В настоящем бою эти… показательные скачки совершенно непригодны.
– Да уж, ты у нас такой опытный боец, – фыркнула Янира. Ну что за напасть, опять они сцепились! – Кому как не тебе это знать!
– Ну и не тебе, женщина, – окрысился в ответ Баргузен, раздувая ноздри.
– Может, я сейчас и не могу, – запальчиво выкрикнула Янира. – Но раз они могут, то я-то чем хуже?
Их прервал быстрый топот копыт. От группы всадниц отделилась одна и теперь неслась на них на полном скаку. Без шапки, две длинных черных косы колотятся о спину. Лицо, наверное, было бы даже красивым, если бы не широкий шрам, располосовавший щеку до самого подбородка.
– Чего раззявились? – резко крикнула она, осаживая лошадь в трех шагах. Конь замер как вкопанный. – Здесь вам не смотрины!
– Уже уходим, – покладисто согласился Баргузен. – Поехали, Янира.
Они повернулись и проехали мимо, выпрямив спины, с каменными лицами. Всадница какое-то время провожала их взглядом, а потом, коротко свистнув, унеслась.
Илуге сидел у коновязи, поставив лицо неяркому солнцу, наконец пробившемуся сквозь хмурые облака. После обильных снегопадов, длившихся три дня, в первый раз хоть чуть-чуть прояснило. Судя по тому, как с полудня начало холодать, к вечеру развиднеется. На горизонте облака уже истончились, превращаясь в перистые ленты, и кое-где проглядывали клочки голубого неба.
Юрту они поставили поодаль от остальных, почти у самой Уйгуль. Место было не слишком хорошее: траву давно выели и лошадей им приходилось гонять на выпас далеко вверх по течению. В самой долине, как видел сейчас Илуге, места почти не было. Юрты джунгаров стояли небольшими группами. На десять—пятнадцать юрт – один загон для скота. Стреноженные кони пасутся тут же, подрагивая лоснящимися шкурами, шумно фыркая и выдирая из-под снега остатки жухлой травы. Женщины, собравшись в стайку, занимаются своими делами, непрерывно болтая и отгоняя собак, вьющихся вокруг в надежде на лишний кусок. Снегопад прекратился, укрыв землю пушистой белой шубой, и ребятня, восторженно визжа, высыпала на воздух. У соседней юрты тоже возится стайка мальчишек, старательно делая вид, что они его, Илуге, не замечают.
Илуге улыбнулся было им, но ответом были только настороженные, отнюдь не дружелюбные взгляды. Глупо, конечно, но ему почему-то сделалось от этого тоскливо. По большому счету все здесь было похожим: прихотливо рассыпанные по долине юрты, табунки неспешно взмахивающих хвостами коней. Снующие по своим делам женщины, играющие дети… И все было другим. Неприветливым. Незнакомым. Чужим.
Илуге чувствовал: невзирая на приказ старого хана, джунгары испытывают к чужакам скрытую, а иногда и явную неприязнь. Проявлялось все в мелочах: выплеснутые неподалеку от их юрты помои, такие вот настороженные или уже откровенно угрюмые взгляды. Женщины, чей путь по воду раньше лежал мимо их юрты, протоптали по свежему снегу новую тропу. Да, это были мелочи, – но они говорили о многом. О многом говорило и то, что до сих пор ни один человек не зашел к ним, не остановился даже поговорить. Это вселяло в Илуге грызущее душу беспокойство. Что, если так и дальше пойдет? В любом племени есть такие вот изгои, и жизнь их горше жизни иного раба. Как и почему так происходит, Илуге никогда не понимал. Что, к примеру, плохого сделала та же рябая Илдара? Ведь вроде бы и дочь вождя, и не без рук. А только все косхи, кого Илуге знал, презрительно кривились при одном о ней упоминании. А если и с ними теперь так будет?
Со стороны возившейся ребятни прилетел снежок, бессильно рассыпался в нескольких шагах. Илуге сгреб ладонью снег, принимая игру, запустил обратно. Но мальчишки бросились врассыпную, словно за ними гнался злой дух. Илуге вздохнул и вернулся в юрту.
Смешно из-за такой малости вздыхать. Великую милость оказало ему Вечно Синее Небо, что он вообще до сих пор жив. Его джунгары приняли! Не разорвали конями, не надели заново рабский ошейник. Приняли! Пусть и так. А только теперь у них есть юрта. Вконец закопченная, старая, но все же юрта, в которой можно жить. В которой можно пережить эту зиму. Есть люди рядом, чтобы не отбиваться от волков в одиночку. Его лечили. Он выздоравливает. Это даже больше, чем они осмеливались мечтать.
«Пускай косятся! – зло подумал Илуге, запуская в угасающий очаг сосновую шишку. – Хан сказал – я сделал. Хан назначил испытание – я его прошел. Как, почему – не важно. Прошел! Призовет – пойду. А только не призывает… Вон у джунгаров воинов сколько. Тысяч пять всадников с одной этой долины взять под копье можно. И не то что у косхов: здесь и в мирное время воинов видать. Даже юрты с умом расставили: полукольцом на юг, повозки в момент сомкнуть можно, и всадник не перескочит… На сопках дозорные. В степи тоже дозоры – и не дрыхнут, быстро вас сцапали. Хороший у них вождь, дело свое знает…»
Вас? Илуге застонал, схватился за голову, больно сдавил, словно бы хотел выдавить наружу эту чужую, неведомо откуда взявшуюся мысль. С тех пор как шаман последний раз камлал его и Илуге начал выздоравливать, ему перестали сниться сны. Может быть, действовало шаманское зелье, но он больше не сражался с воином на мосту, не видел чужих снов после того, последнего. Силы начали возвращаться к нему. Плечо заживало. Но он сам чувствовал, что изменился. Будто бы чужая память, чужая жизнь медленно проступала в нем, как кровь сквозь повязку. Ему иногда и до рези казались знакомыми вещи, которые он никогда раньше не видел. И наоборот, иногда он долго смотрел на что-то втолковывающую ему рыжеволосую, ухмылялся оценивающе и насмешливо и только потом, вдруг словно ухватившись за ускользающую нить, узнавал. Дикий, выворачивающий внутренности страх охватывал его, хотелось колотиться головой о землю, выть… Илуге старался о таких моментах не думать вовсе. Может быть, потому, что боялся того, что уже знал: Вечно Синее Небо ни при чем. Тем, что они до сих пор живы, он, Илуге, обязан этим снам. Снам о воине на мосту. Снам, в которых он был кем-то другим, в которых хрипели и грызлись взбешенные кони и его (?) меч рассекал чужую плоть… Поймав себя на этом, Илуге хватался пальцами за голову, зло дергал за волосы, словно бы мог вместе с волосами выдрать из-под черепа поселившуюся там тьму. Но тьма никогда не уходила совсем – только уползала куда-то вглубь, ехидно щурясь. Илуге глотал шаманское зелье и проваливался в черный, глухой, без сновидений, сон.
Другого лекарства он не знал. В светлых глазах шамана Илуге сумел прочитать нечто, похожее на изумление, но тот ничего не сказал. Потеребил свой амулет, сжал губы в нитку и ушел.
А жить-то надо. Все равно, как ни кинь. Еды нет, оружия нет. Если хан в самом ближайшем времени за ним не пришлет – самому придется идти, дела для себя просить. Просьба Крова и Крови произнесена, и он теперь за эти слова в ответе (надо будет все же спросить, откуда, Эрлик их возьми, эти двое мудрецов взяли ее. С неба? Эзэды подсказали? Тоже из вещего сна?).
Не намного сейчас у него больше свободы, чем раньше было, мрачно подумал Илуге. Хочешь не хочешь, а все равно есть над ним господин, приказам которого придется подчиняться. Для воина превыше хана, превыше рода – военный вождь. Которому он, Илуге, совсем недавно проткнул легкое мечом. Что ни говори, а некрасивая выходит картинка. Ох какая некрасивая!
И все-таки по-другому это. Пусть косятся, пусть обжигают недоверчивыми взглядами. Но они смотрят на него, а не сквозь него. Раб – не человек, он и взгляда-то человеческого недостоин.
Раньше ему казалось: только бы стать свободным! Дальше он просто не думал, слишком недосягаемым было и это. Оказалось, быть свободным – иначе. Не хорошо, не плохо – иначе. Все по-другому. Никто не огреет кнутом, но никто за тебя о твоем куске, даже самом жалком, не подумает. Никто не неволит, куда хочешь иди – а только то, что все пути перед тобой, – так оно только так кажется.
Вот так со свободой. Казалось бы, волен делать, о чем мечтал! Держи свою клятву, что дал себе мальчишкой. Бери коня, иди на ичелугов! Убей хоть одного – а дальше будь что будет. Ан нет. Получится, что он, джунгарский воин, клятву Крови и Крова нарушил. Найдут его ичелуги, схватят (а как иначе, если в одиночку против целого племени?) – пойдут на джунгаров войной. Хороша же будет благодарность за джунгарское гостеприимство! Да и что тогда с Янирой будет, с Баргузеном?
Не все оно просто, ох не все! Каждый с рождения под чьей-то властью ходит: под властью хана, под властью рода, под властью отца и матери. Но это и защита одновременно. Верно говорят: в степи человеку в одиночку не жить. Только он, Илуге, словно дерево без корней, словно перекати-поле: подует самый легкий ветер и унесет. Корни человека – в его привязанностях и привязанностях к нему других. Надо бы им тут начинать обживаться, друзей заводить. А только как это?
Друзей – их заводят с открытым сердцем. А ему часто говорили, еще у ичелугов – «змееныш». Илуге никогда не жаловался и никогда в открытую не перечил: он хорошо помнил, за кого возьмутся хозяева, когда им не удастся его сломать. И не только хозяева. В детстве его до слез удивляло, что и среди рабов находились любители отыграться на других за свое унижение. Потом перестало удивлять и это: Илуге просто старался и быть, и выглядеть безразличным. Так оно легче. Хоть чуть-чуть, а легче. Привычка вошла в плоть и кровь, и теперь он хотел бы, быть может, заговорить с кем-нибудь, попросить помощи – но не мог.
Снаружи послышался топот приближающихся коней. Еще через мгновение они ворвались – возбужденные, румяные с мороза. Он давно не видел сестру улыбающейся, и невеселые мысли улетучились, на сердце потеплело. Скинув одежду, она принялась взахлеб рассказывать о том, что произошло. О том, как добр к ним шаман, – единственный, кто был добр к ним. О джунгарских женщинах. Правда, что та, со шрамом, нагрубила, было обидно, ну да все есть о чем рассказать. Глядя в сияющие глаза сестры, Илуге без слов понял, как бы ей хотелось вместе с другими джунгарками покружиться на снегу. Внутри что-то дрогнуло: ничего, оказывается, жизнь налаживается. И она все-таки нравится ему, эта жизнь.
Есть, правда, было совсем нечего. Немного кобыльего молока – и вся еда. Но зато сидеть втроем, грея руки над весело потрескивающим костром, в теплой юрте было непривычно уютно. Было здесь совсем пусто – несколько войлоков, что они привезли с собой, переметные сумки, служившие подушками, – больше ничего. Но все равно хорошо. Баргузен тоже заметно оттаял, из глаз ушла диковатая, недобрая настороженность. Они оба бурно радовались тому, что он снова с ними, пересказывали ему в который раз все, что случилось, беспричинно и громко хохотали, тыкая друг друга в бок.
Наверное, поэтому не услышали, что к юрте кто-то подъехал. Полог откинулся неожиданно, и все трое, замолчав, с открытыми ртами уставились на неожиданного гостя. Который потоптался у порога, стянул шапку и оказался… той самой девушкой со шрамом. Точнее, не девушкой, а молодой женщиной, старше Илуге не меньше чем на пять зим. От неожиданности они даже толком и сказать что-то не смогли.
– Я Нарьяна, – коротко сказала гостья и спокойно уселась у огня, протянула к нему руки. Илуге, который знал о случившемся только по рассказам, смотрел на нее во все глаза.
– Будь гостьей, мы рады тебе, – произнес он наконец, стараясь говорить солидно, размеренно, как подобает хозяину, и радуясь, что отросшая мягкая бородка делает его старше. – Меня зовут Илуге. Это моя сестра Янира. А это Баргузен.
– Я принесла еду. – Нарьяна казалась смущенной. Так, как бывают смущенными мальчишки: с особенной грубоватой, отрывистой неловкостью она повернулась и принялась копаться в обширной суме. В общем молчании она выудила кожаный мешок, а оттуда – о чудо! – кусок холодной баранины. И нож. Рот Илуге немедленно наполнился тягучей слюной. А мысли – осознанием, что ему дают милостыню. Которую очень хочется принять.
– Мы сыты, – резче, чем следовало, выпалил Баргузен.
– Не знаю, как тебя благодарить. – Илуге укоризненно посмотрел на друга: обижать гостью не стоит, тем более ту, что пришла к ним первой. – К сожалению, нам нечем угостить тебя в ответ. Пожалуйста, прости нас.
Вот так. Об этом следует сказать сразу.
– А я знаю. – Нарьяна беззаботно пожала плечами, продолжая очень аккуратно разделять мясо на кусочки, которые удобно взять рукой. – У нас все в становище судачат, что вы едите. Может, вы, мол, и не люди вовсе.
– А ты что думаешь – люди? – не удержалась Янира.
– Думаю, что люди, – усмехнулась Нарьяна. – Я вот подумала, что зря вам нагрубила, ну и… решила заглянуть.
Янира вмиг расцвела своей самой лучезарной улыбкой, такой ослепительной, что от нее хотелось зажмуриться.
– Прости нас и ты. Нечего было нам глазеть. Но я прямо к земле приросла – до того вы красиво все это проделывали.
– Правда? – теперь улыбнулась гостья. Четко очерченные губы разошлись, показав белые зубы. Однако шрам от этой улыбки уродливо стянулся, и, словно вспомнив об этом, она снова потемнела лицом.
– Правда. – Янира, по-видимому, этого даже не заметила. – Как вам так удается?
Рядом с гостьей она выглядела восторженной девчонкой. Илуге даже удивился – давненько он не видел на ее лице такого выражения. Впрочем, что-то такое исходило от Нарьяны. Что-то строгое и одновременно доброе, когда откуда-то знаешь нутром: ты ей не безразличен. Почему и ему так хочется сказать что-нибудь – все равно что, только бы ощутить на себе взгляд темных, слегка насмешливых глаз, внутри которых – это непривычное, заботливое тепло?
– Тренируемся, – коротко ответила Нарьяна и облизала нож. – Ну, что же вы? Ешьте!
Сложнее всего было не наброситься на еду. Илуге очень осторожно взял кусочек и мучительным усилием заставил себя, не торопясь, прожевать его. О чем бы завести разговор?
– Хороший у вас шаман, Нарьяна, – похвалил он. – Лечил меня, а плату по заслугам не взял. Говорит, купите себе корову – тогда и отдадите.
– Онхотой-то? Это он с кого как. – Девушка аппетитно вгрызалась в мясо. – С иных три шкуры дерет, глазом не моргнув. Приглянулись вы ему, значит.
Воистину сегодня хороший день!
– Так прямо и три шкуры? – усомнилась Янира. – Я ему вон что предлагала. Не совсем уж мы нищие! – И она тряхнула своим халатом, тем единственным, подарком борган-гэгэ, что она, дурочка, взяла с собой. Вот ведь женщины! Нет, чтобы лишний нож прихватить!
– Красивая вещь. И дорогая. – Нарьяна пощупала халат.
– Как думаешь, можно сменять у кого на корову? – спросила Янира. – Хэсэтэ Боо сказал, надо Илуге коровьим маслом растирать.
– У тебя никто не купит, – прямо заявила Нарьяна. – После того, что твой брат с Тулуем сотворил, все вас, как чумы, сторонятся.
– Ну, значит, обойдемся без коровы, – сухо сказал Илуге. Глупо было ему, как сосунку, уши развесить лишь оттого, что девушка решила загладить свою грубость. От мыслей, что недолго витали в голове, Илуге почувствовал злость и сосущую пустоту. Это все от того, что они с Янирой так выросли. Нечасто им доводилось видеть людскую доброту. Вот оттого обоих только погладь, – они и повалятся наземь, дрыгая лапами и подставляя брюхо… Тьфу!
Гостья сразу почувствовала перемену тона, остро глянула на него.
– Продайте мне. За корову.
– А ты чем от других отличаешься? – хмуро спросил Илуге.
– Вот этим. – Нарьяна указала на шрам.
Стало тихо. Наверное, с таким лицом ее никто не посватал, вот в чем дело.
– А ты… одна живешь? – осторожно спросил Илуге. Это бы кое-что объясняло в ее неожиданном визите.
– У меня есть бабка и двое младших. Братья. Я старшая.
Это тоже многое объясняет. Старший в семье всегда взрослее, в ответе за остальных.
– А те, кто там еще был. – Янира совершенно очевидно была не в состоянии говорить о чем-то еще. – Они как? Кто их выбирает?
– Я. – Нарьяна нахмурилась еще сильнее. – Или, точнее, все мы.
– А почему вы тренируетесь отдельно от мужчин? Так принято? – как можно равнодушнее спросил Илуге. Нарьяна дернулась, видимо, попал в больное место.
– Потому что мы им не нужны, – отрывисто сказала она. – Я получила этот шрам, когда пришла к Тулую и попросилась обучаться наравне с мужчинами.
– О! – выдохнули все трое, округлив глаза.
Нарьяна в упор поглядела на Илуге.
– Так что ты нажил себе могущественного врага, – мрачно сказала она. – Считай, что я тебя предупредила.
Теперь все становилось понятным. И ее приход, и ее… дары. Но это был хоть какой-то союзник. Пусть даже настолько слабый.
– Ты можешь оказать нам еще большую услугу. – Илуге поколебался, взять ли последний кусочек мяса, на который все они жадно смотрят довольно долгое время, затем взял его и протянул Баргузену. Тот тоже отказался и кусок перешел Янире. Нарьяна с усмешкой следила за ними. С понимающей усмешкой.
– Какую? – Ее глаза были действительно красивые: черные, широкие, словно углем очерченные каймой коротких густых ресниц.
– Нас приняли в племя, о котором мы ничего не знаем, кроме обрывков слухов. Не всегда, как мне сдается, правдивых, – пояснил Илуге.
Нарьяна засмеялась снова, на этот раз забыв спохватиться.
– Нет ничего проще.
Тулуй прислал за ним через два дня после того, как к ним пришла Нарьяна. Не сказать, что приглашение было дружелюбным, но Илуге не смог отказаться. С тяжелым сердцем он проследовал за посланцем – худым парнем с колючим, прямо-таки ледяным взглядом – к юрте Тулуя. Вошел.
Вождь был не один. Рядом с ним сидел его сын Чиркен, ненамного моложе Илуге, и еще несколько человек, чьи лица были ему незнакомы. На вожде была типичная для степняков овчинная безрукавка мехом внутрь, с нашитыми на нее яркими узорами, и кожаные штаны. На смуглом плоском животе – богатый пояс с квадратными медными бляхами, единственное, что говорит о ранге. На голой груди слева – шрам. Свежий. Надо думать, беспокоит еще.
– Приветствую тебя, вождь, – осторожно сказал Илуге, дольше, чем требовалось, отряхивая снег с сапогов.
– И тебе, воин. – Лицо Тулуя было непроницаемым.
Он терпеливо подождал и указал на свободное место. С которого, как сразу понял Илуге, вождю будет хорошо видно его лицо.
Илуге подавил желание передернуть плечами под этим взглядом. Усевшись, он опустил руки на колени и принялся ждать, пока ему скажут, зачем за ним послали. Помолчав, Тулуй начал:
– Помнится, что твоя… гм… сестра высказала Просьбу. Помнишь ли?
– Помню, – односложно ответил Илуге. Он и сам намеревался узнать, чем потребен. Да только не к Тулую собирался.
– Что ж, способов послужить племени у нас так много, что и на пальцах не сосчитать, – хитро прижмурился Тулуй. Остальные заулыбались, довольные. Илуге понял, что ему предстоит что-то действительно неприятное. – Так что выбирай какой хочешь, воин мой.
Тулуй сделал ударение на слове «мой». Илуге скрипнул зубами: как ни крути, а воин обязан подчиняться военному вождю. И кивнул.
– Вот, собираюсь послать с десяток воинов потрепать косхов, – начал Тулуй, внимательно наблюдая за Илуге. – Можешь с ними пойти, дорогу показать.
Илуге молчал.
– Еще собираюсь с десяток людей на облавную охоту послать, пусть для племени еды добудут. Можешь пойти с ними.
Это было бы слишком хорошо, чтобы не быть каким-то подвохом. Да и стреляет он слишком плохо, чтобы быть уверенным в том, что не вернется опозоренным. Э-эх!
– Еще хан велит наши соляные рудники навестить, обновить вехи да разведать, нет ли чужих. Соль наша – дорогой товар, у нас ее и Ургах, и Гхор берут. На том наше богатство. Путь неблизок, да и непрост. Сам поведу.
Сам?
– Как велишь, вождь, – медленно ответил Илуге. Он уже и так понял: то, что выговорят третьим, последнее – и решающее. И никто здесь не давал ему выбора, просто проверяли на… на разное.
Тулуй едва заметно поднял бровь.
– Что ж, пойдешь со мной. Посмотрю на тебя поближе. Ты, я смотрю, неразговорчив.
«Смотря с кем», – подумал Илуге, но вслух не сказал, только пожал плечами. Казалось, в юрте их только двое, потому что остальные молча следили за ними, переводя взгляд с одного лица на другое.
Тулуй пододвинул ему миску с ячменными клецками в бульоне. Бульон, правда, уже выстыл окоемом жира по краям, но для Илуге и такое блюдо было вожделенным.
– Благодарю. – Он выловил пальцами клецку, засунул в рот. Только одну – чтобы не показаться невежливым. А хотелось схватить блюдо и одним махом набить полный рот.
– Как звать-то тебя, воин? – Тулуй усмехнулся. – Я надеюсь, ты всякий раз оземь не бьешься за такой вопрос?
– Илуге, – ответил он коротко.
– А сестру твою? – опять прижмурился вождь, и Илуге почувствовал опасность. Едва уловимую, будто дуновение холодного воздуха, ознобом по спине. А ведь ничем нельзя вождя упрекнуть – серьезный ведет разговор, правильный. Будто не было меж ними розни. Так и должен вести себя настоящий вождь, быть выше своих устремлений…
– Янира.
Зачем спрашивает? Мог бы у шамана узнать… Не случится ли так, что, вернувшись, он найдет сестру изнасилованной или изуродованной Тулуевыми приспешниками? «Нет, – с усилием осадил Илуге охолонувший его застарелый страх. – Не теперь, после поединка. Это была бы стыдная месть. Хораг мог бы, он был в праве хозяина. Но не Тулуй. Военный вождь могучих джунгаров не может воевать с женщинами – это бы положило конец уважению племени. Какова бы ни была его месть, она коснется только меня». Видя, как Тулуй сверлит его пытливым взглядом, Илуге подумал, что его сомнения, вероятно, отражаются у него на лице. Плохо. Он крепче сцепил челюсти.
– Ничего, справится с хозяйством, – спокойно кивнул Тулуй. – На то и девка. А на пути-то, глядишь, сурочьи норы вскроем. Или изюбра возьмем – там, к югу, леса больше встретишь. И березняк попадается, и кедрач. Да, и мешок не забудь, воин. Бывает, что и орехов набрать случается.
Тон был спокойный, неторопливый. Обыденный. Вождь им, казалось, говорил: «Ну и дурак ты. Напридумывал тут». Может, действительно – напридумывал? Травленый зверь от любого шороха вскидывается.
– Благодарю. – Илуге снова неловко поклонился и вышел наружу, на солнечный свет.
Болезненно зажмурился: после полутьмы жилища снег блестел просто ослепительно. Юрты рассыпались по снегу прихотливой дугой, снег изрыт сапогами, копытами коней, приносящих неизвестно откуда ржавую грязь к порогам… Илуге поглядел на юг – туда, где далеко на горизонте в дымке угадывались очертания невысокой горной гряды. Путь туда будет неблизок. И чего ждать? Быть может, Тулуй действительно преодолел свою ярость – по крайней мере, как он стремится показать. И как должен бы – мелочность вождя не красит. Но так ли это на самом деле? Права ли Нарьяна – или загодя готова поверить в плохое? Шрам, изуродовавший на всю жизнь, – это для женщины никакие не шутки…
Илуге вздохнул. Это только раб не выбирает своей судьбы, а потому избавлен от сомнений. Он теперь свободный человек, волен выбирать. Совершать непоправимые ошибки – тоже волен.
Глава 10
Ветер с юга
«Шлю свои нижайшие пожелания здоровья и тысячу весен жизни своему многоуважаемому отцу и почтенной матери!– аккуратно писал Юэ, остро чувствуя мозоли, наросшие за последние месяцы на его огрубевших руках. – Милостью Неба, я жив и здоров. Должно быть, вы уже готовитесь ко встрече Нового года. Пользуясь случаем, прошу Вас поставить в храме Иань курительную палочку в ее честь за меня – в здешних местах нет храмов и некогда соблюдать традиции. Мой хайбэ, господин Сишань, да славятся его дела, не смог предоставить мне отпуск на это время – пришлось отпустить слишком много молодых солдат. Припадаю к Вашим стопам, что не смогу приехать.
Зима здесь очень странная: вместо снега с неба сыплется дождь, и теперь он идет каждый день. Есть утонченная красота в том, как он беспрестанно шуршит всю ночь и утром, выйдя из своей палатки, я могу любоваться широкими, как опахало, листьями незнакомых растений, по которым скатываются крупные прозрачные капли. Должно быть, война не кончится раньше весны, так как дороги стали практически непроходимыми.
Очень жду ваших писем. Обязательно напишите мне все обо всех – здесь, в южных землях, так хочется получить какую-нибудь весточку о знакомых. Я лежу в темноте и вспоминаю каждую улочку нашего города, каждое знакомое лицо! Служит ли еще отец у господина Хаги? Здорова ли его супруга? Как наша соседка Ы-ни? Должно быть, давно уже вышла замуж?
Пишите, я хочу знать все обо всех, даже о старом торговце рыбой, который по утрам всегда так пронзительно кричит. Сейчас я бы очень хотел услышать утром его пронзительный крик, но вместо него на рассвете здесь кричат какие-то большие птицы с огромным носом и перьями цвета крыльев бабочки эку. Если удастся, я хотел бы привезти такую домой – говорят, их можно приучить жить в клетке и даже выговаривать кое-какие слова. Вот будет что-то на память!
Да пребудет с Вами милость Великой Девятки. И, я надеюсь, матушка, как обычно, вы закажете мне гороскоп. Здесь взять гадателей совершенно неоткуда!»
Юэ поставил кистью иероглиф своего имени, полюбовался на характерный мазок, который всегда оставлял под последней чертой, и осторожно подул на бумагу, ожидая, пока она высохнет. Все в этой проклятой стране сохнет невыносимо медленно, даже бумага. Ему кажется, он пропитался запахом гнили и собственного пота навсегда.
Сезон дождей пришел в джунгли, затопил тропинки, превратив жирную коричнево-красную землю в непролазную хлюпающую грязь, в которой вперемешку с палыми листьями копошились змеи и гигантских размеров сколопендры. Бьеты – и те умерили свою активность. Вылазки, конечно, с их стороны случались, но намного реже, и господин Мядэ-го принял решение углубиться в джунгли в поисках их новой столицы, расположенной, по слухам, восточнее места впадения в Лусань реки Цзэ.
Юэ прекрасно понимал, почему не нападают бьеты: джунгли убивают куаньлинов без всяких усилий с их стороны, и причем наверняка. Вчера двое человек умерли: одного укусила змея, другой умер от лихорадки, пожиравшей его внутренности. Еще более двух десятков человек только из их тысячи больны, напоминая красноглазых демонов своей неестественной худобой, лихорадочным румянцем на запавших щеках и красными белками глаз, – признаком заразы. Пятерых уже приходилось нести: оставить их здесь, в джунглях, было негде, и отправить назад тоже – бьеты теперь шли у них позади, отрезая всякую возможность получить подкрепление и отправить домой обременявших их раненых. «Мы словно зверь, которого загоняют в ловушку!» – обреченно думал Юэ, с содроганием ощущая, как жирная, неизвестно чем кишащая жижа вползает ему в сапоги. Сапоги, как и одежда, гнили в сыром климате, расползались по швам.
Вечерами из темноты доносились какие-то звуки, похожие на чей-то нечеловеческий хохот, и простые солдаты испуганно жались к кострам, полностью теряя остатки мужества перед враждебной хохочущей темнотой. Юэ и Су пришлось прождать немало бессонных ночей, чтобы с помощью хитрого капкана поймать ночного хохотуна. Им оказался зверек величиной с большую крысу с длинным чешуйчатым хвостом. Животное верещало и кусалось, но каждый в отряде считал обязательным дотронуться до своего ночного кошмара. Облегчение было так велико, что зверька даже милостиво отпустили. Юэ радовался, словно выиграл величайшую битву в своей жизни.
Они шли по тропическим лесам уже почти от новолуния до полнолуния – господин Мядэ-го послал Левую руку сюда, в джунгли, на поиски столицы, Правую – в восточные горы, где, по сведениям лазутчиков, сосредоточены лагеря бьетов. А сам со своими десятью тысячами воинов… остался ждать донесений, оправдываясь тем, что должен удерживать крепость Уюн на случай неожиданного нападения. По правде говоря, ему хватило бы всего двух-трех тысяч человек.
Юэ с детства внушали понятие о подчинении приказам. Вся огромная государственная машина Срединной империи была построена на этом. Но сейчас речь шла о его жизни и жизни вверенных ему этой же машиной людей. Он не мог покорно вести их на такую отвратительную смерть. Болтун Удо был тысячу раз прав. Но болтуну Удо было все равно – он был в числе тех пяти валяющихся без сознания людей, которых скосила лихорадка.
Господин Бастэ разбил свое войско широкой цепью. «Мы будто рыболовная сеть, – повторял Сишань его слова своим сотникам, в числе которых был и Юэ. – Каждая сотня из тысячи идет на расстоянии, доступном для слуха. В каждом отряде следует выбрать и обучить сигнальщиков. Бунчуки и флаги убрать – они будут только мешать и не давать никакой информации. Барабаны и гонги – вот наши ориентиры на пути».
Юэ шел. Господин Сишань поставил его на самый неудобный участок: их путь лежал вдоль заболоченного ручья, и теперь они, увязая чуть не по колено в жидкой грязи, довольно сильно отставали. Кроме того, один раз он увидел в воде рядом со своим сапогом длинную чешуйчатую ленту, быстро скользнувшую в тень какой-то коряги. Юэ еле подавил испуганный вопль, – значит, здесь водились водяные змеи, по слухам, смертельно ядовитые. Он с секунду постоял на месте, борясь с желанием предупредить попутчиков… И промолчал.
Он машинально продолжал двигаться, размышляя о том, что будь местность хотя бы чуть более проходимой, как минимум треть войска бы уже дезертировала. И положа руку на сердце, он, Юэ, никого не смог бы осудить. Не помогали даже женщины-пленницы, разрешение на захват которых дал Бастэ, – их его сотне удалось захватить около десятка. Во-первых, низкорослые худосочные бьетки не соответствовали канонам Срединной, где ценились высокие пышные женщины с лилейной кожей. А во-вторых, что важнее, усталость и озлобление были настолько сильны, что после изнурительного похода по кишащим опасностями джунглям, постоянного напряжения из-за возможности в любой момент получить в спину отравленную иглу, женщины не слишком привлекали.
Юэ как командиру полагалась отдельная женщина. Он получил ее после того, как была захвачена и сожжена первая же деревня. Ее и деревней-то можно было назвать с трудом: два десятка легких хижин из пальмовых листьев, которые появились у них на пути, – брошенные. Охваченные азартом, воины бросились в погоню и настигли беглецов – это были явно не воины, а обычные босяки, пусть и бьетские. Люди Юэ с наслаждением перебили всех мужчин раньше, чем он даже сумел разобраться в этом. Юэ было довольно трудно поддержать ликующие вопли своих воинов, – несмотря на то, что он понимал, почему они так радуются победе над испуганными безоружными людьми, и на необходимость разделять их горести и радости, на душе у него было отвратительно.
Ему притащили испуганную женщину – некрасивую, худую, маленькую, с грязным лицом и спутанными волосами, восторженно вопя. В какой-то момент по их лицам, по охватившему их возбуждению Юэ понял, что они хотели бы от него демонстрации жестокости. Юэ взял пленницу за волосы и равнодушно втащил в свою палатку под гогот солдат. В этот момент он сам неожиданно холодно обдумывал возможность дезертирства. Женщина тряслась всем телом и всхлипывала. Она вызывала у него какую-то брезгливую жалость, а не желание. Когда он приблизился к ней, она пронзительно закричала, и его солдаты за стенами хижины заулюлюкали.
– Ты молчать, – на ломаном бьетском сказал Юэ, и женщина замолкла, словно ей зажали рот. Юэ скривился. От нее пахло грязью, потом и страхом. Все это не вызвало совершенно никаких чувств. У Юэ, конечно, уже были женщины, и в силу стесненных обстоятельств он мог позволить себе покупать только услуги дешевых певичек, но сейчас и они выглядели бы в сравнении с бьеткой просто небожительницами, – по крайней мере были куда чище и не так воняли.
– Ты – говорить, я – понимать учить, – сказал Юэ. Следует заметить, он считал полезным изучение бьетского языка и был одним из тех немногих, кто умел понимать и произнести хотя бы несколько слов.
Женщина в темноте хижины протяжно вздохнула. Она явно не годилась на роль учителя, но Юэ старался скрывать свои непопулярные взгляды – и на бьетский язык, и на бьетских пленниц. Так что это было даже удобно, в своем роде.
Женщина заговорила, быстро, нервно. Юэ вслушивался в чужую щелкающую речь, различая в темноте, как шевелятся ее губы и блестят белки широких темных глаз. К утру он узнал ее имя – Нгу, – и имя ее убитого мужа – Ле. И еще узнал, как по-бьетски «муж» и «убивать». Не понять этого было бы невозможно.
Нгу оказалась сметливой. Она быстро поняла, что Юэ является командиром и не собирается ее убивать. Участь остальных, многократно изнасилованных той ночью и последующими, ее тоже явно не прельщала, поэтому наутро она с деловитым видом прошествовала к реке и принесла Юэ воду для умывания в широком пальмовом листе. Глядя на ее некрасивое лицо с широко расставленными заискивающими глазами, Юэ мысленно проклинал свою командирскую должность – и свое мягкосердечие. Он кивнул, умылся из чаши и показал Нгу на голову, а потом на воду – помойся, мол. Вместо этого она принесла еще воды и окатила ему голову. Юэ вздохнул, но не ударил ее, отчасти потому, что на них глазело пол-лагеря. Нгу широко улыбнулась крепкими белыми зубами и сноровисто собрала в мешок его вещи, всем своим видом подчеркивая свою нужность. Теперь она всегда шла на шаг позади и слева от Юэ, волоча мешок с его пожитками, и, когда он оборачивался, улыбалась ему во весь рот.
При дневном свете она оказалась моложе, чем ему представлялось с вечера. Это, должно быть, казалось из-за более темной кожи. Сейчас, при свете дня, кожа у нее была цвета ореховой скорлупы, кое-где виднелись беловатые потеки раскраски – Юэ уже знал, что у бьетов принято раскрашивать свое тело белой глиной, и именно по узору на теле один род отличается от другого. Бьетские женщины вовсе не считали нужным прикрывать голые груди. Однако ему, Юэ, было даже неловко смотреть на эту, по его понятиям, бесстыдно обнаженную женщину, которая, судя по всему, даже не подозревает о своем бесстыдстве.
Гонг, ударявший над джунглями время от времени, извещал о продолжении пути и том, что разведчики не видят ничего плохого. Два коротких удара – привал. Непрерывные удары числом больше трех – тревога. Барабаны – сигнал к атаке.
Очищая себе дорогу с помощью своего меча, Юэ думал о том, что бьеты вполне могут сымитировать слышимые ими команды – и тем внести в их ряды сумятицу. А вот научиться говорить по-бьетски нужно во что бы то ни стало – и расспросить всех пленных. Конечно, у Сишаня, у Бастэ и других хайбэ были свои переводчики из числа пленных, а остальным сотникам полагалось лишь исполнять приказы командиров. Но Юэ чем дальше, тем больше уверялся, что служит под началом не слишком умного, да еще и невзлюбившего его хайбэ. В этом случае приходилось полагаться только на себя.
По мере того как они продвигались дальше, то, что начиналось как ручей, потихоньку превратилось в речку с заболоченными берегами, заросшими непролазными манграми. Идти становилось все труднее, а господин Сишань и не думал хотя бы изредка присылать кого-нибудь проверить, как идут дела. Просто Юэ казалось, что гонги стали слышны чуть дальше. Или это ему действительно кажется, возможно, из-за влажного воздуха?
Пару раз из леса прилетали маленькие иглы, – но то ли бойцов было мало, то ли по иным причинам, – бьеты не нападали всерьез. Впрочем, общего напряжения это не убавляло.
В одну из ночей он все-таки переспал с этой женщиной, – наверное, после того, как привык к ее запаху (и, надо сказать, все они скорее всего сейчас пахли уже ничуть не лучше). Нгу была скорее обрадована – по крайней мере его предыдущее поведение было ей непонятно, а теперь она широко раскрывала рот и задирала голову, встречая остальных пленных женщин. Ее право превосходства над ними было сейчас уже настоящим, а не видимым. Юэ это бы даже смешило, если бы он так не уставал.
Через несколько дней они наткнулись еще на одну брошенную деревню. Бьетов явно кто-то предупредил, и недавно, – в земляной яме, вырытой в центре деревни и предназначенной, вероятно, для общего очага, еще теплились угли и вилась вверх тонкая струйка дыма. Юэ приказал разделиться и прочесать местность, прежде чем двинуться дальше. Это было сделано не столько для того, чтобы поймать бьетов, сколько для того, чтобы избежать ловушек: лесные бьеты были мастерами замаскированных засад. Юэ это напоминало попытки бороться с москитами, которые ночью способны свести с ума своим назойливым монотонным звоном.
Яо умело разделил людей и поиски не заняли много времени: довольно широкая полоса свежих отпечатков босых ног (лесные бьеты ходили босыми) уходила в лес. Бросаться за ними в погоню было бессмысленно: во-первых, их могла ждать засада, а во-вторых, тропинка уводила в сторону от намеченного пути, и нарушать приказ хайбэ ради того, чтобы убить десяток безоружных босяков, не имело смысла. Юэ даже, можно сказать, обрадовался, что обошлось без лишней крови. Он дал сигнальщику приказ подать дымовой и звуковой сигнал, чтобы передать хайбэ сведения о них и брошенном поселении (его сигнальщик специально заучивал три десятка команд, разработанных лично господином Бастэ, посредством которых разбросанные по джунглям сотни могли ориентироваться и узнавать о происходящем друг с другом). Кроткая барабанная дробь эхом пронеслась по лесу, укатилась под широколистные кроны деревьев, почти не пропускающие солнечный свет. Какое-то время они напряженно ждали, закинув лица вверх, туда, где сквозь резной зеленый свод к ним просачивались солнечные лучи, кричали птицы и текла совсем другая, никак не соприкасающаяся с ними жизнь.
Из леса докатился ответ: шесть медленных ударов, четыре быстрых, два медленных снова. Господин Сишань приказывал остановить преследование и продолжать путь. Юэ мысленно возблагодарил богов, что послали хайбэ редкое для него мудрое решение.
Еще одна тропинка вела на юго-восток, как раз по направлению их движения. Юэ показал на нее Яо, который выслал вперед троих разведчиков, и они гуськом двинулись по ней, привычно рассчитавшись таким образом, чтобы всем не смотреть в одну сторону. Юэ оказался почти рядом с рекой – там, где мангры смыкали свои стволы в непроходимую чащу, срастались стволами, образуя причудливые пещеры, словно недра волшебных гор.
Юэ засмотрелся на невиданное зрелище и вытянул шею, чтобы посмотреть под ноги, куда уходили корни прямо из-под его ног.
Внизу он скорее уловил, чем увидел, какое-то движение. Машинальным, быстрым и осторожным жестом Юэ прижался к шершавому стволу ближайшего дерева, затем нагнулся и выглянул вниз – туда, где корни дерева, рядом с которым он стоял, образовывали пещерку прямо под его ногами.
Первое, что он увидел, были глаза. Много глаз – больших, черных, с яркими в полутьме белками и застывшим в них ужасом. Прямо под его ногами, замерев, будто застигнутые змеей птенцы, на корточках сидели дети. Один, два, три, пять, десять… Не меньше десятка, и, если он сейчас спрыгнет вниз, то под тропинкой наверняка он увидит еще. Чумазые, худые. Глаза как плошки, девочка, что стоит ближе всех, годов пяти от силы, засунула в рот грязный кулачок, и вся трясется от страха, слезы переполняют глаза и стекают на щеки, прочерчивая на них чистые ручейки…
– Что там, господин сэй? – шедший позади на довольно значительном расстоянии Яо уперся ему в спину и тревожно выглядывал из-за плеча. Еще чуть-чуть левее и…
Юэ махнул рукой и сделал шаг назад, возвращаясь обратно на тропинку.
– Ничего, – сказал он как можно спокойнее. – Показалось. Здесь, в этом поганом климате, все звуки как-то странно искажаются. Оказалось – птица.
Живот у него сжимался: только бы никто из этих глупышей не закричал, не заплакал прямо сейчас!
– И у меня так бывает, – кивнул Яо, отступая. Из-под его ноги выскользнул и осыпался в реку большой кусок красновато-черной земли. – Из-за каждой коряги что-то мерещилось… Надо догонять остальных, они, поди, ушли слишком далеко.
– Да, да. – Юэ с облегчением заторопился вперед по тропинке. Ему пришло в голову, что он уже давно нигде не видел Нгу: с момента того, как они вошли в деревню, женщина будто где-то растворилась. Ладно, в суматохе чего только не покажется!
– Господин сэй! Глядите – они свернули с тропинки! – Палец Яо указывал ему на следы, голос звучал встревоженно. – С чего бы?
– Всем быть начеку! – Юэ поднял руку, чтоб его увидели сзади идущие. И правда, в этом что-то странное. Ему послышались впереди какие-то звуки, и он побежал, пригибаясь и молясь, чтобы ему навстречу не вылетела из ниоткуда отравленная игла.
Тропинка привела его на полянку, где двое куаньлинов лежали, уткнувшись лицом в грязь. А третий катался по земле, с хрипом подминая под себя маленькое смуглое тело. Нгу!
В этот момент солдат исхитрился схватить женщину за руки, которыми она держала у его горла маленький, невесть откуда взявшийся кинжал, и с хрустом вывернул ей руку в суставе. Нгу закричала.
– Что происходит? – спросил Юэ, слыша за спиной, дыхание своих людей, один за другим становившихся у него за спиной, вытягивая шеи, чтобы разглядеть происходящее.
– Эта змея… завела нас сюда, – тяжело дыша, отвечал солдат. Его звали Тэн, Юэ помнил его. – Напоролись на отраву, яд вон там, на тех маленьких шариках, в листьях. Когда я услышал крик, я сразу схватил ее за руку, а она набросилась на меня. И мы живы, оба, как видите. Эта змея знала, куда ступать.
Юэ осторожно поднял с земли круглый колючий шарик величиной с перепелиное яйцо, утыканный острыми частыми колючками, – видимо, плод какого-то растения. Острыми настолько, чтобы пропороть их изношенную обувь, если на них наступить. Достаточно бросить горсть под ноги идущим по тропинке…