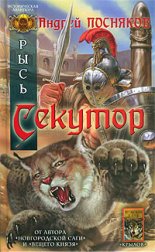Негероический герой Равикович Анатолий

Не знаю, зачем я пишу эту книгу. Вернее – кому. Кто ее будет читать. Кому интересны жизнеописания и жизнеразмышления обычного человека, одного из пяти миллиардов людей, живших во второй половине двадцатого века? Моим детям, моим потомкам? Что-то сильно сомневаюсь. Для себя? Хочу осмыслить свою жизнь и предать воспоминания бумаге: она организует мысли, помогает их сформулировать – так говорят. Нет, мне это не нужно. Нет ничего значительного в моей жизни, что требовало бы таких усилий. Я сам про себя все знаю и без письменных упражнений. Так зачем? А вот зачем.
Вчера моя жена читала воспоминания Михаила Козакова. Потом вдруг поворачивается ко мне и говорит: «Завтра начнешь писать книгу». Мы поехали в Гостиный Двор, купили две рубашки и большую тетрадь. Вот почему я пишу эту книгу – МНЕ ВЕЛЕНО.
МОИ РОДИТЕЛИ
Бедные мои, несчастные мои родители!
Они жили в самые лютые годы двадцатого века. Голод, нищета, страх, война, сталинщина, погромы, блокада и маленькая однокомнатная квартирка в полуподвале в самом конце жизни – как награда за перенесенные страдания. Как я казню себя сейчас за то, что редко бывал с ними, мало разговаривал, стеснялся их ограниченности, их убогого уюта, их еврейского акцента. Если бы можно было что-то вернуть! Увы, я не оригинален. Уверен, что большинство людей к старости чувствуют ту же вину перед родителями. Новые поколения рождаются и умирают «не чтя отца своего», и ничто не изменит этой вечной людской неблагодарности. И каждое поколение совершает тот же грех.
У моего отца была очень большая семья. Боюсь соврать – у него было, по-моему, тринадцать братьев и сестер. Между ним и его старшим братом Гришей была разница в двадцать лет. Отец никогда не говорил, кто были его родители. Думаю, это были состоятельные люди. Иногда отец проговаривался, и выходило, что мой дед был вроде бы управляющим не то у какого-то помещика, не то у заводчика. Отец не распространялся на эту тему – боялся, что ему припишут мелкобуржуазное происхождение. А он был членом партии, начинал свою самостоятельную жизнь рабочим, поэтому и написал, вступая в партию, – «из рабочих».
Собственно говоря, он и не врал. В 1917 году ему было двенадцать лет. Началась революция. Семья голодала. Его отправили из Чернобыля, что на Украине, в город Глухов – неподалеку. Отправили в надежде, что старший брат Гриша пристроит куда-нибудь брата Юлю. Гриша пристроил. Он сам работал мастером на кожевенном заводе и взял братуху чернорабочим. Это было большой удачей. Это гарантировало, что с голоду он не помрет. Он и не умер. Правда, кое-что все-таки случилось. В огромных чанах, заполненных всякими кислотами, замачивались цельные коровьи шкуры. По мере готовности их надо было оттуда вытащить и отнести в другой цех для просушки. Вонь в цехе стояла неимоверная, испарения кислот выжигали легкие. Надо было крючьями зацепить шкуру в этом чане, подождать, пока с нее стечет «рассол», вытащить, взгромоздить на спину, предварительно покрытую мешковиной, и оттащить в другой цех. Для худенького двенадцатилетнего мальчика это было просто непосильно, но это была единственная работа, на которую он мог рассчитывать. Он обещал папе и маме и брату Грише потерпеть, и он терпел. Через два месяца у него появилась грыжа. Отец рассказывал, что яйца у него стали размером с чайник. Он перевязывал низ живота ремнем, наподобие штангиста, и терпел. Года через два он окреп и научился сам заправлять проваливающуюся в мошонку кишку обратно. Он стал настоящим пролетарием. Он стал ненавидеть буржуев, нэпманов, угнетателей и брата Гришу. В его худенькой еврейской груди, еще безволосой, кипела ненависть к классовым врагам. Я не знаю точно, в каком году это произошло, но отец организовал первую в Глухове еврейскую комсомольскую ячейку. Я хорошо помню фотографию, наклеенную на толстый картон: в несколько сумрачном коричневатом освещении на заднем фоне какой-то шикарный сад с пальмами и магнолиями – двое сидят, трое стоят. С выпученными черными глазами мужчины в кожаных куртках и кепках – их трое – и две девушки. Одна – с короткой стрижкой и в берете, а вторая в платке, накинутом на голову. Внизу что-то написано незнакомыми буквами. Как выяснилось, это – иврит. Надпись гласит «Первая еврейская комячейка в г. Глухове». Девушка в платке – моя мама. Юноша с самым суровым лицом – мой отец. «Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» – это про него. Он жил и верил в мировую революцию, в справедливость, в счастливое будущее, в товарища Ленина. И знаете, что я вам скажу, чем больше я отдаляюсь от советских времен, тем образ коммуниста, отсеченный от российской реальности, взятый в чистом виде, как мечта, –образ этот становится вполне привлекательным. Но, увы, человечество не заслужило коммунизма. Я не могу быть счастливым, имея яхту и самолет, если у моего соседа тоже есть яхта и самолет. Вот если бы у меня они были, а у него нет, – вот это был бы коммунизм и полное счастье. Но какой размах мечтаний был у того поколения! Завидую. Не BMW купить, нет. Переделать человека! Да, это достойная цель для юности. Моя мама, хоть и была членом комячейки, не была таким же неистовым революционером, как отец. Она больше интересовалась непосредственно самим секретарем ячейки, чем революционной борьбой. К тому же она была из мелкобуржуазной семьи – ее отец владел бубличной пекарней. И к ней в ячейке относились с подозрением. И вот однажды мой будущий папа сказал моей будущей маме:
– Люба, если хочешь, чтобы мы поженились и чтобы в дальнейшем у нас не было никаких классовых разногласий, ты должна экспроприировать у своего отца-капиталиста средства производства. Этим ты докажешь свою преданность делу революции, и я смогу с чистой совестью на тебе жениться, потому что ты уже будешь не попутчицей пролетариата, а настоящим пролетарским бойцом.
Мама обрадовалась, что мой папа хочет на ней жениться, но не поняла, что ей нужно делать.
– Юлик, а что значит «экспроприировать»? – спросила она.
Отец ей объяснил. И вот моя мама еще с одним комсомольцем на подводе, которую им выделила ячейка, приехала в пекарню.
– Здравствуй, Лейба, – приветливо встретил ее Ниссон, ее отец и мой дедушка, – шо такое, почему так рано? И шо это за лошадь?
Мама заплакала, а комсомолец погрузил на подводу полтора мешка муки (все, что он нашел в пекарне), и они уехали. Вот это и означало «экспроприировать». Вечером вернулись домой мамины братья – Вениамин, Аркадий, Самуил и Хаим. Чем они занимались тогда, где работали, я не знаю – мама не рассказывала. Единственное, что я от нее слышал, это то, что Самуил и Хаим были первыми хулиганами в Глухове и их боялся весь город. Это были крепкие ребята, не дураки выпить. Оба потом прошли всю войну, остались живы и довольно часто нас навещали. Хаим служил в разведке, и у него было два ордена Славы – это высшие солдатские ордена Великой Отечественной войны (по-старому – это Георгиевские кресты), три ордена Славы приравнивались к Герою Советского Союза. В армии его стали звать не Хаим, а Савва. Так он потом и в паспорте записал. А Самуил служил на флоте и, по-моему, вернулся без наград, чему он нисколько не печалился. Они приезжали к нам, как правило, вместе, и дома становилось шумно, весело, пахло табачным дымом и винегретом. Мой тихий папа их не любил, мне кажется, – он их боялся. Дядя Савва на пару с дядей Шурой (так теперь звали Самуила) сначала выпивали водку, стоящую на столе, потом дядя Савва доставал из кармана пальто бутылку портвейна, потом еще одну, потом он ненадолго отлучался и приносил еще выпивку. Он был небольшого роста, ниже меня, с длиннющими руками и очень широкими плечами. Говорил со страшным еврейским акцентом.
– Папа, а где пожрать? – спросили вернувшиеся к ужину братья.
– Про ужин спросите у Лейбы, – ответил папа.
А тут и Лейба приходит. Потому что идти, кроме как домой, ей было некуда. Узнав про «экспроприацию», братья взяли сестру, положили ее на кровать и хорошо отдубасили мокрыми полотенцами. Так закончилась классовая борьба в городе Глухове.
Мамин брат Самуил (Шура) был совершенно не похож на Хаима (Савву). Он приходил к нам с целым мешком анекдотов и, не забывая наливать, смешил ими всех сидящих за столом, за исключением моего папы. Папа не любил анекдотов. Он вообще был в натянутых отношениях с юмором и со всем, что имело отношение к выдумке, фантазии, воображению – словом, к тому, что называется искусством. Я никогда не видел, чтобы он читал какое-нибудь художественное произведение. «Над выдумкой слезами обольюсь» – это не про него. Его страстью был документ, факт, реальность, зафиксированная на бумаге, с указанием места, времени и поименным списком участников событий. Мемуары – это было то, к чему он относился с душевным волнением и, я бы сказал, трепетом.
В конце сороковых в Советском Союзе появились первые телевизоры – огромные ящики с маленьким, похожим на почтовую открытку экраном. У нас телевизора не было, мы ходили смотреть это чудо к соседям. В комнату набивалось человек пятнадцать-двадцать. Все приходили со своими стульями, усаживались, гасили свет – и представление начиналось. Показывали в основном оперетты «Сильва», «Трембита», «Вольный ветер» и что-то еще в этом роде. Особенно часто показывали «Сильву». Все уже знали этот фильм наизусть, знали даже все царапины на пленке, и все равно смотрели с упоением. Особенно моя мама. У нее было то замечательное качество, которому нас безуспешно пытались обучить в театральном институте: смотри и слушай, как будто ты это видишь и слышишь впервые. Она действительно каждый раз, широко открыв глаза, полные слез, слегка покачиваясь от горя, повторяла вместе с Сильвой: «Прощай, уходят прочь воспоминанья, и нет любви». Отец вынести этого не мог. Сначала он молча, но выразительно смотрел на нее. Потом, решив, что его взгляд не остановит этот пароксизм отчаянья, и стыдясь жены, шипел, чуть ущипнув ее за колено: «Люба, сейчас же перестань».
– Юлик, Юлик, – говорила мама, не отрывая взгляда от экрана, – они же навек прощаются.
– Ты что, идиотка? – продолжал шипеть папа. – Ты что, не знаешь, что через пятнадцать минут они опять встретятся?
– Юлик, отстань, ты не понимаешь!
– Что я не понимаю, что! Это же артисты, дура, этого же не было! Смотрите, как она переживает!
Лучше бы ты так переживала, когда у меня в прошлом месяце была ангина!
Нет, не в папу я, видимо, пошел, а в маму и ее брата Шуру.
Я могу сидеть у телевизора, смотреть новости, но когда диктор, к примеру, объявляет: «На полях Псковской области началась подготовка к севу». И на экране появляется огромное поле, стая галок, бездонное весеннее, голубое небо и вдали – трактор, такой маленький, и ясно, что никогда ему это поле не перепахать, – я начинаю хлюпать носом, черт знает почему. То ли потому, что весна на меня так действует, то ли жалко трактор, – не знаю, только плачу, и мне не стыдно и на душе хорошо.
Но вернемся в город Глухов к моим родителям.
Они поженились, но вместе жили недолго. Отца как комсомольца партия направила в армию для укрепления командного состава идейными кадрами. Он получил задание организовать и редактировать газету штаба бригады. Войска, в которые он попал служить, назывались ЧОН – части особого назначения. Это те самые части, которые под дулом винтовок отбирали у крестьян все зерно, выполняя волю ЦК и товарища Сталина, и заморили голодом миллионы крестьян на Украине. Это время там так и называют – голодомор.
Части эти принадлежали НКВД. Это были отборные, в основном кавалерийские соединения. Отцу армейская служба давалась мучительно. Городской парень, он вообще побаивался лошадей, а тут должен был ухаживать за своей лошадью, чистить ее, кормить, поить, чинить упряжь, учиться верховой езде, джигитовке. Каждый раз он буквально заставлял себя войти в стойло к лошади, причем так, чтобы она его не лягнула. Он приносил ей весь свой дневной паек хлеба и весь сахар в количестве двух кусочков. Его непосредственный начальник, командир взвода, из казаков, смотрел на папу так, как казак и должен смотреть на еврея. За любую провинность он получал наряды вне очереди и зуботычины. Но, справедливости ради надо сказать, что верховая езда и джигитовка действительно не шли у папы. Лошадь, чувствуя его слабину, часто брыкалась и сбрасывала его на землю. А однажды во время «рубки лозы» он отрубил лошади ухо. Есть такое упражнение у кавалеристов: ставятся шесты с привязанными к ним сверху вениками, и нужно на полном скаку эти веники порубить шашкой. Как-то раз шашка у папы вильнула в руке и лошадь его осталась без уха. Отец никогда не рассказывал, чем он еще занимался там, в войсках ЧОНа, и я догадываюсь почему. На память об этих годах у него осталось несколько фотографий. На одной из них, видимо из самых первых, изображен молодой человек в военной форме, огромных сапогах, сидящий на стуле. Он наголо пострижен, уши от этого кажутся ужасно большими. Двумя руками, вытянутыми вперед, он держит за эфес шашку, упираясь ею в пол. Страшно худой, очень гордый. Это отец прислал маме похвастаться. Фотография эта лежала в нашем семейном альбоме, а две другие я случайно обнаружил в дальнем ящике шкафа под грудой старого белья. На них были запечатлены военные в длинных, почти до полу кавалерийских шинелях, портупеях, с хорошей выправкой, с лицами властными и уверенным взглядом. Судя по шпалам на петличках, все в больших чинах. Было только очень досадно, что лица некоторых залиты синими чернилами.
Я не мог понять, почему эти фотографии лежат в шкафу, а не в альбоме, почему отец их прячет. И что это за синие пятна.
– Папа, смотри, что я нашел! Что это за фотки? – спросил я вечером у отца.
Он молча взял фотографии, как-то странно на меня посмотрел и положил их в свой портфель.
– Толя, пожалуйста, никогда их больше не бери. Пожалуйста.
Это было так сказано, что я не решился больше ничего спрашивать. Мне было тогда тринадцать, и только спустя много лет, уже при Хрущеве, я узнал историю этих фотографий. На них были его друзья-сослуживцы. Это была его память о юности. И, когда многих из них стали арестовывать, потом расстреливать, держать эти фото в доме было смертельно опасно. И отец, как ему казалось, нашел гениальный способ обмануть чекистов: если даже фотографии найдут, он всегда может сказать: «Я врагов народа не хочу даже видеть». Мой робкий, мой мужественный папа. Представляю, сколько он выдержал борьбы с самим собой, решаясь на такой поступок. Я думаю, для него это был подвиг. Подвиги ведь бывают разные. В каждой весовой категории свой подвиг. Как у штангистов. Я видел мальчика, которому было лет восемь, я наблюдал за ним. Он стоял на трамплине для прыжков в воду. Высота трамплина – один метр. Он подходил к краю, смотрел вниз, готовясь прыгнуть, но, так и не решившись, отходил обратно. Подходил снова, напрягаясь всем телом, – и снова отступал. Мимо него бегали и прыгали в воду другие мальчики и девочки, смеясь и толкая друг друга, а он никак не мог заставить себя сделать ЭТО. И все-таки он прыгнул, преодолев свой страх. Для него это был подвиг, может быть не меньший, чем Гераклу взвалить на плечи небесный свод.
Меня, кстати, как артиста больше всего волновали именно такие персонажи. Мне кажется, что я их глубоко чувствую. Нелепые, робкие люди на пике напряжения своих душевных сил, совершающие что-либо немыслимо героическое, например прыжок с метровой вышки.
В армии надолго отец не задержался. Пришло время, и партия бросает своего верного бойца на другой фронт – борьбы с разрухой. Он направляется в Ленинград в Промакадемию. А если не так красиво, то на рабфак, рабочий факультет. Это вроде сильно облегченного высшего учебного заведения для людей, не заканчивавших «гимназиев» и прочих буржуазных штучек. С тех пор, с конца двадцатых годов, моя семья живет в Ленинграде.
ЛЕНИНГРАД
Жили мы на Прядильной улице, что в Коломне, в районе от Аларчина моста на Фонтанке, до Крюкова канала и Театральной площади. В Коломне жили и родители Пушкина, когда они переехали в Петербург, и, может быть, поэтому герой «Медного всадника» – Евгений – тоже «…живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных…» и т. д. Это район бедных ремесленников и бедных чиновников. Александр Сергеевич стеснялся того, что его родственники живут в таком месте, и довольно редко звал кого-то к себе в гости. Да и сам старался пореже бывать дома.
У нас была комната в коммунальной квартире, в которой кроме нас жили еще три семьи. Была кухня, туалет и маленькая комнатка, скорее конура, где когда-то, до революции, стояла ванна. Сколько я себя помню, шли бесконечные переговоры между жильцами, что, дескать, хорошо бы снова сделать там ванную. Поставить водогрей, там и стирать можно, и не надо будет в баню ходить, стоять в очереди, набираться, не дай бог, чужих вшей. И все эти разговоры всегда заканчивались ничем. Когда дело доходило до сбора денег, консенсуса не достигали.
– Вас пять человек, – говорили нам, – вы и должны платить за пять, по числу жильцов.
– Ну и что, что пять, – возражала мама, – у нас из пяти – трое детей, сколько им воды-то надо. А вас двое взрослых, и вы с работы грязные приходите.
– Я платить вообще ни за что не буду, – вступал в разговор инвалид войны, всегда пьяный дядя Витя. – Мне насрать, будет у вас ванна или нет.
– Вы не выражайтесь. Вы бы лучше свою кошку не пускали по всей квартире гулять. Она ходит и гадит около наших дверей.
После этого все расходились по своим комнатам, гася в коридоре каждый свою лампочку. Вот поэтому до той поры, пока я не ушел из дому во взрослую жизнь, мы ходили в баню. В баню до девяти лет я ходил с мамой и сестрами. Отец мылся в душе на своей фабрике и баню не любил. Лет в семь я поднял мятеж и сказал, что в женскую баню ходить больше не буду. Мать стала водить меня силком. Делать было нечего – я подчинился, но каждый раз страстно протестовал. Все это продолжалось, пока не случился большой скандал. Мы сидели с сестрой на лавке в бане и мылись. Потом, как всегда, подрались. Я кинул в нее намыленную мочалку, мыло попало ей в глаза, она заревела и со всей силы пихнула меня ногой. Проехав по намыленной лавке не меньше метра, я свалился на каменный пол вместе с тазом, издав страшный грохот.
– Что случилось, что случилось? – заверещали женские голоса в банном тумане.
– Мальчик упал.
– Какой мальчик?
Я лежал на полу, тер ушибленный локоть, а вокруг меня образовывалось кольцо из голых женщин, сочувственно меня разглядывавших. Вдруг одна из них сказала: «Мальчик-то большой!» – и прикрыла руками грудь, а потом и все остальное.
– А-а-а, – пронеслось по толпе, и все женщины, как по команде, повторили вслед за ней упражнение с руками. Получилось, как на физкультуре. И меня изгнали из женской бани, как Адама из Рая, к великой моей радости и огорчению моего папы, который теперь каждую неделю должен был водить меня мыться. После выхода «Покровских ворот» многие зрители спрашивали у меня, нет ли у меня ностальгии по коммунальным квартирам, когда люди так хорошо общались, помогали друг другу, не жалею ли я, что теперь все разобщены, все живут отдельно в своих квартирах. А ведь как было славно, если судить по вашему фильму. Нет. Не жалею. Пропади они пропадом, и да минует меня сия участь.
К нам в гости в комнату в этой квартире приходили мамины и папины друзья и знакомые из Глу-хова. Их было довольно много. Связанные юностью, воспоминаниями, трудностями жизни провинциалов, в большом городе они держались вместе и искренне радовались, видя друг друга. Это было уже после войны (что было до войны, я не помню – был мал).
Среди них был один человек, который меня пугал. Горбоносый, с черными смоляными волосами, смуглый.
– Здравствуй, бандит, – говорил он, здороваясь и протягивая мне левую руку (правая была у него в перчатке, которую он никогда не снимал). Его звали Муля Месежников. Раз, когда гости ушли, я спросил у отца:
– Папа, а почему Муля Месежников дома в варежке ходит? Он что, на одну руку мерзнет?
– Это протез, у него своей руки нет, так ему из кожи игрушечную сделали. Он туда свой обрубок вставляет и ходит, чтоб народ не пугать.
– Ему на фронте оторвало?
– Нет, еще до войны, когда он мальчиком был.
На этом разговор закончился и продолжился спустя некоторое время уже с мамой. Она была свидетельницей того, что произошло с Мулей.
Шла Гражданская война, и, сменяя друг друга, Глу-хов занимали то махновцы, то Петлюра, то красные, то какие-то Таращанские полки, то части генерала Краснова, а в восемнадцатом году – немцы.
Все они, за исключением немцев, входя в город, грабили его до последней нитки, если она еще оставалась от предыдущего налета. Больше всех доставалось евреям. Их не просто грабили, их убивали с редким единодушием, несмотря на разные знамена и идеологические разногласия. Особенно в первые два-три дня, как занимали город. Красные, правда, делали это после широкого обсуждения на городской площади, где на голосование ставился вопрос: «Бить жидов, чи не бить». Ответ всегда был положительный.
Немцы, заняв Украину после Брестского мира, никого не грабили и, более того, защищали евреев от погромов. Потому-то, когда началась Вторая мировая война, так много евреев отказалось эвакуироваться и погибло. Они помнили Гражданскую войну, помнили, что немцы их не трогали, и не верили слухам. Они ошиблись. Это были уже другие немцы.
Так вот, Муля Месежников прятался на чердаке во время погрома. В городе был «бенефис» батьки Махно, и кто-то из его ребят шарил по дому. Ничего путного не найдя, грабитель не поленился залезть на чердак, где и наткнулся на Мулю. Он выхватил шашку и ударил того по голове. Муля, защищаясь, вскинул руку вверх, что и спасло ему жизнь – шашка, отрубив руку, чуть-чуть дрогнула и скользнула в сторону. И голова у Мули осталась цела. Ему тогда было лет четырнадцать.
Хочу рассказать одну трагикомическую историю того же времени, которую я услышал от мамы и ее братьев.
Очень модный способ прятаться от погромов у глу-ховских евреев был следующий – следовало построить во дворе поленницу и в ней жить. Ну, представьте себе, во дворе аккуратным штабелем лежат колотые дрова. Штабель размером два на три метра и в высоту где-нибудь метра полтора. Дрова как дрова. Но это была только видимость. А на самом деле, через искусно замаскированный лаз можно было попасть внутрь этой поленницы и по ступенькам спуститься в довольно просторную землянку. Там был запас пищи и воды, стояла керосиновая лампа. Когда менялась власть и начинался новый погром, вся семья, забрав из дома самое ценное, спускалась туда и дня два-три не высовывалась. Потом, когда погром шел на убыль, они оттуда выбирались до следующего погрома. И вот однажды, когда шел уже третий день погрома – в тот раз «бал» давали петлюровцы, – мой дед Ниссон вдруг вспомнил, что сегодня из села должен был приехать Богдан с мукой для пекарни и его надо было обязательно встретить. А Богдан был туповат.
– Если я его не встречу, – волновался дед, – этот идиот повезет муку обратно, и как я буду печь бублики без муки?
И он решил на минуточку сбегать в пекарню, чтобы встретить Богдана.
– Ты сошел с ума, – сказала бабушка Бася. – Ты слышишь, что творится в городе? Ты хочешь оставить детей сиротами из-за двух мешков паршивой муки?
Но деда это не остановило. Он надел лапсердак (сюртук) и вышел на волю. Но ему не повезло. На первом же перекрестке он наткнулся на пьяного петлюровца.
– А! Жидовская морда! – обрадовался борец за самостийность Украины. – Давай часы, порхатый, а то порублю как капусту. – И он, шатаясь из стороны в сторону, схватился за шашку. Считалось, что у каждого уважающего себя еврея в жилетке должны лежать золотые часы с цепочкой.
– Я очень извиняюсь, – сказал дед, – но часов у меня нет. Я очень спешил и забыл их взять с собой.
– Зарублю! – заорал петлюровец и потянул шашку из ножен.
– Пан петлюровец, ну что вы выиграете? Ну зарубите, часов-то все равно у меня нет. Послушайте меня, – примирительно втолковывал дед, – я живу буквально рядом. Буквально две минуты. Если вы здесь капельку постоите, я тут же сбегаю и принесу вам очень хорошие часы.
– Убью! – продолжал гнуть свое петлюровец, не отвечая деду по существу. Дед расценил это как согласие на свое предложение и помчался домой. Запыхавшись от бега, дома он схватил лежавшие на столе часы и кинулся к двери.
– Куда ты? Не пущу! – вцепилась в него бабушка Бася.
– Идиотка! – кричал ей дед. – Я обещал человеку часы. Я дал слово, что я их принесу! Что он обо мне может подумать. Он мне жизнь спас!
Оттолкнув жену, дед выскочил «из дров» и помчался по улице, зажав в руке часы.
Прибежав на заветный угол, он там никого не застал. Что случилось с пьяным петлюровцем, совершенно не известно. Наверно, он просто ушел, позабыв про деда, как только тот исчез с его глаз. Растерянный дед топтался с часами посреди улицы, глядя то в одну, то в другую сторону, но улица была пуста. Дед собрался уж было продолжить свой прерванный путь к пекарне, как на сцене появился новый персонаж. Это был пьяный петлюровец с чубом и шашкой, но не тот, который был знаком деду, а другой, но очень похожий.
– А! Жидовская морда! – услышал дед знакомые слова. – Давай часы, порхатый, а то зарублю как собаку.
– Я дико извиняюсь, – сказал дед, – но я как раз жду вашего товарища. Я ему уже обещал часы, и, если я их отдам вам, он может про меня плохо подумать.
– Заткни свою вонючую пасть, – заревел петлюровец и ударил своим свинцовым кулаком деду в лицо.
Дед пролежал на улице почти до вечера, потом встал и потихоньку добрался до дома. Уже без часов и без зубов. «Так кто из нас идиот?» – спросила бабушка Бася, потихоньку, чтобы не сделать больно, снимая с деда испачканную кровью рубашку.
Дедушку я совсем не знал. Единственный раз, когда я его видел, – на его похоронах. По-моему, мне было лет тринадцать, я учился в шестом классе. Началось лето, и мама повезла нас в Глухов на фрукты и овощи. В том же доме, что и до войны, жили вернувшиеся из эвакуации дедушка, бабушка и мамина сестра Соня. Я ее боялся: у нее росли довольно большие усы. Мы приехали не вовремя – дедушка умирал от рака. Он лежал в углу, отгороженный простыней, и мы с сестрой Люсей туда не заглядывали. Да нам было и неинтересно. У нас и чувств никаких не было – так, легкое любопытство, некоторая, тоже не ахти какая, жалость к матери, которая отца любила и плакала.
Дедушка умер ночью. Мы проснулись от страшного крика тети Сони. Она бегала по дому и рвала на себе волосы. Утром к нам стали собираться евреи. В комнате, смежной с той, где лежал дед, мама кормила нас завтраком, а мимо шли пожилые люди, в каких-то белых платках с голубыми полосами, накинутых поверх пиджаков. Они называются талесы – одежда для молитвы. В дедову комнату шли одни мужчины, а женщины оставались в нашей комнате. В черных платьях, в черных платках на голове и с черными молитвенниками в руках. Сев на лавки вдоль стен, они что-то шептали, открыв молитвенники, при этом внимательно рассматривая, что мы едим. Они были очень похожи на стаю ворон. Я старался поскорее проглотить яичницу и выскочить во двор.
– Люба, почем сегодня яечки? – неожиданно громко спросила одна из старух, не переставая при этом раскачиваться.
Я вздрогнул, а потом меня стал душить смех. Я знал, что это нехорошо, но ничего не мог с собой сделать. Кусал губы, чтобы не рассмеяться, старался думать о другом, но чем больше я сдерживался, тем больше меня распирало. Наконец я не выдержал и два раза громко хрюкнул. Все женщины, как по команде, разом подняли головы – ну точно, как вороны – и уставились на меня.
– Да, – сказала другая старуха, – хороший внук у Ниссона, ему смешно, что дедушка умер. Хорошо ты его воспитала, Люба. Жаль, что Ниссон не может встать и посмотреть на свое отродье. Тут заговорили все, поднялся гвалт. На шум из мужской комнаты показалась чья-то голова.
– Вы можете минуту посидеть тихо! – тоже закричала голова. – Вы же, слава богу, пришли на похороны, а не свадьбу.
Мама, которая все это время безуспешно щипала меня за бок, чтобы я перестал смеяться, схватила меня за ухо и крутанула так, что я взвизгнул и подскочил на стуле, внеся свою лепту в общий крик. В это время отворилась входная дверь, и в доме появился запыхавшийся маленький, рыжий, косоглазый человек в фуражке. В руках он держал намотанный на палку рулон пожелтевшей плотной бумаги, похожий на ватман, – это был свиток, книга с молитвами, песнопениями по случаю праздников, похорон, свадеб и других важных событий. А сам рыжий красавец был кантор – певец при синагоге. Поскольку в Глухове при советской власти синагога была закрыта, он выполнял свои обязанности на общественных началах, а на хлеб себе зарабатывал, работая продавцом в магазине. Меня его появление спасло.
– Ты даже в такой день умудряешься опоздать! – набросилась на него «голова», и скандал вместе с кантором переместился в комнату деда. Наконец все утихло. Все сели и открыли молитвенники. Через открытую дверь было видно, как кантор положил свой свиток на стол и стал разворачивать его. Найдя нужное место, он выпрямился, глубоко вздохнул, потом склонился, почти касаясь носом свитка, как будто принюхиваясь, оба глаза его при этом сошлись на переносице, и вдруг, резко выпрямившись и задрав вверх голову, издал пронзительный, невероятной высоты и силы звук. Это было начало поминальной молитвы. Этот звук меня ошеломил. Я был мальчиком. Я никогда не терял близких. Я не понимал смысла этой молитвы, но я почувствовал такую глубину скорби, безутешного горя, как будто бы что-то подобное уже было в моей жизни. Что-то очень древнее проснулось в моей голове и откликнулось на звуки этого рвущего воздух голоса. Да, не одну сотню лет надо было прожить, не одно поколение оплакать, чтобы родить такую музыку. В то же время было в ней и обещание покоя, и призыв смирения перед неизбежностью. Я иногда спрашиваю себя, есть ли во мне что-нибудь еврейское? Нет, говорю я себе, – откуда ему взяться. Не знаю ни языка, ни обычаев, не религиозен. Вырос в семье, где ничего никогда не напоминало о происхождении. Но, может быть, там, в глубинах подсознания, есть что-то, что позволяет мне чувствовать чужое как свое. Какой-нибудь спецген.
ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ
В сорок первом году, когда началась война, мы тоже на лето приехали в Глухов. Мне было четыре с половиной года, и я кое-что помню из того времени.
Как часто бывает, то, что я видел сам, сплелось с более поздними рассказами взрослых, и они стали как бы пережитыми мною самим. И трудно отличить одно от другого.
Очень отчетливо, в деталях, помню поток беженцев из западных областей Украины, льющийся на восток. Брички, повозки, подводы, запряженные волами. Тележки, влачимые вручную, чемоданы, узлы, мешки. Коровы и козы, привязанные к задку телеги. Просто пешие с заплечными мешками. Дети, крик, пыль, грязь. Солнце печет. На небе – ни облачка. Огромные поля цветущих подсолнухов и бесконечная людская река.
После споров и обсуждений было решено тоже уходить. Я не знаю, как мать достала подводу с лошадью. Скорее всего, ей как матери троих детей – тринадцати, четырех и одного года – дали их в эвакопункте. К тому же тетя Соня была на восьмом месяце беременности, а ее муж был на фронте. Мы уложили свой скарб на подводу и влились в этот бесконечный людской поток.
Места на подводе распределялись так: я, моя младшая сестра Люся и тетя Соня – постоянные пассажиры. Иногда подсаживались на подводу бабушка и моя старшая сестра Инна, а мама все время шла пешком, чтобы облегчить жизнь волам. Волы везли кроме нас еще четыре чемодана и большой холщовый мешок с круглым украинским хлебом. Это было наше главное богатство. Одежды у нас почти не было. Мы уехали из Ленинграда налегке, по-летнему. У мамы было, правда, демисезонное пальто, кроме него ничего теплого у нас больше не было – ни ботинок, ни сапог. А уже приближалась осень. Связываться с отцом, оставшимся в Ленинграде, просить, чтобы он выслал нам что-нибудь к зиме, было поздно. Вот так мы и шли, и ехали, не зная толком – куда, лишь бы подальше от немцев.
Меня все это «путешествие», как я помню, забавляло. Это напоминало, говоря сегодняшним языком, турпоход: ночевки под открытым небом, кусок хлеба с салом вместо ненавистной манной каши, попутчики, ставшие друзьями. По дорогам и в поле встречались стада недоеных коров. Они жалобно мычали. Иногда их доили, чтобы попить молока. Вокруг говорили, что в Белой Церкви – небольшом городе на востоке Украины – еще работает железная дорога и ходят пассажирские поезда. И мы двинулись туда. И именно на этой дороге мне было суждено впервые встретиться с немцем.
Был день. Сияло солнце, на голубом небе – ни облачка. Привычный скрип колес, гомон. Кто-то вдруг сказал: «Эй, смотрите, самолет». Я посмотрел в небо и не сразу увидел, что над нами действительно летит самолетик. Он казался маленьким, наверное оттого, что высоко летел. И как-то по-домашнему стрекотал мотором, как швейная машина. Чей он, было не ясно, – ни звезды, ни креста было не разглядеть.
– Не бойтесь, это наш «кукурузник», наш «У-2»! – закричал один из «специалистов». – Видите, у него четыре крыла. А у немцев нет «кукурузников».
Действительно, видимо, это был наш самолет – медленно пролетев над замершей толпой, он исчез из виду. Дорога ожила и двинулась дальше. Спустя где-то полчаса в небе снова появился самолет. На этот раз он летел гораздо быстрее и ниже первого. Это был совсем другой самолет, потому что крыльев у него было не четыре, а всего два. Все снова уставились в небо, гадая: наш – не наш. И когда, как бы отвечая на этот вопрос, раздалась пулеметная очередь, стало ясно, что это все-таки не наш самолет. Все бросились бежать кто куда: кто – в придорожную канаву, кто – под повозку, кто просто падал на землю, закрыв голову руками. Я оказался в неглубокой ямке у обочины, под каким-то кустом. Я совершенно не чувствовал страха и пытался высунуть голову из-под материнской руки, крепко прижимавшей меня к земле. Я видел, как самолет опустился низко-низко. Кабина была открыта и очень хорошо была видна голова летчика в кожаном шлеме и больших очках. Нагнув ее, он разглядывал происходящее на дороге без всякого выражения на лице. Дав длинную очередь, самолет поднялся вверх и пошел на второй заход. Люди падали, кричали, разбегались в стороны. Раненые волы, взбесившиеся от боли, вставали на дыбы, падали, топча людей, в ярости сокрушая все, что было кругом. Самолет улетел, помахав нам крыльями. Солнце сияло, небо было по-прежнему голубым.
Через два дня мы наконец пришли в Белую Церковь. Вечером уходили последние поезда на восток – ждали немцев. Мы бросили подводу и сидели вместе с другими на вокзале. Мимо нас бесконечно шли поезда с какими-то станками, машинами, плохо укрытыми брезентом, – эвакуировали заводы. Часовые с винтовками всех отгоняли от платформы. Быстро темнело. Вокруг бегали люди, спрашивая друг у друга: «Составы не подавали?» Никто ничего не знал. Спустилась ночь. Пахло угольной гарью. Этот запах для меня теперь навсегда связан с войной, страхом, ночной посадкой. Наконец, несколько голосов прокричали, что надо бежать на девятый путь. Где это, какой девятый путь – никто не знал. Все бежали, бежали, бежали, и мы с ними вместе. Мать бежала, прижав одной рукой к себе Люсю, в другой держа мешок с хлебом. Инна несла чемодан и тащила меня за руку. Бабушка и тетя Соня сильно отстали. Мать не стала их ждать и все нас подгоняла: «Быстрей, быстрей, опоздаем». Пробегая мимо какой-то вокзальной постройки, в тусклом свете, пробивавшемся из окна, мы увидели бегущего рядом какого-то молодого солдата.
– Ну что, матка, тяжело? Давай помогу.
Мать сначала недоверчиво на него посмотрела, но, когда он протянул руку, она сняла с плеча мешок и отдала его. Некоторое время мы бежали вместе. Потом вдруг он припустил и стал быстро удаляться.
– Стой, стой! – закричала мать.
Он спрыгнул с платформы, нырнул под какой-то вагон, и мы остались без своего единственного богатства – хлеба. Наконец, задыхаясь, мы добежали до своего состава. Посадка еще не началась. Какой-то военный, взгромоздясь на ящик, что-то объяснял толпе. Потом двери вагона открылись, и началось…
Бились насмерть. Первых, успевших вцепиться в поручни, сорвали и сбросили обратно в толпу. Били друг друга руками, ногами, чемоданами. Любой ценой уехать. Военный несколько раз выстрелил в воздух. Это никого не остановило. И тут, помню, я закричал: меня охватил ужас. Я испугался даже не того, что происходило вокруг, я испугался маминого лица – я не узнавал его: белое, с выпученными глазами, с оскаленным ртом. Она поволокла нас вдоль вагона. Одно окно было открыто. Она схватила Инну, приподняла ее и втолкнула внутрь вагона. Потом отдала ей Люсю и меня, последними полетели в вагон чемоданы. Сама она никак не могла дотянуться до окна и, оставшись на платформе, кричала нам, чтобы мы держались вместе и что она обязательно нас найдет.
Со мной что-то произошло той ночью. Во мне родился страх, пронизавший все мое существо. Я почти перестал говорить, меня ничего не интересовало. Всю последующую осень и зиму я безучастно сидел на печке и смотрел куда-то мимо всего. И потом еще долгие годы, когда этот страх как будто уже отступил, почти каждую ночь мне снилась эта платформа и убегающая от меня мама. И даже сейчас, когда я чувствую запах угольной гари, меня охватывает тоска, и я волнуюсь, и прежний страх накатывает снова.
Через шесть часов, когда поезд остановился на каком-то полустанке, появилась мама – ей все-таки удалось сесть на этот поезд, она ехала в теплушке в конце состава. Мама сказала, что поезд идет в Саратов.
В Саратове беженцев сортировали – в город прибывали поезда со всего Союза, и после санобработки (стригли детей наголо, мыли всех в бане и выбивали вшей из одежды), людей отправляли кого куда. Ленинградцев направляли в основном в Сибирь. Но, поскольку мы прибыли с Украины, нас отправили не в Сибирь, а ближе – в Саратовскую область, на самый юг, в село Малый Узень на границе с Казахстаном, где мы и прожили полтора года.
Хозяин дома, куда нам был выдан ордер на поселение как беженцам, встретил нас без распростертых объятий. Он был одноглаз и угрюм. За все полтора года, что мы прожили у него, он ни разу с нами не поздоровался. Стоя у ворот, еще не пуская в дом, он прочитал ордер, потом уставился на нас своим единственным глазом.
– Тут написано, что вас шесть, а у тебя седьмой скоро будет, – он ткнул пальцем в тетю Соню. – У меня нет стольких мест, так что эти – пусть, а ты ищи в другом доме.
Но он не знал тетю Соню. Слегка шевельнув усами, она бросилась в бой, вымещая на одноглазом все свои несчастья: и войну, и что нет вестей от мужа, и бегство из города, и свою не ко времени беременность. Последняя фраза в этом яростном монологе была: «Ты у меня будешь дерьмо собачье есть».
Мы все-таки поселились у одноглазого в его большой избе.
Кроме хозяина, не взятого на фронт из-за увечья, в доме жила только его мать. Мне она казалась глубокой старухой, молчаливой и глуховатой. Вся наша семья жила в одной комнате. Люся, моя младшая сестра, все время плакала и просила есть. Всех это раздражало, особенно хозяина, который входил в комнату и говорил матери: «Заткни ей кадык», – потом матерился и уходил. Я тоже очень хотел есть, но молчал. Мать ходила по деревне и продавала все, что у нас было из одежды. Брали охотно. Всем нравились городские платья, блузки, кофточки. Для забытой богом деревушки это были «парижские модели». Взамен давали хлеб, картошку и молоко. Мои летние сандалии мама тоже продала, и мне ходить стало совсем не в чем. Я окончательно залез на печку и просидел там до конца зимы. Тетя Соня родила дочку. У нее, несмотря на скудное питание, было очень много молока, и она стала подкармливать им Люсю.
Спустя месяц или два мать устроилась работать в колхоз. Стояла осень, надо было убирать картошку.
Ее собирали в мешки, грузили и отправляли в город, потом – на фронт. За работу не платили, начисляли трудодни. Сказали, что потом, после уборки урожая, на трудодни выдадут картошку и зерно. Строго следили за тем, чтобы никто не воровал, и грозили тюрьмой. Но все равно воровали все, включая начальство. Мать запихивала картошку в широкие рукава своего пальто и проносила мимо бригадира. Зимой нам выдали муку, так что с едой стало полегче. Но пришла новая беда. Холод. Дикий ветер носился по голой степи, где стояло село, обжигая снегом, которому не за что было зацепиться на ровной, как сковородка, земле. И он, так и не сложившись в сугроб, улетал прочь, оставляя землю в трещинах и твердую, как камень. Дров не было. В этой степи на границе с Казахстаном дров вообще не было, потому что не было лесов. Топили кизяками. Летом смешивали солому с коровьим навозом, сушили – получались такие плоские кирпичи овальной формы – кизяки – и зимой ими топили печки. Хозяин нам кизяков не давал, и в нашей комнате стоял жуткий холод. В колхозе сказали, что тоже помочь нам ничем не могут, хоть и сочувствуют. Они предложили нам и еще одной семье беженцев взять в колхозе верблюда, сани и съездить за хворостом в ближайший лес, в пятнадцати километрах к северу от деревни.
Вид верблюда, запряженного в сани, стоявшие на земле, которая не была покрыта ни единой снежинкой, был впечатляющим. Мать опасливо взяла верблюда за веревку, привязанную хитрым способом к его голове, и они двинулись в путь. Это было утром. Женщины шли, весело переговариваясь, верблюд надменно молчал, сани жутко скрипели полозьями по голой земле. Часов в пять вечера мы стали тревожиться – они обещали вернуться засветло, а уже стемнело, их же все еще не было. Спустя еще два часа бабушка и тетя Соня побежали в правление. В правлении сказали, что ночью никого искать не будут – и нужно ждать утра. Когда уже рассвело, появилась мама. Она опиралась на палку, ее шатало, лицо и руки были в ссадинах. Ни верблюда, ни второй женщины с нею не было. Она рассказала, что на обратном пути, когда, уже набрав хворост, они выезжали из леса, на них напали волки. Верблюд, выломав оглобли, убежал, волки побежали за ним, а мама и женщина просидели всю ночь у саней, сжигая хворост. Только к утру решили двинуться домой. Волки их не тронули, но что стало с верблюдом, они не знают. Женщину она оставила недалеко от деревни – у той больше не было сил идти.
Побежали за женщиной, а мать пошла в правление колхоза. Там ей сказали, что верблюд является государственной собственностью, и она, несмотря ни на что, должна его вернуть государству.
– А если его волки съели? – спросила мать.
– Тогда вы должны предоставить доказательства, что его действительно съели волки, а не вы сами, или же не продали его на сторону.
Совершенно растерянная мать вышла на улицу и увидела верблюда, шедшего ей навстречу с обрывком знакомой веревки на шее.
Вы, конечно, можете мне не поверить, но мать рассказывала, что когда она радостно бросилась к верблюду, тот плюнул в ее сторону.
Я не помню никаких особых событий в ту долгую, голодную зиму сорок первого – сорок второго года, только длинные часы ожидания от одной кормежки до другой. Мы ели картошку «в мундире», лепешки, иногда, по случаю, молоко. Известий от отца не было. Он остался в блокадном Ленинграде, и жив он или нет, мы не знали. Мы вообще не знали, что происходит за пределами нашей деревни – газет и радио не было. Время как будто остановилось. Единственными носителями новостей были водители полуторок – так в народе называли небольшие грузовые автомобили, способные возить полторы тонны груза. Они приезжали в колхоз, забирали картошку, зерно, туши баранов и коз и увозили в город. Бензина не было, вместо него использовался уголь. С обеих сторон кабины приделывались цилиндрической формы две печки, и в них каким-то неведомым мне до сих пор способом вырабатывался газ, который подавался в двигатель. Печки эти назывались газогенераторами. Водителями полуторок были в подавляющем большинстве женщины – огрубевшие, с папиросой во рту и матом на языке. Они рассказывали, что происходит на фронте, – утешительного в этих рассказах было мало. Немец напирал, в Ленинграде был голод, Москва с трудом устояла, полстраны было «под немцем». В «Синем платочке» – знаменитой песне Клавдии Шульженко слова были заменены. Народ откликался на события и пел так:
- Двадцать второго июня
- Ровно в четыре часа
- Киев бомбили, нам объявили,
- Что началася война.
- Платок родной, год уже сорок второй.
- Чахнем и сохнем,
- Скоро подохнем,
- Милый платочек ты мой.
Вообще многие песни были переделаны из официальных сентиментально-патриотических в песни, отражающие грубую реальность. Например, за душу берущая популярная песенка «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца», и т. д.) пелась так:
- На позицию – девушка, а с позиции – мать.
- На позицию – честная, а с позиции – блядь, и т. д.
Я пишу обо всем этом, чтобы сказать, что за все время войны я не видел ни одного человека, который не думал бы прежде всего о себе, о своих близких и только в самую последнюю очередь – о стране, партии, героизме и прочем. Наверное, кто-то видел другое – жертвенность, сострадание и всякое такое. Пусть они сами расскажут, что видели. А я рассказываю, что видел я.
Довольно часто водители полуторок ночевали в нашем доме. Хозяин ставил на стол бутылку самогона и вареную картошку, а дамы доставали из вещмешка хлеб, сало, тушенку, пачку папирос. Пили много. Обычно одной бутылкой дело не ограничивалось. Шли разговоры, потом начинали петь, и, как правило, – песни с переделанными словами.
Мама писала отцу каждую неделю и с полуторками отправляла письма в город. Это продолжалось всю зиму. И мама стала свыкаться с мыслью, что он погиб. В апреле сорок второго года от него пришло первое письмо. Из него следовало, что он жив, что в городе голод, что он переведен на казарменное положение, то есть живет на заводе, который выпускает важную продукцию. Письмо дошло каким-то чудом. Мама писала и в Ленинград, и в Москву с просьбой разыскать отца и дать ему наш адрес, совершенно не надеясь на успех (могу сейчас только представить, как переживал отец). Видимо, в этой ситуации сыграла роль его работа. Он трудился на военном заводе, и этот завод не был эвакуирован. Отец был директором небольшого кожевенного производства, изготовлявшего упряжь для артиллерии: в начале войны все пушки были на конной тяге. Попросту говоря, здоровых лошадей запрягали – надевали уздечки и т. д. – и они тянули пушки куда надо. Для отца это была большая удача. Во-первых, продовольственные карточки были с литерой «А», на них выдавалось больше продуктов, во-вторых, кожа, из которой делалась упряжь, была плохо выделана – на ней оставались кусочки жира, мясные пленки. И работники приноровились эту кожу вываривать в большом котле. Если положить много кожи, а воды мало, – получится мясной бульон. Конечно, это был самообман, но пахло-то мясом. Про то, что выпускают на папином заводе, в письме, конечно, ничего не было, об этом я узнал позже. Все это составляло военную тайну. Об этом нельзя было писать, равно как и о том, что в городе голод, бомбежки, что умирают люди… Мать радовалась письму как ребенок. И стало видно, как она устала и каких сил ей стоило бороться за наши и свою жизни. Теперь мы знали новый адрес отца – на Средней Рогатке (теперь здесь район Купчино), недалеко от Пулковских высот, где уже были немцы.
Наступило лето сорок второго года. Я наконец слез с печки и вышел на улицу. Лето было жарким и пыльным. Вокруг – ни деревца, ни кустика, но зато за селом степь благоухала травами и цветами. Я как будто проснулся. Страх, который сидел во мне всю зиму, не то чтобы исчез, а спрятался, ушел куда-то в глубину моей души и притаился, возникая только в ночных снах.
Появилась компания местных мальчишек, с которыми я дружил и от которых научился фигурно материться. От них же я узнал, что я жид. До этого я не знал не только, что я жид, но я не знал даже, что я еврей. Ни отец, ни мать никогда на эту тему, во всяком случае при мне, не говорили.
– Ты жид? – спросил меня местный мальчишка лет восьми.
Мне очень хотелось подружиться с ним. И я уже почти кивнул головой, соглашаясь, чтобы ему понравиться, но не решился соврать и, попросив его подождать, побежал к матери.
– Мама, я жид? – с порога спросил я.
Мама резко подняла голову и пристально посмотрела на меня.
– Кто тебе сказал это слово?
– Ну, мальчик! Так я жид? – торопил я.
– Толик, сядь, я тебе все расскажу. Ты ведь знаешь, сейчас идет война. Русские воюют с немцами. Значит, на свете есть русские, и есть немцы. Русские говорят на русском языке, а немцы – на немецком. Люди бывают разных национальностей, они говорят на разных языках. Помнишь, к нам дядя Султан приезжал, привозил кизяки? Он казах. Такая национальность. А мы – ты, Люся, Инна, я и папа, мы – евреи. А когда нас хотят обидеть, то дразнят: «Эй, жид!» Это все равно, что еврей, но обидней. Понял?
– А мы разве на еврейском языке разговариваем? – все еще не веря матери, спросил я.
– На русском. Но это потому, что мы живем в Советском Союзе, и если будем говорить на еврейском, нас никто не поймет.
– А почему дядя Султан говорит на казахском, – разоблачал я неправду матери.
– Ну, говорит. Он и так и сяк говорит, но он казах, ты же видишь, у него глаза косые, – начала раздражаться мать. – Их тоже дразнят – чурками называют. Иди, Толик, не мешай. Не обращай на них внимания.
Я еще немного постоял подумав и сказал: «А я все равно русский» – и вышел на улицу.
– Я не жид. – сказал я мальчику, ожидавшему меня у забора.
– Врешь, жид.
– Не жид.
– Если не жид, сними штаны.
– Зачем это? – растерялся я.
– А затем, что всем жидам, когда они родятся, х… отрезают, мне батя сказал. – Он с победной улыбкой хитро на меня посмотрел.
Я почувствовал себя необыкновенно счастливым. Я абсолютно точно знал, что х… – так теперь следовало называть то, чем я писаю, – у меня есть.
– А вот и есть у меня х…! – радостно заорал я на всю улицу. – На, на, смотри! – И я, сдернув с плеч лямки коротких штанов, уронил их в пыль и, схватив в пригоршню все, что отросло у меня внизу живота за шесть лет жизни, изогнулся дугой, чтобы ему легче было рассмотреть. Я яростно тряс всем этим, громко выкрикивая: «Я не жид! Я не жид! Я не жид!»
В общем, я был принят в их компанию и делал все, что и они. Пас с ними овец и коз, носил воду из колодца, таскал с колхозных огородов молодую свеклу и репу и вообще набирался у ребят уму-разуму. Так, например, я узнал, что ветры, испускаемые нашим организмом, оказывается, горят наподобие газов из земли. Случай проверить это нашелся тут же. Старуха-мать нашего хозяина при ходьбе издавала звуки безостановочно и просто искушала провести с ней эксперимент. Ходила она медленно, не глядя по сторонам, в длинной юбке и платке. И вот с горящей лучиной я стал ее караулить. И однажды мне удалось, тихонько вынырнув из дверей и ступая за ней след в след, поднести лучину к самому ее заду. Но ничего не случилось – лучина не стала гореть ярче. Нет, то, что бабкин аппарат работает, сомнений не было – было слышно, но ведь хотелось и визуального результата. Тогда я подумал, что, может быть, длинная юбка мешает ветру выйти на волю, и изменил тактику. Встав на колени, я осторожно ухватил снизу подол юбки и, оттянув его на себя, засунул лучину внутрь. К сожалению, мне не удалось довести опыт до конца. Старуха повернулась, подпрыгнула и стала красочно материться, хлопая себя по ляжкам и по заду, пытаясь погасить загоревшуюся юбку. С воплем она погналась за мной, и мы ворвались на кухню, где мать возилась возле печки с ухватом в руках. Не раздумывая, мать треснула меня ухватом по спине и, схватив за ухо, выбросила на улицу.
Уже ближе к осени отец написал, что нам надо перебираться в Сибирь, в Ялуторовск, где было много ленинградцев и где жизнь была полегче, и что он получил для нас разрешение. Кроме того, ему как руководящему работнику разрешили отправить нам посылку с теплыми вещами. Кончался сорок второй год, приближалась зима, и мы стали готовиться к отъезду.
Мы – это я, мама и сестры. Бабушка и тетя Соня с дочкой оставались – на них не было разрешения.
Мать очень страдала, но сделать ничего не могла. У нее был долг перед своими детьми и своя судьба. С ними ничего не случилось, и они потом благополучно вернулись в Глухов.
В декабре, как только стало возможно, мы уехали. Ехали мы на полуторке, под завязку груженной бараньими тушами, твердыми от мороза, как камень. Платой за проезд были мамины сапоги на меху, присланные отцом из Ленинграда.
Мать сшила из старья мешок, набила его соломой и положила поверх баранов. Мы сели на него и, прижавшись друг к дружке, накрылись брезентом. Ехали почти всю ночь, иногда вязли в снегу, и мать с Инной вылезали, чтобы помочь вытащить машину из ямы. Шоферша брала нас по очереди в кабину погреться, хотя там тоже было холодно. Впрочем, нам путешествие не доставило особых хлопот – нормальная по тем временам поездка. Главное, что доехали.
Ялуторовска я не помню. Проскочил мимо, не удержался в памяти. Только один день оставил свой след.
Осенью, когда зима уже прихватывала ночным холодом воду в Тоболе, мы с ребятами прыгали по плывущим по реке бревнам, еще не сложенным в плоты. И я, не удержавшись на скользком бревне, упал в ледяную воду и стал тонуть. Меня вытащил мужик, прибежавший на крик ребят, зацепив багром за рубаху. Он завернул меня в ватник, добежал до ближайшего дома, где меня раздели, растерли полотенцем и заставили глотнуть самогона. Это был мой первый банкет.
ВЕСНА СОРОК ЧЕТВЕРТОГО
Наконец, наконец, мы дома в Ленинграде.
Я с трудом узнаю свой дом, улицу, квартиру. Лишь запах парадной, всегда затопленного подвала, сырой, не выветрившийся запах дров и еще чего-то, запах, который я с удовольствием вдохнул, узнавая и радуясь, – лишь его я не забыл за эти три года разлуки. Мне было уже почти восемь лет. Я был взрослым и самостоятельным человеком. Я обследовал ближайшие улицы и переулки, надолго отлучаясь из дома.
Наша улица была перегорожена баррикадой – две параллельные стенки от одной стороны улицы до другой, сваренные из толстой стали. Внутри – булыжники из мостовой. Мешки с песком у мостов на Фонтанке. Разрушенный бомбой Египетский мост.
Отца я, конечно, почти не помнил. Он показался мне каким-то маленьким, худеньким и очень старым. В сорок четвертом ему было тридцать девять лет. У него не было ни одного зуба – все выпали из-за цинги. Разговаривая, он все время, стесняясь, прикрывал свой старушечий рот рукой. У него была дистрофия второй степени, но он был жив, и весь как будто светился от того, что мы тоже все живы и наконец вместе. Папа был единственный, кто остался живым в нашей квартире. Все остальные умерли в страшную зиму сорок первого – сорок второго года.
Мама сразу кинулась убирать, разгребать, мыть и стирать. Квартира практически три года была нежилой. Я тоже обследовал коридор, кухню, знаменитую конуру от ванной, где и нашел свой довоенный самокат. Это была величайшая находка! Их уже не было в природе, их перестали выпускать. Мальчишки ездили на самодельных, сделанных из досок и палок, и на шарикоподшипниках. Мой же был заводской, из гнутых никелированных трубок, на колесах с резиновыми шинами. Мама, делая генеральную уборку, на кухне, за нашим кухонным столом, нашла пузырек с рыбьим жиром, который я еще до войны принимал из-за туберкулеза легких. Пузырек, видимо, упал со стола, да так ловко, что пролежал там три с лишним года, никем не найденный. Все восприняли это как счастливый знак – значит, к концу идет война, значит, все наладится и будет как прежде, до войны. Вечером мама поджарила несколько картофелин на этом рыбьем жире. Это был настоящий праздник. Все упивались запахом настоящей рыбы. Всем было совершенно наплевать, что картошка попахивала прогорклым жиром. И напрасно. Расплата наступила ночью. Мы по очереди бегали в туалет, выворачивая себя наизнанку. Вызвали скорую. Люсю отвезли в больницу. У меня от напряжения лопнули сосуды на глазах, я стал похож на кролика с красными глазами. И все равно, хотя еще шла война, жизнь радовала нас несмотря ни на что.
А было еще очень голодно и холодно. Мы прописались и получили карточки. Это был документ на покупку вещей и продовольствия. Карточки были разные. Кто, как отец, работал на военных заводах, получали карточки с буквой, или литерой «А». Неработающие получали самые маленькие карточки. Неработающие были уже никому не нужны – они ведь не приносили пользы государству. Доктрина Советского Союза: государство – все, человек – ничто – четко прослеживалась и в этом карточном распределении. Но то, что полагалось тебе получить по этой карточке, еще не значило, что ты это получишь.
Скажем, я, по-моему, имел право получить 200 граммов жира (говорили – «отовариться»), а реально давали 100, остальные или пропадали, или вместо них могли дать палочку дрожжей. А из твоей карточки вырезали маленький квадратик, где было написано: «Жир 200 гр». Такие же карточки были и на одежду, мыло, керосин, обувь и так далее. Булочные открывались в восемь утра. Часов с шести начинала собираться очередь. Мать посылала меня или Инну часам к семи. В восемь, к открытию, приходила она сама, а мы отправлялись домой. Довольно часто хлеба на всех не хватало. Там же, в булочной, можно было отоварить муку и сахар. Вместо муки, правда, могли выдать горох, а вместо сахара – конфеты или жмых от семечек. Мать долго не доверяла мне покупать что-либо самому – боялась, что у меня могут украсть карточки, или я их потеряю. Хлеб получали черный – белый был только для язвенников.
Существовал еще и черный рынок, на котором можно было купить все, но за бешеные деньги, которых у нас не было. Да и у кого они были? Все, что там продавалось, было украдено на разных складах, в том числе и военных. Кто-то умирал на фронте, а кто-то грел на этом руки. Как всегда и везде. Одежда, даже самая старая, никогда не выбрасывалась. Она или передавалась по наследству, или переделывалась, перекраивалась и снова носилась. Гимнастерку, которую отец доносил до дыр, мать распорола, вырезала из нее самые заношенные места – локти, плечи, добавила таким же образом обработанные старые довоенные отцовские штаны, от которых в дело пошли полосы ткани с внутренней стороны, и сшила мне курточку с молнией. Верх – плечи и часть груди – из штанов черного цвета, соединялся изогнутой красивой линией с зеленым низом, сшитым из гимнастерки. Присутствовали также два накладных кармана на груди. Очень красиво. Называлась эта модель почему-то «москвичка».
Обувь была в заплатках, которые часто бывали другого цвета, чем ботинки. Счастливцы носили галоши. Это было очень престижно.
Лето подходило к концу. Надвигалась зима и школа. Надо было обзаводиться дровами. Работающим на производстве выдавали ордер на дрова. Привезти, распилить, расколоть, найти место, где их можно сложить, – все это было уже делом самого человека. Наш район получал дрова на Пряжке – есть такая речка в Ленинграде, известная тем, что там находится сумасшедший дом. Я поехал с отцом получать дрова. Неширокая речка была забита бревнами, которые глубоко сидели в воде, оттого что долго плыли сюда, связанные в плоты, и сильно набухли. Это были наши дрова. Отец метался по берегу, пытаясь найти кого-нибудь, кому можно отдать ордер и получить свои три кубометра мокрой осины. Рядом бегали другие, такие же как и мы любители погреться зимой. К вечеру нам удалось увидеть наши дрова сложенными в одну кучу, получить квитанцию об оплате и найти левый грузовик, потому что на государственный грузовик была недельная очередь. Заехав во двор нашего дома, водитель, вместе с отцом пинками скатив бревна с грузовика, уехал. Мы с отцом стояли посреди двора и смотрели на эту кучу торчащих в разные стороны осклизлых стволов с ободранной во многих местах корой.
– Куда же я буду их складывать? – спросил отец. Наш двор представлял собой каменный колодец – четыре стены окаймляли узкую прямоугольную площадку-двор, сплошь по периметру обложенную такими же бревнами, как и у нас, только аккуратно сложенными и накрытыми сверху ржавыми листами железа с крыш разрушенных домов. Спустились мама и Инна, и мы, кряхтя и чертыхаясь, стали растаскивать этот бурелом к единственному месту, которое было свободно, – входу в подвал, на котором было написано «Бомбоубежище. 50 человек».
Утром пришел дворник с участковым милиционером.
– Ваши дрова?
– Наши.
– Вы соображаете, что вы сделали? Загородили вход в бомбоубежище! Если через час не уберете, будете нести ответственность по законам военного времени.
Мама побежала к знакомой по дому, и та после долгих уговоров разрешила положить наши дрова поверх своих, если отец возьмется всю зиму пилить и колоть ее дрова.
Ура! Теперь зима уже нас не пугала.
А во дворе постепенно собиралась компания. Это была отпетая шпана, дети военного времени, все старше меня, вороватые и поголовно с папиросой в зубах. Мат был позабористей, чем в Ялуторовске, а тем более в Малом Узине. Чувствовалась столица.
Играли в пристенок на деньги, конфетные фантики и в маялку.
В пристенок играли так. Первый игрок подходил к какой-нибудь стенке, брал в руку монетку, как правило, медную, чтоб потяжелее, к примеру пятак, и ребром стукал ее об стенку. Монета отлетала и ложилась ждать своей участи. Следующий игрок делал то же самое со своей монеткой. Если она падала на землю на расстоянии растопыренной ладони от первой, то есть, если я доставал кончиком мизинца до одной монеты, а большим пальцем – до второй, я выигрывал – забирал обе монеты себе. Игра давала массу возможностей для жульничества и различных толкований правил, не считая того, что руки у всех были разного размера, в зависимости от роста, то есть возраста. У нас в соседнем дворе был парень с вывихнутым большим пальцем, которого мы не брали в игру: он натягивал свой палец без костей чуть ли не от одной стенки двора до другой.
В маялку тоже играли на деньги. Брали лоскуты ткани длиной двадцать – двадцать пять и шириной три – четыре. Их нужно было штук тридцать – тридцать пять, и они сшивались через середину так, что получалась тряпичная шайба. Эта шайба называлась маялкой. Ее нужно было подкидывать ногой, ни разу не уронив на землю. Количество раз громко считалось хором. Владелец наибольшего количества «разов» становился победителем. Тут тоже не все было чисто. Здесь преимущество было за коротконогими. Амплитуда движений у них была короче, они меньше уставали и могли дольше подкидывать маялку. Я просаживал пятаки в пристенок, но отыгрывался в маялке. Года через два я заметил, что моя левая нога, которой я играл (я левша), стала заметно толще правой.
Еще играли в «пожарных». Брались презервативы и наполнялись водой так, что они растягивались до размеров ведра. Потом мы поднимались по лестнице на последний этаж перед чердаком, и при появлении внизу на первом этаже человека, презерватив бросался в лестничный пролет и с грохотом, как бомба, взрывался у ног жертвы. После чего все убегали через чердак на другую лестницу. Презервативы или воровали у отцов, у кого они были, или весной ходили к Фонтанке и ловили их там, плывущих к Финскому заливу и радующихся первому теплу. В Ленинграде во многих районах не было закрытой канализации, все стекало в каналы.
Первого сентября, как и положено, я пошел в школу.
Что я могу сказать о школе? Многое. Но, если двумя словами, – выброшенные годы. Десять лет несчастий. То, что происходило хорошего и радостного в моей жизни за эти десять лет, никак со школой не связано. В школе, благодаря учителям, я чувствовал себя тупым, вредным пакостником, лгуном и лентяем. Я был таким в глазах учителей, и таким же себя и ощущал. Знаете, что интересно? Вся математика вместе с физикой и химией, вызывавшие во мне глубокое отвращение, рождавшие презрение к самому себе, тупому идиоту, вдруг вся эта недоступная заумь стала мне необыкновенно интересной. Только это случилось, когда я учился уже в институте. Мне пришли в голову вопросы, которые никогда не приходили раньше. А как же устроен мир вокруг нас? А что же такое жизнь, человек, вселенная, первый листочек весной из мертвой ветки? И, удивительно, оказалось, что на все эти вопросы может ответить та самая физика и химия, от которой в школе я не видел никакого прока. Дело, наверное, в том, что в школе нас учили ответам на вопросы, которые мы сами не задавали. Мне кажется, самая главная задача школы – научить человека, пусть и маленького, смотреть на мир и задавать вопросы.
В институтские годы я с упоением читал книги Эйнштейна, Инфильда, Шкловского, астрофизика Мигдала, Гамова. Была когда-то серия научно-популярных книг, авторами которых были ученые с мировыми именами, она называлась «Эврика». Ничего увлекательнее я не читал. Они были очень просто написаны. Это ведь доступно только мастерам – сделать сложное – простым. К слову говоря, к актерам это тоже относится.
Так вот, я взял папину полевую сумку, очень красивую, кожаную (он подарил мне ее «по причине отсутствия у меня портфеля»), и отправился в школу.
В классе было сорок пять ребят и ни одной девочки – обучение было раздельным. Народ совершенно разнокалиберный по возрасту – многие не учились во время войны, и им было уже десять – одиннадцать лет. Были ребята, оставшиеся без родителей (отец на фронте, мать умерла, воспитывает бабушка), испытавшие жестокость, голод, страх, рано повзрослевшие и все повидавшие.
Меня били до четвертого класса, раз в неделю точно. Били, как правило, просто так. Для порядка. Чтобы знал. Закон жизни: слабый должен бояться, и об этом ему надо напоминать. Школа стала для меня кошмаром. Тот прежний вокзальный страх возвращался ко мне в ночных снах, где за мной гнались какие-то люди по длинному школьному коридору.
Утром меня будила мама. Я выбирался из-под вороха тряпья, брошенного поверх ватного одеяла для тепла. Быстро, трясясь от холода в остывшей за ночь комнате, одевался и шел на кухню мыться. В единственной на всю квартиру раковине, где и мылись, и стирали, и мыли посуду, открывал кран и, символически смочив руки обжигающе холодной водой, мчался в комнату, где, по сравнению с кухней, были тропики. Завтрак – чай с куском хлеба, и – в путь.
Еще темно. Долгая ленинградская ночь. Мало фонарей. Все время хочется спать и есть.
Первый урок – чистописание. Успехов мало: две кляксы, буквы совершенно пьяные, валятся друг на друга (точно такие же, как выходят и сейчас из-под моего пера). Я пишу в старом отцовском блокноте, в котором осталось еще с десяток чистых листов, к счастью, разлинованных по горизонтали. Звонок. Конец урока. Все срываются с мест и мчатся в коридор, где топочущая и галдящая толпа мечется в разных направлениях, сметая маленьких и заставляя вжиматься в стены даже учителей.
– Ты! Давай рубль! – передо мной стоит парень из третьего класса. Ему лет двенадцать. Я наливаюсь страхом.
– У меня нет.
– Ты, сука, давай рубль! – он хватает меня за грудки и прижимает к стене.
Мама каждое утро давала мне один рубль на маленькую круглую булочку, которая полагалась ребятам из младших классов. Парень левой свободной рукой начинает шарить у меня по карманам. Ничего не найдя, он бьет меня по уху и, матерясь, отходит. А я чувствую себя победителем. Рубль – вот он, мятый, но живой. Я держал его в кулаке. Я его перехитрил. Я не подчинился, не обомлел, а боролся. Не за рубль, нет – за самоуважение. И победил.
А жизнь во дворе радовала многоцветием. Кое-как сделав уроки, я мчался на улицу и присоединялся к дворовой компании, устроившейся на дровах прямо под окнами нашей кухни. Толковали обо всем, в том числе и о блокаде. В основном, это были страшные рассказы о людоедах. Показывали тайком на одну бабку, которая, якобы, зарезала всю свою родню и торговала на Сенном рынке студнем, сваренным из их мяса. Бабки боялись даже эти шпанистые ребята. Кто-то хвастался, что съел крысу. Я верил всему. Еще чуть ли не через день мы ходили в кинотеатр «Рекорд» на Садовой. Билетов не покупали, а прорывались вместе с толпой зрителей мимо контролера. В кино месяцами шли одни и те же старые фильмы. Новых было мало, а трофейные еще не появились. Отсмотрев фильм и нащелкав на пол семечек, что делало подавляющее большинство публики, мы возвращались во двор, усаживались на ржавое железо облюбованной поленницы и начинали хором вспоминать только что увиденную картину.
Несколько фильмов мы знали наизусть. Перебивая друг друга, мы шпарили целые диалоги из «Веселых ребят», «Волги-Волги», «Вратаря республики» и т. д.
Однажды, после похода в кино (мы неизвестно в какой раз посмотрели «Волгу-Волгу»), я, стуча ладонями по коленям очевидцев, стал приговаривать: «А вот я, а вот я… а помните?» Добившись секундного внимания, вскочил на ноги и закричал голосом Игоря Ильинского:
– Будучи музыкально образованным и лично зная Шульберта… Хороший пароход.
Это было довольно неожиданно для всех, потому что до этого меня не допускали до хоровых воспоминаний. Не было у меня нужного статуса в этой компании по причине малолетства. Все смотрели на меня и улыбались. Воодушевленный вниманием и, торопясь, чтоб не прервали, я снова закричал:
– А помните, как он ходит?
И, загнув ступни ног внутрь, покачиваясь, сложив руки за спину и выставив вперед живот, я прошелся мимо сидящей в ряд публики походкой Ильинского. Это был триумф. Все смеялись, тыкали меня по-дружески кулаками в пузо и дали закурить. Эту папироску можно считать моим первым гонораром и началом профессиональной актерской карьеры. А тогда для меня успех у дворовых мальчишек значил гораздо больше всех карьер на свете. Меня стали уважать, я стал своим. Пусть не за силу, не за рост, а за Игоря Ильинского.
Успех в роли Ильинского настолько меня окрылил, что я замахнулся уже и на «Веселых ребят», где один проигрывал за всех сцену драки музыкантов джаз-оркестра Утесова.
– Он его барабаном по голове – тррррах! – я корчил рожу и закатывал глаза, как умирающий.
– Тот падает, а этот из скрипки по тому стреляет – фьииииить! Тот – бах! И кверху жопой! А кудрявый из трубы водой! – Я надувал щеки и издавал звук водяной струи. – А тут комендантша входит! – и я показывал, как кричит комендантша.