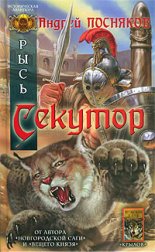Негероический герой Равикович Анатолий

– Нечего тянуть, какие там рассказы. И так все ясно – строго отвечает за председателя Узелков. – Решение принято. Единогласно.
– Не имеете права! Он должен объяснить все сам. Говори, Егоров!
Встает Егоров. Он почти плачет. Сняв шапку и опустив голову, тихо начинает рассказывать. Что отец погиб на фронте, а мать нашла хорошего мужика, который не дал ему и еще двум маленьким братьям умереть с голоду. А теперь они с матерью решили пожениться и обязательно венчаться в церкви. И отчим очень просил его при этом быть. Очень просил.
– Ну не мог я ему отказать, никак не мог… – Егоров замолкает. – А потом дома на свадьбе я водки выпил. Полстакана. За их здоровье, – уж совсем безнадежно добавляет Егоров.
И Венька поворачивает собрание в обратную сторону.
– А то, что ты, Егоров, водку пил, то, как комсомолец, конечно, виноват. Но, ребята, он ведь сам про это рассказал, не утаил ничего. Предлагаю оставить Егорова в комсомоле.
И, как и полчаса назад, все единодушно поднимают руки. Тут лампочка гаснет окончательно. И во тьме, освещаемые только слабым синим светом ночного неба, комсомольцы встают и осторожно начинают двигаться, вытянув впереди себя руки.
– Егоров, ты где?
– Я здесь, – отвечает из тьмы Егоров, и вся группа, повернувшись на голос, беспомощно движется в сторону Егорова, вытянув вперед руки и запрокинув вверх головы, как слепые.
– Егоров, Егоров…
– Я здесь, здесь я.
Занавес.
1968 год вообще выдался у меня богатым на события. Во-первых, у меня родилась дочь, которую мы с Леной назвали Марией, и по счастливому стечению обстоятельств из роддома я привез ее в первую в моей не такой уж молодой жизни отдельную квартиру в театральном кооперативе на Большой Пушкарской. До этого мы поочередно жили то у моих родителей, то у Лениных. Когда становилось совсем невмочь жить со своими, на последние деньги снимали комнату в отдаленных районах и копили на первый взнос в кооператив. У нас дома теснота была невероятная. В двух небольших комнатах в коммуналке помещались отец с матерью, две сестры, муж старшей, Володя, и мы с Леной. Одну комнату, разделенную фанерной перегородкой на две части, занимали я с женой и сестра с мужем. В каждом из закутков помещалась только кровать. Все это можно было бы терпеть, если бы не Володя, муж старшей сестры. Он был помешан на здоровом образе жизни, читал всякие книги о болезнях и, на нашу беду, вычитал где-то, что ночной сон нельзя ни в коем случае прерывать. Ходить в туалет категорически запрещается, а на случай малой нужды надо постараться в полусне, с закрытыми глазами достать с пола заранее приготовленную посуду и, повернувшись набок, опорожниться. Что он и делал ночью раза три, будя не только нас через фанерную перегородку, но и родителей с младшей сестрой, спящих в соседней комнате. Сеанс начинался с поисков трехлитровой банки из-под огурцов, заготовленной с вечера. Спросонья он не помнил, куда ее поставил, долго шарил рукой в темноте, пока не натыкался на нее, и она с грохотом падала, ударившись о ножку кровати. Все просыпались и привычно ждали продолжения номера. Наконец возникал низкий звук падающей на дно струи. По мере наполнения банки он становился все тоньше и тоньше согласно законам физики, и по его высоте можно было судить о степени наполнения. Последний звук – банку поставили на пол, и теперь можно спать дальше.
Мы выдерживали Володю неделю и перебирались к Лениным родителям. Ее отец был прикован к кровати. Он был геологом и во время одной из экспедиций заразился энцефалитом. Двигаться он почти не мог, только на костылях да и то с трудом. Но и в голове у него тоже было не все в порядке. Угрюмый, ворчливый, я бы даже сказал, злобный. Все это было следствием его болезни. А младший брат Лены, шестиклассник Игорь, веселый мальчик, мучил отца, получая, видимо, удовольствие от его бессильного гнева. Иногда отец швырял в него костылем, как копьем, но всегда промахивался, вызывая заливистый смех отпрыска.
Старший брат был пьяница и антисемит. Меня он не выносил. Мы жили у них неделю и снова возвращались к ночному журчанию. Я получал тогда сто рублей, Лена – восемьдесят пять. Мы жили только на мою зарплату, Ленина целиком откладывалась на кооператив. И вот она, наша новенькая, однокомнатная квартира на шестом, последнем этаже, по соседству с электромотором, поднимающим лифт. Мокрые стены с отклеивающимися обоями, вздувшийся паркет. После первых радостей и обильных обмываний я побежал к председателю нашего кооператива Михаилу Борисовичу Ганапольскому (он же замдиректора Театра имени Ленсовета) выяснить, почему именно моя квартира оказалась самой высокой, самой шумной и самой мокрой. Михаил Борисович, старый тертый мошенник с вечно красным от коньяка лицом и приклеенной улыбкой, встретил меня очень приветливо.
– Так жребий пал, – он развел руками, – тебе досталась квартира рядом с лифтом. Очень сочувствую. Но тут я бессилен.
– Но почему она сырая? У меня ведь маленький ребенок. И паркет гуляет волнами от воды.
Он еще шире развел руками и скорбно покачал головой:
– Да, не повезло тебе – они через твою квартиру всю зиму поднимали наверх стройматериалы для всего этажа. Через окно. А ты понимаешь – снег, дождь.
– А разве они не обязаны ее отремонтировать? – кипел я.
– Дорогой мой, дом уже принят комиссией, все подписи стоят. Кроме моей, правда, – я болел, я не знал.
Он грустно со мной попрощался, а когда я был уже в дверях, произнес загадочную фразу: «Но зато у тебя большие успехи в общественной жизни».
Я сначала ничего не понял: к чему здесь моя общественная жизнь и про какие успехи он говорил. А потом меня осенило: «Ах вот оно что! Какая же ты сволочь, Михаил Борисович». Полгода назад у нас было собрание по итогам гастролей. И я довольно резко говорил, какая плохая реклама наших гастролей и как плохо нас поселили – даже не в гостинице, а в пионерлагере, откуда час добираться до театра. Это была как раз сфера деятельности Ганапольского. Он тогда промолчал, только улыбался и покачивал головой. И вот теперь он мне за все отплатил. Молодец, Михаил Борисович, спасибо за урок.
Я никогда не думал, что могу испытывать такие сильные чувства к своему ребенку, какие испытал, когда родилась Маша. Я вообще не очень люблю детей, особенно совсем маленьких. Я знаю, что это нехорошо, но, к сожалению, это так. Когда мне говорили: «Вот подожди, родится свой, тогда полюбишь» – я не верил. Природа так устроила, что когда рождается свой собственный ребенок, включаются такие мощные инстинкты, что сам себе удивляешься. У меня две дочери, и мне они кажутся лучше всех. Так говорят все родители – нет, я объективен.
ДВА ВЕРНЫХ СПУТНИКА
А еще шестьдесят восьмой год подарил мне роль, может быть, самую для меня дорогую во всей моей жизни. Роль, которую играл я двадцать лет. И, поверите ли, играл с удовольствием каждый спектакль, находя новые краски. Вернее, они меня находили, а я плыл по течению, отдаваясь их воле. Это роль Дженнаро в пьесе Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен». Сюжет очень прост. Тридцатые годы. Италия. Маленькая бродячая труппа – полуголодная, играющая где придется. Одна актриса, моя жена, беременна. Я же – главный артист, главный режиссер и директор этой труппы из четырех человек. Кроме меня и моей жены есть еще в наличии старая актриса и ее сын, суфлер. Вот и все. Их жизнь и приключения. Очень милая, смешная и трогательная пьеса – настоящий Эдуардо де Филиппо. За те двадцать лет, что шел спектакль, я старел, и старел мой Дженнаро. У меня были тяжелые времена, были радостные события – и Дженнаро делил их вместе со мной. Пьеса позволяла это делать. Герой не был привязан к какому-то конкретному возрасту: может быть двадцать пять, а может и пятьдесят.
Роль, такую важную для себя, я получил, можно сказать, случайно. Владимиров попросил Эстрина помочь ему, попробовать себя в режиссуре и начать репетировать «Человека и джентльмена» до прихода его, Владимирова, на заключительный выпускной период. На мою роль планировался другой артист, но Эстрин настойчиво и нудно, как он умеет, уговаривал Владимирова попробовать меня. И уговорил.
Мы договорились, что играть итальянцев – значит реагировать на все в сто раз сильнее, горячее, громче, чем реагирует русский человек, что руки у итальянцев обязательно должны участвовать в разговоре. При этом не комиковать, не наигрывать, а быть предельно серьезными и наполненными. И, по-моему, это получилось. Мне так важно было сохранить эту интонацию, что когда кто-нибудь из артистов на протяжении этих двадцати лет позволял себе отдыхать на сцене, расслабляться или наигрывать, я брал на себя ответственность и устраивал скандал. И, знаете, никто не обижался. Думаю потому, что сам я уходил со сцены в конце спектакля в совершенно мокрой от пота рубашке.
В 1989 году в Италии отмечали столетие со дня рождения драматурга. Тамара Скуй, переводчица с итальянского, получила приглашение на этот международный фестиваль, посвященный Эдуардо де Филиппо и взяла меня собой вместо Виктюка, его друга, отказавшегося ехать, потому что Италия ему надоела: он там часто ставил русские пьесы. Я никогда в Италии не был. Я вообще на тот момент мало где был за границей.
Мы прилетели в Милан и на машине поехали на север, к озеру Комодо, на виллу Висконти, где проходил фестиваль. Убийственно красиво! Кто видел фильмы Висконти, сразу узнал бы эти изумительные интерьеры. Я ходил по комнатам, залам, гулял по паркам, и у меня было полное ощущение, что во-первых, я уже здесь был, а во-вторых, что меня снимают в кино. Научная часть фестиваля, где шел разговор о творчестве де Филиппо, его месте в мировой драматургии, прошла мимо меня, не задев. Я ни слова не знал ни по-итальянски, ни по-английски, ни по какому еще. В школе я «изучал» немецкий. Из-за собственной лени я, кроме нескольких слов вроде «хенде хох» и «Гитлер капут», не запомнил ничего. И еще в голове почему-то крутилось одинокое «дас фенстер», что значит «окно». Это были все мои познания в немецком. Да и не было никакой потребности учить языки – с кем разговаривать-то? Словом, я чувствовал себя полным отщепенцем на фоне болтающих друг с другом своих коллег-артистов, съехавшихся сюда со всех концов света. Бразильцы, израильтяне, французы, канадцы, югославы, чехи – все обязательно говорили кроме родного языка на каком-нибудь еще. И только я и чешский артист из Праги сидели, как два брата-дегенерата, и пялили глаза на то, как все веселятся, разговаривают и пьют пиво. Потому что денег на пиво у нас, двух славянских братьев из социалистического лагеря, тоже не было. Я приставал к Тамаре Скуй, чтобы она мне хоть чуть-чуть помогла пообщаться, но ей это было скучно, и она занималась в основном магазинами. На второй день фестиваля председатель оргкомитета обратился к присутствующим с предложением:
– Синьоры, а не хотите ли сыграть нам что-нибудь из пьес Эдуардо де Филиппо, которые вы играете у себя на родине? Экспромтом. Это было бы замечательным знаком признания всемирного значения его творчества.
Все очень шумно поддержали эту идею. Действительно, это было бы очень хорошо. Но как быть мне? У них от каждой страны было по трое, четверо и даже восемь членов делегации, в основном актеры. А я-то был один. Как я один, без партнеров, смогу сыграть сцену из спектакля? И как назло в нем не было ни одного монолога. Положение выглядело безвыходным. Но сыграть очень хотелось. Здесь, на родине драматурга, среди итальянцев. Хотелось посмотреть, как они воспримут свою жизнь, увиденную чужими глазами. Так же, как мы воспринимаем нашу жизнь, показанную в американских фильмах, вроде «Войны и мира», то есть с ироничной улыбкой? Или все-таки мы верно что-то зацепили, что-то действительно угадали в их национальном характере? И я нашел выход. Я решил сыграть сцену репетиции – когда они готовятся к своему вечернему выступлению. В сцене участвует вся труппа, то есть, четыре человека. Дженнаро как режиссер рассказывает и показывает, кто что должен делать, и сам играет главного героя. Я посадил Тамару в кресло посреди сцены и, обращаясь к несуществующим партнерам, как бы общаясь с ними, все время апеллировал к ней. Как будто она тот, кому я должен объяснить свой замысел и получить одобрение. То есть я как бы все время спрашивал ее: «Ничего, если я вот так скажу в этом месте, да? А если он мне вот так вот ответит?»
Это была наглая затея, но я рассчитывал, что в таких условиях ко мне отнесутся снисходительно. Вечером я искромсал сцену, подгоняя ее под свое решение, а утром начался концерт художественной самодеятельности. Говорю как на духу: это был Кислодрищенский театр, начиная с Израиля и кончая артисткой из Хорватии. Медленно, невыразительно, монотонно, два еврея и один араб сыграли отрывок из пьесы «Неаполь – город миллионеров», потом так же невнятно и скучно играли все остальные. Последней передо мной была артистка с монологом из «Филумены Мартурано». Мне она сразу напомнила девушку с моих вступительных экзаменов со своей Катюшей Масловой. Ее очень хорошо приняли, а какой-то мужик что-то выкрикнул, когда ей аплодировали.
– Что он сказал? – спросил я Тамару.
– Что итальянцы солидарны с народом Хорватии, борющимся с Сербией за независимость.
А! Вот в чем дело – политика! А я уж было испугался, что итальянцам понравилось, как она играла. Объявили меня.
– Русский артист из Ленинграда, – читал по бумажке ведущий, – покажет сцену из спектакля «Человек и джентльмен». Спектакль был в репертуаре театра, – он оторвал глаза от бумажки и зазвенел голосом, каким в цирке объявляют, к примеру, дрессированных бегемотов, – был в репертуаре театра ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!
Послышался удивленный ропот, и все взоры с любопытством обратились на меня, выходящего на сцену вместе с Тамарой.
«Не стесняться, не робеть, играть нахально, ошеломить натиском», – повторял и повторял я про себя, понимая, что только веселым азартом я могу оправдать, по сути, эстрадный номер, что я придумал. Начал я сцену с того, что выхватил из-под задницы Тамары, расползшейся в кресле, толстую книгу, заготовленную заранее, и, с гиком подняв ее высоко вверх двумя руками, с силой шмякнул ее об пол. Затем, как сумасшедший, стал орать на Тамару. Это я играл ту сцену, где режиссер возмущается, что пьесы стали писать плохие и их невозможно ставить. Тамара, которая по моему сценарию должна была мне возражать, так испугалась, что сидела, вытаращив на меня свои круглые, коровьи глаза и закрыв лицо рукой.
– Говори же, говори что-нибудь, дура, – не в силах сдержаться, продолжал я орать на нее. Я обращался в разные стороны – играл с воображаемыми партнерами, вовлекал Тамару в действие и, не снижая накала, довел сцену до конца. Мне аплодировали почти как хорватке, а может быть, даже больше. Тамара с моей помощью выскребла свою тушу из кресла и тоже кокетливо кланялась вместе со мной.
– Толя, – спросила она меня обиженно за ужином, – а почему вы назвали меня дурой?
– Я не вас, а ваш персонаж назвал дурой. А потом ведь все равно по-русски никто не понимает.
– Ошибаетесь, там было несколько славистов, и мне теперь будет неловко смотреть им в глаза. Что они обо мне подумают?
Торжественное закрытие фестиваля итальянское телевидение транслировало на всю страну. Я и хорватка были приглашены сыграть свои сцены на этом мероприятии. Это было приятно, тем более что после нашего с Тамарой выступления очень много приезжих артистов и итальянцев жали мне руку, хлопали по плечу и всячески выражали одобрение. В очень большом зале, уже не на самой вилле Висконти, а где-то в городе, за столиками сидели участники действа, стояли телекамеры и осветительные приборы. Я сидел за столиком вместе с Тамарой Скуй, ждал своей очереди и был относительно спокоен. Хуже ли, лучше мы сыграем, сейчас уже не важно, главное, что публике мы понравились. Подбежал помощник режиссера с наушниками и пальцами показал – следующие мы. Действительно, прожектор ярко осветил наш стол, и мы увидели на экране монитора себя. Ведущий начал что-то говорить. Я улавливал лишь отдельные знакомые слова: Советский Союз, Ленинград, Равикович, Эдуардо де Филиппо. Вдруг зал оживился и загудел. Тамара схватила меня за руку:
– Он говорит, что у них в архивах чудом сохранилась запись спектакля «Человек и джентльмен» с самим Эдуардо в главной роли. И перед нашим выступлением они покажут именно эту сцену, сцену репетиции.
Она смотрела на меня, как на приговоренного. Ну, что тут сказать? Если бы можно было встать и уйти, я бы встал и по шпалам пошел бы до Питера. Но встать и уйти было невозможно. На мониторе и на большом экране для публики пошли титры и наконец появилось лицо Эдуардо де Филиппо. Он там был приблизительно моего возраста с очень худым лицом, впалыми щеками, огромными печальными глазами. Рядом с ним располагались другие персонажи – беременная жена, старуха, суфлер. Эдуардо заговорил… Но что это? Почему так медленно, так тихо, почти бесстрастно? «Ага, – думал я, – это он так начинает, чтобы было куда разгоняться. Да, умно». Смотрим дальше. Но дальше все было так же. Никаким разгоном и не пахло. Я не мог поверить своим глазам и ушам. А где же знаменитый итальянский темперамент? У нас так играют Чехова. Я ничего не понимал. Это был какой-то реалистический, бытовой театр, жвачка, занудство. Сцена кончилась. Разочарованию моему не было предела. Как актер Эду-ардо оказался недостоин себя – действительно великого драматурга. Я ворвался на площадку и вылил на публику, на камеры, на всю Италию, сидящую у телевизоров, весь свой адреналин. Поверьте мне – это был успех. Успевший промокнуть за эти пятнадцать минут, я принимал поздравления, жал чьи-то руки, раздавал автографы. Вдруг Тамара дернула меня за рукав: «Толя, познакомься, это сеньор такой-то (не помню фамилии), из труппы театра «Пикколо».
Передо мной стоял пожилой человек с мокрыми глазами и улыбался.
– Браво! Браво! – сказал он и обнял меня.
– Он играл суфлера в спектакле у Эдуардо, – продолжала переводить Тамара. – Он говорит, что вы лучше.
Старик подмигнул мне, ущипнул за щеку, показал большой палец и удалился. Я был как пьяный, а потом напился и по-настоящему. Аривидерчи, Италия!
В шестьдесят девятом году я сыграл вторую свою долгоиграющую роль, роль длиною в девятнадцать лет – Карлсона, который живет на крыше. Идея поставить спектакль по книге Астрид Линдгрен принадлежала Норе Абрамовне Райхштейн – очередному режиссеру нашего театра. Владимиров был равнодушен к этой ее идее, но хитрая Нора давила на него через Алису, соблазняя ее ролью Малыша, сыграть которую для Алисы, специалистки по мальчикам, травести, не составило бы никакого труда, а добавило бы массу удовольствия.
– Потому что, – уговаривала Нора, – Малыш – это же Маленький принц, которого вы так хотите сыграть. Я знаю, здесь вы сможете это сделать. Представляю себе, как это будет божественно, Алиса, соглашайтесь. Публика ждет.
В общем, она Алису уговорила, уболтала, а дальше все было делом техники: Алиса объявила Владимирову, что она хочет сыграть Малыша в Нориной постановке, а Владимиров велел начинать репетиции. На вопрос, с кем она хочет играть, Алиса указала на меня. Так я получил роль Карлсона. Это был тот редкий случай, когда я сделал роль на первой же репетиции. Все еще, как говорится, играли по слогам, а я уже выкидывал коленца, уже вовсю играл, уже был Карлсоном. Так тоже бывает – как будто в прошлой жизни я уже был Карлсоном. Алиса же, верная своему методу, медленно и основательно двигалась к результату. А Нора ей все время сладко ныла про Маленького принца – такого нежного, такого поэтически чистого, наивного, и Алиса все это старалась играть. Патоки было столько, что хотелось съесть кусочек… соленого огурца. Это было скучно и нудно. Таких мальчишек в школах всего мира бьют. И правильно делают. Владимиров пришел, когда начались уже генеральные репетиции. Посмотрел, потом созвал всех и говорит:
– В спектакле нет Малыша. Алиса, я не понимаю, кого вы играете? Вы мне можете объяснить? У меня было такое ощущение, что вы вот-вот заснете на сцене. Он у вас что, балуется наркотиками?
Алиса вспыхнула и, сдерживая себя, сказала:
– Я играю Маленького принца. Мы так решили с Норой Абрамовной.
– А, понятно, вам просто нравится подавать реплики Равиковичу. Прекрасно. Продолжайте играть Маленького принца, а Равикович будет играть и за себя, и за вас.
– А что предлагаете играть вы?
– Я? Я предлагаю играть обыкновенного, живого, веселого, а иногда и озорного мальчика, который и в футбол с ребятами играет, и подраться может. Просто у него нет друга, нет собаки, и родители часто в командировке. Ему скучно, и он придумывает себе Карлсона. Вот и все. Просто Карлсон может позволить себе сделать то, что Малыш только мечтает сделать: разобрать пылесос, съесть банку варенья и тому подобное, вы меня понимаете? – он повернулся к Норе.
Та сидела с лицом, как будто объявили, что умер Сталин.
– Да, – выдавила она.
– Ладно. Завтра в одиннадцать, – сказал Владимиров, и мы разошлись.
В результате Алиса играла превосходно. И было в этом мальчике все. И поэзия, и все, что хотела Нора, но это было упаковано в очаровательном сорванце в коротких штанишках.
Летом на гастролях в Уфе дядя Ваня отмочил со своими шахматами новую штуку.
Мы жили с ним на частной квартире, это было намного удобней, чем жить в гостинице. Дядя Ваня был очень хозяйственным мужиком. Умел и любил готовить, ходить по магазинам, на рынок, со вкусом торговался. И мы шикарно питались на свои рубль пятьдесят суточных, оставляя всю зарплату нетронутой.
Естественно, он занимался хозяйством в свободное от основного занятия, то есть шахмат, время. В шахматы он играл в скверике, недалеко от нашей квартиры. Он организовал там с местными пенсионерами небольшой турнир.
Как-то раз возвращаюсь домой, звоню, мне открывает дверь мой старший товарищ и, ни слова не говоря, поворачивается и скрывается в своей комнате. Ничего не понимая, иду следом и вижу в коридоре на протянутой веревке висят его мокрые штаны с подтяжками, рубашка, легкая летняя куртка и широкие дядиванины трусы.
– Чего случилось? – спрашиваю я у него, вытряхивающего из своего чемодана белье.
– Ничего, – злобно отвечает дядя Ваня, разглядывая запасные трусы.
– А чего ты голый?
Дядя Ваня сопит и через длинную паузу все-таки рассказывает, как получилось, что он голый, а на веревке висят его мокрые вещи.
Он играл в скверике со своим главным соперником за первенство в турнире, и партия поначалу складывалась не в его пользу. Но постепенно он все-таки перехватил инициативу и готовил, по его словам, очень эффектную комбинацию по выигрышу проходной пешки у соперника. Тут он почувствовал первые признаки надвигающегося цейтнота – захотелось в сортир. Но ситуация на доске не позволяла ему ради какой-то нужды упустить такую важную победу. «Потерплю», – решил дядя Ваня и остался сидеть, несмотря на все более тревожные симптомы. Выиграв наконец партию и собрав всю волю в кулак, чтобы дотерпеть, он помчался домой. Ворвавшись в туалет уже без сил, на последнем издыхании, уже не в состоянии расстегнуть и снять свою льняную куртку, он оттянул штаны, держащиеся на подтяжках вниз, и, оголив зад, буквально рухнул на унитаз. И все бы обошлось, если бы в самый последний момент он не убрал рук, оттягивающих брюки. Но он их убрал, и подтяжки, рванув вверх, снова натянули штаны в исходное положение. И тут дядя Ваня сдался. Больше он не мог сдерживаться. Покорный судьбе, сидел он и проклинал свою неудавшуюся жизнь. Такова была цена его победной шахматной партии.
Ударным спектаклем по случаю очередной годовщины Великого Октября в семидесятом году было «Хождение по мукам». Инсценировка. Как всегда, когда театр, инсценируя большое литературное произведение, хочет втиснуть в три часа сценического времени как можно больше всего, не выбирая какую-то одну-две сюжетные линии, а из жадности или неумения хочет сохранить все, получается поверхностно и как-то клочковато. Но чтобы вычленить главное, а остальное отсечь, нужна ясная концепция, точная формула «мы будем играть про это». Так было в «Обыкновенной истории» Виктора Розова, так было в «Мастере и Маргарите» у Любимова и так не было у нас в «Хождении по мукам». Длинный, скучный спектакль, скороговоркой иллюстрирующий роман, хотя играли его хорошие артисты. Сестер играли Фрейндлих и Малеванная, Рожина – Ледогоров, Бессонова – Эстрин, кого играл Петренко – не помню. Бесчисленное количество сцен, сменяющих друг друга – успеть, успеть, успеть, – от этого они получались куцые, торопливые, невнятные. Скука смертная. Добавьте к этому мрачный свет, символизирующий тяжелые годы Гражданской войны, и вам станет понятно, почему публика не баловала нас своим присутствием на этом спектакле.
Зато накладок в нем было много. И это как-то оживляло скучную монотонность самого действия. Мы радовались накладкам – как-никак, а все-таки развлечение. Радовались не только мы, радовались и зрители, если они, эти накладки становились очевидными. Одно из самых веселых и незапланированных происшествий случилось в сцене под названием «Канкан» с нашей молодой и симпатичной артисткой Ирой Балай. В семидесятом году впервые появилось такое чудо техники, как радиомикрофоны, и Владимиров, не чуждый техническому прогрессу, использовал их, засунув под корсаж четырех сильно оголенных девиц, развлекавших посетителей какого-то притона неприличными куплетами и канканом. Они, например, пели: «Ах, поручик, просто душка. У него была огромнейшая… пушка». Или «Матчиш я танцевала с одним нахалом в отдельном кабинете под одеялом». В конце номера, взявшись за руки, как маленькие лебеди в «Лебедином озере», и не смотря по сторонам, они утанцовывали за кулисы, до последней секунды в ритме задирая ноги. Это было очень сложно: нужно было встать в точно определенное место, чтобы не промахнуться, а попасть точно в дыру между порталами сцены и кулисой. Однажды Ира Балай, стоящая последней в этой четверке, чуть качнулась и со всей силы ударилась о деревянный портал. Она упала, разодрав коленки, и на четвереньках уползла за кулисы. Уже не видимая публике, заплакав от боли и обиды, она разразилась большим монологом о своей горькой судьбе, о зарплате, об этом сраном театре и придурке режиссере и так далее. Невыключенный микрофон давал возможность слушать эти откровения в зрительном зале, в гримерках и в кабинете главного режиссера. В результате, она была лишена квартальной премии, а микрофоны убрали от греха подальше.
Или вот история про Сашу Эстрина и Гришу Турчина. Эстрин играл поэта Бессонова. В романе этот персонаж, про которого нам в школе говорили, что прототипом ему послужил Александр Блок, занимает довольно значительное место. В спектакле роль была урезана до одного монолога, и герой погибал в конце от руки дезертира. Нужно заметить, что подавляющее число накладок и ляпсусов происходит в типичнейшей для театра ситуации срочного ввода. Так было и здесь. Заболел «дезертир». Грише позвонили утром и сообщили, что вечером ему играть придется дезертира, надо прийти пораньше и подобрать костюм. Гриша Турчин – большой, массивный человек, очень обстоятельный, неторопливый отнесся к этому поручению серьезно и обстоятельно. Тем более что в труппе он был недавно и играл еще совсем мало. Сразу же направившись в театр, он перекопал все сундуки с костюмами в поисках нужного ему размера. Он нашел огромный тулуп, пролежавший в сундуке лет пятьдесят, вонючий и изъеденный молью. Так, по мнению Гриши, одевались дезертиры. На ноги он не мог подобрать ничего – не было его размера ни сапог, ни ботинок, и он решил остаться босым. Выбрав костюм, он пошел гримироваться. Поразмыслив, как должен выглядеть дезертир, долгое время скрывающийся от людских глаз, Гриша приклеил свалявшуюся бороду и усы, запачкал лицо темными пятнами «грязи», нарисовал кровавые, незажившие шрамы, а часть зубов замазал черной краской, чтобы рот выглядел беззубым. Босой и страшный, он стоял в полутьме кулис и ждал, когда Эстрин закончит свой монолог.
– Пошел, – сказал помреж Грише, и тот, расставив руки в стороны, пошел к Эстрину, стоявшему на авансцене. Эстрин, которого никто не предупредил, что будет другой дезертир, стоял лицом к залу и увидел надвигающегося на него огромного, лохматого и вонючего монстра только в самый последний момент.
Успев только слабо вскрикнуть от неожиданности, он почувствовал, что его схватили за горло и стали душить.
– Что вы делаете? Мне больно, – пытался выдавить из себя Эстрин, борясь с могучими руками Гриши Турчина, который от зажима все сильнее сдавливал его шею.
– Не бойтесь, Александр Матвеевич, я вас душу не по-настоящему, – шептал Гриша в ухо уже обмякшему Эстрину. – Гаврилов заболел, так я за него.
Вся эта история прошла для публики совершенно незамеченной, зато за кулисами она весело обсуждалась, обрастала новыми деталями и подробностями. Что, якобы, Эстрин спросил у Гриши: «Кто вы такой?» На что тот ответил: «А какое ваше дело? Не волнуйтесь, я вас очень хорошо придушу. Вы, главное, не напрягайтесь».
В отличие от этой истории случай, происшедший со мной, имел очень широкий отклик по обе стороны рампы.
Мы открывали «Хождением по мукам» летние гастроли в Горьком. Почему именно им? Этим идеологически безупречным спектаклем про победу революции? Он должен был расположить к нам местное начальство. И вообще, так было принято в те годы.
Я играл в спектакле Леона Черного, роль небольшую, но очень ярко написанную. Он анархист, идеолог батьки Махно, его ближайший советник, эксцентричный до крайности, неряшливый человек в пенсне. Таким я его и играл: темпераментным, брызжущим слюной и размахивающим руками. При разговоре я резко дергал головой, и пенсне постоянно соскакивало с носа. У меня была всего одна сцена в ставке Махно, куда приехал на переговоры Рощин.
Итак, открытие гастролей, спектакль начался, доходит дело до нашей сцены. Я начинаю свой визгливый монолог, ругаю большевиков, Ленина и вообще государство и бегаю при этом по авансцене по самому краю рампы. Новый зал, новый свет, полутьма, чертово пенсне, запачканное гримом от бровей, – ничего не вижу. И вдруг ощущаю какой-то холодок под ложечкой. Батюшки! Да я же лечу! Да, я действительно оступился в этой проклятой тьме и упал в оркестровую яму. Невероятно, но я остался абсолютно цел, даже не ушибся. Я приземлился на ноги, и хотя глубина ямы была около двух метров, все обошлось без травм.
«Так, а что дальше? Что будет со спектаклем, если меня нет? Что сделать, чтобы как-то оправдать исчезновение и чтобы публика ничего не заметила? – все это в какие-то доли секунды пронеслось у меня в голове. – А что, если я прямо отсюда, из ямы, продолжу свой монолог, как будто так и поставлено, такая вот метафора. Эксцентричный придурок может и так говорить и эдак, и сверху и снизу. Решено!»
Слегка подпрыгнув, я уцепился двумя руками за край сцены и, стоя на цыпочках, едва касаясь ногами пола, набрал воздуха и заорал, продолжая свой монолог. Голова моя, отдельно взятая, без туловища, произвела на артистов большое впечатление. Они ничего не смогли с собой сделать и буквально повалились от смеха. Нужно сказать, что на сцене достаточно ерунды, чтобы стало неудержимо смешно. Видимо, оттого, что нельзя. Любой заплетык в речи, любая пустяшная неожиданность кажется невероятно смешной, но стоит уйти за кулисы, как все мгновенно проходит, и кажется странным, что еще минуту назад ты умирал от смеха по такому совсем не смешному поводу. Здесь как раз повод был – и какой! Двое караульных рыдали от смеха, и слезы текли из их зажмуренных глаз. Солоницын, игравший Махно, сидя в кресле, наклонил голову, чтобы не видно было, как он хохочет, при этом губы у него растянулись, и приклеенные усы упали на пол. Он схватил их и снова приставил к губе, как лорнет, будто бы ничего не произошло. Игорь Ледогоров, игравший Рощина, оказался самым стойким. Он только тихо залился смехом, слегка пофыркивая и подергивая носом. Но и с ним случилось несчастье: во время одного из пофыркиваний из ноздри у него выскочил зеленоватый пузырь, который никак не хотел лопнуть.
Публика хоть и находилась до этого в полудреме, все-таки заметила, что на сцене происходит что-то странное и, увязав все вместе – мое внезапное исчезновение, появление опять, пусть и в урезанном виде, и наконец, совершенно не соответствующее обстоятельствам бурное веселье артистов, – все поняла. И, обрадовавшись, что все так хорошо кончилось, благодарная за трогательные попытки актеров довести до конца никому не нужный спектакль, она наградила нас бурными аплодисментами и громким радостным смехом. Тут уж и мы все, бросив прикидываться кто кем: кто Рощиным, кто Махно, а кто Леоном Черным, отвели душу, хохоча как резаные. Это были минуты великого единения и братания публики и артистов. Из гримерной выскочила встревоженная Алиса, отродясь не слыхавшая такой реакции на этом спектакле.
– Что случилось? – спросила она у помрежа Люси Жуковой.
– Равикович в яму упал, – корчась от смеха, ответила Люся, и Алиса долго стояла в раздумье, не понимая, что же тут смешного.
Г. А. ТОВСТОНОГОВ
В этом же году совершенно неожиданно я познакомился с Георгием Александровичем Товстоноговым. Замечательная художница Ира Бируля, оформлявшая «Жестокость» и «Малыша и Карлсона», обратилась ко мне с просьбой. Дело в том, что ее муж Саша учился в театральном институте на режиссерском курсе у Товстоногова. Дела у него шли не слишком хорошо. Надвигалась зимняя сессия, они должны были приготовить чеховские рассказы, и это был последний его шанс удержаться в институте. У Саши все валилось из рук, он думал только о том, что Гога (Георгий Александрович) его выгонит, и больше ни о чем думать не мог. Никакие мысли по поводу Чехова его не посещали, и он даже не мог выбрать рассказ для зачета. Ира уговорила Опоркова сделать рассказ за Сашу. Гена выбрал «Ведьму» и меня как исполнителя роли дьячка. Естественно, я согласился. Гена репетировал очень заразительно, очень интересно, на ходу придумывая разные неожиданные повороты в жизни персонажей. (Как жаль, что он рано умер, у него было все, чтобы стать украшением русского театра). Мы все успели сделать. Рассказ был отрепетирован. День экзамена назначен.
Накануне экзамена я купил себе новые носки, чтобы не мелькать на площадке старыми застиранными. Вообще-то предполагалось, что мой дьячок бегает босиком, но это было бы слишком натуралистично. Волновался я как перед премьерой и страшно за это на себя злился.
– Чего ты трясешься, – выговаривал я себе, – ты что, студент? Ты взрослый артист с хорошей репутацией, в хорошем театре. Сейчас же прекрати трястись, истеричка!
Но как только перед моими глазами возникало лицо Георгия Александровича, его хищный нос, все летело к черту, и к горлу вновь подступала тошнота. Георгия Александровича боялись все.
Экзамен был назначен на одиннадцать, я пришел в десять и увидел, что все уже в сборе и слоняются из угла в угол, бледные и растерянные. За окнами шел дождь, и он усугублял тоску. Георгий Александрович опаздывал. Периодически в аудиторию врывался Аркадий Иосифович Кацман, истерически что-то кому-то выговаривал и вновь убегал вниз дожидаться Товстоногова. Он был вторым педагогом на курсе. Щуплый, с красными, воспаленными белками глаз, раздражительный человек, боявшийся Товстоногова еще больше, чем студенты.
Вся эта взвинченная атмосфера никак не соответствовала теме предстоящего экзамена: веселые чеховские рассказы. Она, атмосфера, вообще ничему не соответствовала, разве что сборам на фронт.
В начале первого внизу, на первом этаже, послышался какой-то шум, звук голосов. Кто-то прильнул к окнам и срывающимся голосом объявил: «Пришел! Его машина стоит». Тут же в аудиторию вбежали мотавшиеся по институту студенты вместе с Кацманом, который плачущим голосом велел всем занять свои места на стульях, полукругом стоящих в центре, и снова исчез. Шум на лестнице все возрастал, и, наконец, двустворчатая дверь распахнулась, и в комнату вбежали две молодые дамы с раскрытыми блокнотами и авторучками. Видимо, летописицы, потому что потом они записывали каждое слово и каждое движение Георгия Александровича. За ними, сверкнув красными глазами, появился Кацман, все оглядел и спрятался в углу. Какое-то время в дверях не было никого, а потом в проеме появился Георгий Александрович. Я впервые видел его так близко. Конечно, природа могла бы одарить этого человека более щедро. Я имею в виду внешность. Он был невысок, узкоплеч, широкозад, с большим нехищным носом и вялым подбородком, с маленькими, невыразительными глазами. Если бы мое искреннее и глубокое почитание этого человека было чуть меньше, я бы сказал, что он похож на гусака. Даже манерой задирать голову вверх при разговоре. Но я и тогда, и сейчас считаю Георгия Александровича одним из самых значительных людей, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Я знал, что совсем недавно он вернулся из-за границы. На нем был длинный, коричневатого оттенка пиджак в крупную клетку, тонкий свитер и узкие черные брюки. Все это ему категорически не шло. Особенно пиджак. В таких клетчатых пиджаках ходили тогдашние пижоны, к тому же он был ему велик, и субтильный Георгий Александрович терялся в нем.
Едва он остановился перед нами, как все вскочили и стали поедать его немигающими взглядами. Я тоже вскочил вместе со всеми, хотя у меня был разработан другой сценарий встречи с Георгием Александровичем. Я сказал себе, что я не его студент и должен вести себя с ним не на равных, конечно, но и не как крепостной холоп, – с уважением, но и с достоинством. Приподнимусь (строил я линию поведения), поклонюсь и сяду обратно. Обязательно улыбаться – молодой коллега знакомится с мастером. Но когда наши взгляды с Георгием Александровичем встретились, в тот крайний миг, когда я еще сидел на стуле, какая-то неведомая сила подбросила меня вверх, и я вскочил, как и все, и замер. Улыбаться совершенно не хотелось. Что-то в нем было неподдающееся рациональному объяснению. Какая-то сверхчеловеческая мощь, упакованная в неприглядную внешность, и большие очки. Слегка кивнув всем головой, он направился к столу, стоящему у окна. К нему тотчас же подбежал Кацман и стал что-то шептать на ухо.
– Да, я помню, – раздраженно сказал Георгий Александрович хорошо поставленным баритоном, отодвигая ухо от Кацмана. – Да, да, чеховские рассказы, я помню. Начинайте, пожалуйста. – И он полез в карман пиджака и вынул оттуда пачку сигарет «Мальборо», которые я видел только в кино или в журнале «Америка», и какой-то большой, сверкающий золотом металлический аппарат размером с апельсин, овальной формы. Кацман метнулся к окну и поставил на стол пепельницу. Георгий Александрович достал из пачки сигарету и взял в руки «золотой апельсин». Он любовно подержал его в руках, поглаживая пальцами, и было видно, что это доставляет ему удовольствие. Я и сам вечно таскал по карманам всякие мужские игрушки: перочинные ножи, зажигалки, цепочки и даже просто болты и гайки, поэтому мог его понять. Наигравшись, он нажал пальцем какую-то точку или кнопку, не видимую мне, и подставил кончик сигареты.
«Надо же, значит, все-таки зажигалка», – подумал я.
Но то ли он плохо или не там нажал, но зажигалка не работала. Георгий Александрович повернул ее и нажал снова – никакого эффекта. Он запыхтел и, все более раздражаясь, стал бешено крутить зажигалку в разные стороны и тыкать в нее пальцем. Огня не было.
– Георгий Александрович, дайте мне, я попробую, – задушевно сказал Кацман.
Товстоногов как будто ждал, что кто-нибудь сунется к нему с помощью.
– Что вам дать? Ну что вам дать, Аркадий? Почему вы всегда лезете, куда вас не просят, – все более распаляясь, отводил он душу. – вы, что, лучше меня знаете эту зажигалку? Да будет вам известно, что я ею уже пользовался, а вы ее в первый раз видите!
В сердцах он бросил зажигалку на стол, потом снова схватил.
– Вот здесь, понимаете, вот здесь она включается, вот здесь! – И он с размаху ткнул в зажигалку пальцем. И тут же из нее с гудением вырвался столб синего пламени высотой сантиметров двадцать пять. Ге -оргий Александрович испуганно отшатнулся и бросил зажигалку. К счастью, с ним ничего не случилось.
– Надо отрегулировать высоту пламени, – примирительно сказал он. – Аркадий, у вас есть спички? – И он положил зажигалку опять в карман.
Наконец, студенты приступили к рассказам Чехова. Георгий Александрович перебивал, сердился, сопел, ему решительно ничего не нравилось. Честно говоря, мне тоже. Несчастные, зажатые от страха перед Товстоноговым, режиссеры что-то робко мямлили, сбивались и покорно выслушивали приговор.
– Я ничего не понимаю! Ничего же не происходит. – Это на языке Георгия Александровича означало: артисты лишь произносят слова, а отношения между персонажами не выстроены.
На их бледном фоне ярко выделялся Геннадий Богачев, выпускник актерского факультета, приглашенный Товстоноговым в свой театр.
Но вот Кацман объявил нас, и мы пошли играть свою «Ведьму». Делать это надо было прямо перед столом Георгия Александровича, так близко, что я видел волоски, торчащие у него из носа. Нас он почему-то не остановил и дал доиграть до конца. После молчания, длившегося мучительно долго, он произнес: «Ну и что, Саша, вы нам показали? Вы показали нам живого конкретного артиста. А где режиссура, где Антон Павлович Чехов? Ничего же не происходит».
Это было несправедливо. Все там происходило. Опорков свое дело сделал, и сделал хорошо. Просто Товстоногов не хотел больше видеть у себя на курсе Сашу Бируля, и никакие аргументы поколебать это его решение уже не могли.
Но, позвольте, спохватился я, ведь «живой конкретный артист» – это он про меня! Боже мой, нельзя представить себе, что значила для меня эта похвала.
Быть живым – это самое ценное, что есть в нашей профессии. Самое лестное признание, которое ты можешь заслужить у коллег. И кто, кто сказал! Сам Товстоногов!
Экзамен закончился, все вышли из зала и сгрудились на лестничной площадке, пока Георгий Александрович и Кацман обсуждали оценки. Вот они вышли и стали спускаться. Мы опять подтянулись и вжались в стенку, давая им пройти. Я стоял на лестнице. Поровнявшись со мной, Георгий Александрович остановился, протянул мне руку и сказал приветливо: «Благодарю за помощь». Я тоже хотел улыбнуться, но у меня не получилось. Я стоял истуканом и тряс ему руку, пока он ее не выдернул и не продолжил свой путь.
Спектакль, за который Владимирова стало наконец хвалить начальство, назывался «Человек со стороны». Типично производственная пьеса о борьбе прогрессивного, передового с отсталым и дремучим. Прогрессивного и передового играл Леонид Дьячков. В Москве в Театре на Малой Бронной одновременно с нами тоже ставили этот спектакль. Исполнителей и постановку все время сравнивали, и голоса распределялись примерно поровну. Но мне Дьячков нравился больше. Его герой был ироничен и угрюм, он боролся с ретроградами, включая секретаря партбюро завода (вот она – невиданная смелость), не веря в свою победу, но зная, что он должен пройти свой путь до конца. На всех репетициях присутствовал Игнатий Моисеевич Дворецкий, автор пьесы. Он садился в первый ряд и держал на коленях раскрытую толстую тетрадь – текст пьесы. Не отрывая головы от тетради, он сверял написанное с теми словами, что говорят актеры.
Если не совпадала хотя бы буква, он вскакивал и кричал, что заберет пьесу, снимет свою фамилию с афиши, но не позволит надругаться над великой русской литературой и конкретно над своей пьесой. Особенно от него страдал Петренко, который всегда любую роль переписывал под себя, а часто и вовсе говорил своими словами, в чем я не вижу большого греха. Если это, конечно, не Чехов, не Толстой и не Островский – там, действительно, каждое слово на своем месте, и лучше не скажешь.
Дворецкий завел досье на каждого артиста и записывал все случаи нарушения своих авторских прав. Я тоже числился в неблагонадежных. Однажды вместо написанной фразы: «Разрешите зайти к вам в кабинет», я просто сказал, приоткрыв дверь: «Разрешите?» Крикам не было конца и краю.
Я вспоминал Дворецкого два года спустя на «Дульсинее Тобосской» Александра Моисеевича Володина. Володин тоже сидел в зале на репетициях и, подавшись вперед, впитывал все, что происходило на сцене. Когда кто-нибудь забывал текст и тушевался перед автором, извиняясь, Володин вскакивал с кресла, подбегал к рампе и говорил, что черт с ним, с текстом.
– Видите, – убеждал он, – вы правильно его забыли. Абсолютно правильно! Он здесь не нужен. Вы все сыграли своими глазами, руками и ногами. Все и так понятно! Слова только портят.
– Александр Моисеевич, – спрашивал я, игравший Санчо Пансо, – а можно мне, когда Луис меня спрашивает: «А почему вы не толстый?», – сказать: «Я похудел!»
– Чудесно, чудесно, замечательно! Вообще говорите что хотите, будет интересно.
Такими вот непохожими были драматурги Игнат Моисеевич Дворецкий и Александр Моисеевич Володин.
В этот год у Алисы Фрейндлих умерла мать. Умерла при трагических обстоятельствах: Алиса утром ушла на репетицию, дома остались ее трехлетняя дочь Варя и мать, пришедшая посидеть с ребенком. Придя домой, Алиса увидела лежащую на полу мертвую мать и перепуганную дочь с опухшими от слез глазами. Она просидела возле мертвой бабушки, которая умерла от инфаркта, несколько часов. Алиса переживала смерть матери очень тяжело, винила себя, хотя в чем она была виновата? И когда начались репетиции «Преступления и наказания», она играла в Катерине Ивановне свою вину и свое горе. Я никогда не видел ее такой исступленной. Она не жалела себя, бегала по сцене босой, сбивая в кровь ноги. Казалось, она хотела причинить себе боль, страдания, наказать себя за эту смерть. Мне кажется, что это была самая трагическая нота в ее творчестве. У меня была роль ее мужа, Мармеладова. И когда мы играли нашу сцену – как Мармеладов умирает на руках уКатерины Ивановны, я видел очень-очень близко ее склоненное ко мне лицо и безумные, белые от горя глаза. И каждый спектакль эта казнь повторялась, и это не было клиникой, это был акт искусства, вдохновленный жизнью. Это был памятник Алисы своей матери.
КАРЛСОН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В 1973 году я стал заслуженным артистом РСФСР. Для меня это значило, что я все-таки выбился в люди, а не стал чистить «клозэты», как предрекал мне отец. Кроме того, на гастролях согласно приказу Министерства культуры я получал право на отдельный номер в гостинице. Наше расставание с дядей Ваней было очень теплым, но совсем не грустным. Он приготовил прощальный обед, и мы хорошо выпили, вспоминая нашу совместную жизнь и разные приключения.
– А помнишь историю с Карлсоном? – спросил дядя Ваня.
– Это какую?
– В Иркутске на гастролях.
– Да, да, действительно! Как это я забыл?
Мы привезли на гастроли наш детский спектакль «Малыш и Карлсон», который играли с большим успехом. Однажды после спектакля на служебном входе мне вручили письмо, на котором детским почерком, печатными буквами было написано: «Карлсону, который живет на крыше». Я открыл конверт.
«Дорогой Карлсон, ты мне очень нравишься. Прилетай, пожалуйста, ко мне в гости. Очень тебя прошу. Я живу на улице Карла Маркса, – дальше шел адрес, – балкон второй от угла. Миша».
Забавное, трогательное письмо. Я улыбнулся, положил его в карман, и, естественно, забыл. Прошло несколько дней. Выхожу из театра и вижу молодую, симпатичную женщину, которая направляется ко мне и, смущаясь, объясняет, что она мама того самого мальчика Миши, что приглашал меня к себе в гости.
– Знаете, он просто заболел вашим Карлсоном. Мы уже дважды ходили на спектакль, и он спит и видит, как Карлсон к нему тоже прилетает. Пожалуйста, очень вас прошу, зайдите к нам в гости, пусть ненадолго, в любое время.
Я был несколько ошарашен таким поворотом дела и говорю:
– Ну хорошо, а как вы это себе представляете? Хотя бы технически? Как я попаду на ваш балкон? И как я пойду по городу с накладным животом, в рыжем парике и с пропеллером на спине?
– Этого ничего не надо, приходите, как хотите.
– Какой же я буду Карлсон?
– Вы знаете, он ведь все понимает и про театр, и что вы артист, но это не мешает ему считать вас Карлсоном. Вы сами-то любите варенье? У нас вишневое очень вкусное, со своего участка, – стала она соблазнять меня.
Я представил себе накрытый стол со всевозможной закуской, солеными грибами, а возможно, и борщом с куском мяса и подумал, а почему бы и нет?
– Ну, хорошо, завтра у меня нет спектакля, завтра вас устроит?
Она обрадовалась, как ребенок, и мы условились, что я приду к шести, как раз в это время она приходит с работы. Размышляя, с чем прийти в гости, я решил, что водку нести неудобно, все-таки вряд ли Карлсон еще и пьющий. Ограничился коробкой конфет, в надежде, что выпивку организуют хозяева. Ровно в шесть я позвонил в нужную квартиру. Мне открыла мама и посторонилась, давая пройти. Я увидел бабушку и Мишу, держащего ее за руку. Бабушка улыбалась, а Миша нет. Он очень серьезно и внимательно меня разглядывал, а потом подошел, обнял меня, прижался щекой и сказал: «Здравствуй, Карлсон». Честно говоря, от неожиданности я был тронут почти до слез.
– Ну, здравствуй, Михаил, – я старался нащупать правильный тон. – Хотел прилететь, но у вас весь балкон завален каким-то барахлом, побоялся погнуть пропеллер.
– Проходите, пожалуйста, – сказала бабушка.
У них была хрущевка с двумя смежными комнатами. В большой был накрыт стол, на котором среди прочего стояли соленые грибы и бутылка портвейна, а на диване были разложены Мишины рисунки, которые можно было бы назвать «Картинки из жизни Карлсона». Хорошие рисунки цветными карандашами. Я рассматривал их, а Миша, сев рядом, смотрел на меня, проверяя, понравилось ли мне. Я похвалил его, сказал, что рисунки очень хорошие и что надо ему продолжать рисовать дальше. Потом мы сели за стол, пили, ели, разговаривали. Я рассказал несколько смешных историй уже не про Карлсона, а про себя, про свое детство, про свои проказы, стараясь, впрочем, вести себя педагогично. Миша оказался очень славным белобрысым мальчишкой, веселым и общительным. Он крутился возле меня, все время что-то спрашивал и без конца лез ко мне на колени. Судя по всему, его отец с ними не жил. Может быть, этим и объяснялась его горячая любовь к Карлсону и ко мне. В разговоре я часто кидал взгляд на Нину, его маму. Она, слегка раскрасневшись от рюмки портвейна, выглядела чертовски хорошенькой. Было видно, что мои взгляды, становившиеся все нахальнее, ей приятны. Вечер подходил к концу, и мне было жаль, что надо уже уходить, здесь было хорошо и уютно. Нина вышла меня проводить до трамвайной остановки. Неожиданно для самого себя я сказал: «Слушай, приходи ко мне завтра, я живу на квартире».
– Я могу только в семь утра, – сразу, не раздумывая, ответила Нина, – перед работой.
– Приходи обязательно. – я накарябал адрес на пачке «Беломора».
– Приду.
Подошел трамвай, и я уехал. Слегка выпивший, в прекрасном расположении духа отворил я дверь нашей с дядей Ваней квартиры и поведал ему, какой чудный вечер я сегодня провел. И в конце рассказа строго-настрого наказал ему, чтобы к семи часам он успел завершить все свои утренние дела, а после этого сидел у себя в комнате и не высовывался. Утром в половине седьмого я сбегал к трамвайной остановке и купил у бабки, продающей лук и укроп, букетик анютиных глазок. Нина пришла ровно в семь, а в восемь она уже стояла в дверях и торопливо со мной прощалась. Она поцеловала меня и сказала: «Оказывается, Карлсон умеет делать подарки не только детям, но и взрослым». Это было наше единственное свидание. Больше мы никогда не встречались.
НА ВОЛНЕ УСПЕХА
В этом же, 1973 году мы, совершенно неожиданно для себя, стали самым модным, исключая БДТ, Ленинградским театром. Зал ломился от публики. Билеты продавались на декаду, на 10 дней, и в дни продаж люди занимали очередь с вечера и ночевали с термосами у театра, составляли списки – ажиотаж был страшный. После спектакля артистов ждали поклонники, охотники за автографами. Нас заваливали цветами. И, пожалуй, впервые этот успех был связан не только с Фрейндлих, это был успех всего театра в целом, и, разумеется, в первую очередь, Владимирова. Я, наверное, неправ, говоря, что успех был неожиданным. Нет, он накапливался исподволь, с каждым годом, от спектакля к спектаклю, но в семьдесят третьем году той самой каплей, переполнившей чашу, стал необычайный успех «Дульсинеи Тобосской» Александра Володина. На меня она при читке не произвела никакого впечатления. Драматический прием был довольно затасканным, когда литературные герои одного писателя начинают жить в произведениях другого: бесчисленные Дон Жуаны, Фауст Гете и Томаса Манна, Розенкранц и Гильденстерн, это из того, что вспомнилось. В таких случаях писатель, взявший чужих героев, всегда полемизирует с их непосредственным «отцом», и возникает ощущение какой-то пародии. А в Володинской «Дульсинее» ко всему этому не было, по моему мнению, и сюжета. В общем, пьеса показалась мне лишенной жизни, какой-то слишком литературной, салонной, что-то вроде записи в альбоме анемичной барышни.
Но когда в нее добавили стихи, а следом – музыку, пьеса преобразилась. Появился иной масштаб чувств – самоотверженная любовь, героический порыв и улыбка, смешанная со слезами, при взгляде на этих странных чудаков, собравшихся в путь, чтобы спасти мир от несправедливости. Это стало очень похоже на книгу Сервантеса. По-моему, идея написать песни принадлежала Алисе, которая, дай ей волю, пела бы в каждом спектакле. Она же уговорила Геннадия Гладкова сочинить музыку. А стихи охотно взялся написать сам Володин и Рацер с Константиновым. И когда Алиса, стоя на авансцене в изодранной юбке, битая женихом, пела «Каждой женщине хочется быть Дульсинеей», – ответом ей было хлюпанье и сморкание всего зрительного зала. Замечательно пел Миша Боярский. Он пришел в театр годом раньше, и это была его первая большая и серьезная роль. Он был очень красив, прекрасно сложен и совершенно этим не избалован. Как и все молодые артисты, он начал с массовки, вводов и делал это, в отличие от многих, очень добросовестно. Он родился в актерской семье и унаследовал от отца, Сергея Александровича, замечательного, острохарактерного артиста, уважение и любовь к актерской профессии. И так было всегда. Даже когда он стал знаменитым Д‘Артаньяном и первым романтическим героем советского кино, он много работал, много репетировал, многого от себя требовал, добиваясь результата. Я никогда не видел его выпившим на спектаклях. Даже чуть-чуть. Он закончил музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории, которая, думаю, тоже воспитала в нем терпение и упорство в работе. Он играл Луиса, двойника Дон Кихота, очень искренне, очень эмоционально, обнаруживая настоящий драматический темперамент, при этом очень остро чувствуя юмор. Они были с Алисой прекрасной парой. Две белые вороны в этом скучном, прагматичном мире. Я играл Санчо Пансо и даже пел, если так можно сказать. Играл я его пожилым человеком, опустившимся, неряшливым, потерявшим опору после смерти Дон Кихота. Он ходит от дома к дому и за миску похлебки рассказывает, часто привирая, о своем хозяине. Его преображает встреча с Луисом, в котором он признает наследника своего старого хозяина.
Меня хвалили, мне тоже дарили цветы, просили автографы. Но главное, от чего я был счастлив, это от атмосферы любви, доброжелательности, взаимного уважения, которая воцарилась тогда у нас. Театр был моим родным домом. Здесь протекала моя жизнь.
Отсюда не хотелось уходить. У нас было очень много праздников, мы собирались по любому поводу – день рождения, именины, Новый год, Старый Новый год, отъезд на гастроли, вводы и просто так, без причин. Место не имело значения. Это могла быть чья-то гримерка, кабинет Владимирова или их с Алисой квартира, радиоцех или купе поезда. Мы выпивали, ели бутерброды и говорили – обсуждали только что прошедший спектакль. Делали друг другу замечания, на которые никто не обижался, и расходились далеко за полночь, чтобы завтра встретиться снова.
Очень часто к праздникам мы готовили капустники. Хорошо помню два. Один придумал я, назывался он «Русская ярмарка». Участвовали все. Кто-то – в качестве ярмарочных зевак, кто-то торговцами – предлагали блины, бублики, студень. Были цыгане с лошадьми, клоуны в балагане, распутные девки, карманники и прочие участники народных гуляний. Был факир, он сжигал голую девицу, а потом она должна появиться как ни в чем не бывало. Соль номера была в том, что сжигал он ее хорошо, а потом она все никак не появлялась. Был шатер для желающих испытать ледяной ужас. Билет стоил один рубль. Заходили по одному, и через минуту оттуда слышался душераздирающий крик, и человек вылетал из шатра с искаженным лицом. На вопрос «Что, действительно страшно?» – все как один отвечали «Очень» и советовали испытать самим. На самом деле входящему в шатер давали такого пинка, что он, не задерживаясь, вылетал на волю. И каждый, не желая выглядеть дураком, молчал и советовал следующему испытать «леденящий ужас».
Были и другие аттракционы. Например «Гермафродит». Вход только для мужчин.
Потом, помню, мы с Боярским придумали такой номер. Назывался он «сиамские близнецы». Нашли в старых сундуках огромных размеров костюм и рубашку. Всунули в каждую штанину по две ноги, из левого рукава торчала его левая рука, а из правого – моя правая. Из воротника торчали две наших головы. Ходить в таком виде было совершенно невозможно, но мы все-таки, с трудом, доковыляли до середины сцены. На шее у нас висела гитара. После продолжительных аплодисментов и приветственных криков мы исполняли песню Высоцкого «Если радость на всех одна, на всех и беда одна». Причем слово «беда» мы не пели, а мычали, стыдливо потупясь и намекая на то, что у нас было в одном экземпляре. В последнем куплете на словах «И если случится, что он влюблен, а я – на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти» мы пытались уйти друг от друга, но теряли равновесие и грохались на пол. К всеобщей радости. Затем мы исполняли еще песню «Огромное небо – одно на двоих» и заканчивали выпивкой. Причем получалось, что Миша только пил, держа в левой руке рюмку, а у меня в правой была вилка, и я мог только закусывать, с завистью глядя на Боярского. Но спустя минуту обнаруживался некий физиологический эффект: пил он, а пьянел я. Номер имел бешеный успех.
Летом этого года нас ждали гастроли в Москве. Они прошли при переполненных залах Театра имени Маяковского, где мы играли. О нас писали как о театре, имеющем свою индивидуальность, и, пожалуй, впервые как о театре Владимирова, а не только Алисы Фрейндлих. Это было признание его как режиссера, и Игорь Петрович был счастлив. В конце гастролей, по протоколу, принятому для провинциальных театров, нас пригласили в ЦК партии на встречу с большим идеологическим начальством. А именно, с товарищем Шауро Василием Филимоновичем, завотделом ЦК партии по идеологии. Новое здание ЦК находилось на Старой площади, куда мы и прибыли в назначенный час. С этого момента меня не покидало ощущение, что перед нами разыгрывается хорошо поставленный спектакль на тему: вот он наш новый европейский стиль руководства. Началось со свежеокрашенных металлических ворот и подтянутых, строгих, но вежливых офицеров охраны.
– Здравствуйте. Приготовьте, пожалуйста, ваши паспорта. Благодарю вас. Проходите.
Мы вошли в здание. Просторный холл. Светлые, опрятные стены, ковры на полу, чтобы заглушить шум шагов.
Да, да, мы здесь работаем, а не то, что вы думаете, казалось, говорила вся эта обстановка. Видите, ничего лишнего.
Ровно в десять ноль ноль, с точностью английской королевы, к нам вышла улыбающаяся женщина в скромном костюме песочного цвета, поздоровалась и, сказав: «Василий Филимонович вас ждет», – пригласила нас войти в лифт. Тут же открылись двери большого лифта, отделанного пластиком такого же цвета, как и костюм нашей хозяйки – референтки, как она представилась, Василия Филимоновича. Лифт быстро и бесшумно вознес нас вверх и плавно остановился. Выходя, я кинул взгляд на приделанную табличку – лифт был финский. Мы вышли в неширокий коридор песочного цвета с ковровой дорожкой. Действительно, ничего лишнего, деловая обстановка повсюду, даже в коридоре.
– Сюда, пожалуйста.
Мы вошли в приемную какого-то кабинета, и референт исчезла, попросив минуту подождать. Ровно через минуту открылась другая дверь, и в приемную вошел человек лет пятидесяти, с густой седой шевелюрой и улыбкой на сухощавом лице.
– Здравствуйте, товарищи ленинградцы, – приветливо и не торопясь произнес он, после чего поздоровался с каждым за руку. Референт при этом без запинки называла фамилию каждого, к кому он подходил. Пожимая руку, Василий Филимонович пристально и внимательно смотрел прямо в глаза, как будто мучительно вспоминая, где же он тебя видел раньше. Или, если хотите, наоборот, желая запомнить тебя навсегда. После этой церемонии мы вошли в кабинет. Спартанская обстановка. Светлые, песочные стены без картин и фотографий. Окна с жалюзи, с прекрасным видом на Кремль и Красную площадь. Два стола из светлого дерева – один, письменный, для хозяина, другой, большой, для заседаний. Хозяйский стол был декорирован с большим искусством. Множество книг, журналов, газет валялось на нем в художественном беспорядке, создавая у посетителей впечатление напряженной интеллектуальной деятельности. Тем не менее при всем этом беспорядке как-то получалось, что названия книг можно было легко прочесть, так же как и названия журналов. Там лежали «Новый мир», «Знамя», «Иностранная литература», «Театр», «Искусство кино».
«Господи, надо же, какие прогрессивные, эрудированные люди работают теперь в ЦК партии», – думал ошеломленный посетитель.
Мы уселись за стол для заседаний, и Алиса тут же достала из сумочки хорошенькую портативную пепельницу и, попросив разрешения, закурила, не дожидаясь ответа. Шауро сидел некоторое время с открытым от удивления ртом, потом выдавил из себя: «Да, конечно».
– Инна Сергеевна, – сказал он вошедшему референту, – угостите нас, пожалуйста, чаем.
Инна Сергеевна принесла на подносе чашки и небольшие вазочки из простого стекла, в которых лежали самые обыкновенные сушки.
– Угощайтесь, пожалуйста, как говорится, чем богаты.
Я взял сушку и обратил внимание, что на салфетке, на которой она лежала, черными, жирными буквами было проштамповано «Центральный комитет Коммунистической партии». Видно, несмотря на европейский стиль здесь все еще подворовывали. Затем товарищ Шауро поздравил нас с успешными гастролями, коснулся советско-югославских отношений, высказав при этом «для своих» несколько довольно смелых мыслей, что-де нам надо поучиться у югославов, как надо развивать экономику, и тепло попрощался.
– Если хотите, можете перекусить в нашей столовой, – сказала референтка, когда мы вышли из кабинета. – У нас здесь очень приличная столовая на первом этаже.
Желающих пообедать оказалось пятеро, и мы спустились вниз. Столовая оказалась просторной, а народу было мало. В центре зала стояли три или четыре витрины, в которых были выставлены блюда сегодняшнего меню. Когда я подошел и стал разглядывать, что там было выставлено, у меня засосало под ложечкой. Там лежали: язык, красная рыба, маслины, крабы, печень гусиная, какие-то паштеты, чешское пиво, свежие овощи, рыба под маринадом, консервированные компоты из ананасов и неизвестных мне фруктов и многое другое. Я сжимал в руке пять рублей, и сказал себе, что попробую все, если не хватит – одолжу.
– Овсей Зиновьевич, вы можете мне одолжить, если что, – спросил я у стоящего впереди нашего пожилого артиста Кагана.
– Конечно, – сказал он, принюхиваясь к восхитительному запаху копченого из кастрюльки, в которой что-то варилось.
– Это у вас сосиски? – спросил он.
– Да.
– В целлофане?
– У нас в целлофане не бывает, – чего-то испугавшись, ответила буфетчица.
Когда подошла моя очередь, я взял две порции языка, студень, судак под маринадом, баранье рагу с черносливом, брусничный морс, ананасы в сиропе и пачку болгарских сигарет «БТ». Поскольку цены ни на один из продуктов указаны не были, я с волнением ждал, сколько же мне насчитают за все, что я себе напозволял.
– Два рубля пятьдесят копеек, – услышал я.
Сигареты стоили сорок копеек там, в Советском Союзе. Стало быть, все эти языки и прочее стоили два десять? Это за все?
«Вот почему цены не указаны, – думал я. – Чтобы не смущать непосвященных».
Я вышел из здания ЦК компартии Советского Союза в чудесном расположении духа. Мне понравилось все – и деловой стиль, и вежливые милиционеры, и «очень приличный буфет». Единственное, что несколько смазывало приятное впечатление, это большой черный прямоугольник штампа на салфетке с надписью «Центральный комитет Коммунистической партии».
Волна успеха, поднявшая наш театр в семьдесят третьем году, катилась и дальше, в семьдесят четвертый.
За сезон было поставлено, как никогда, много спектаклей – пять, из которых на три билетов достать было просто невозможно. Если пользоваться жаргоном шоу-бизнеса – это были суперхиты. Очаровательный, красочный, под лубок, музыкальный спектакль «Левша» Рацера и Константинова с легкой и веселой музыкой Лебедева. Молодые артисты курса Владимирова, его первый набор, потрясающе пели и танцевали. Очень хорошо играл Левшу Барков, атамана Платова – Петренко. Последний играл очень смешно, изобретательно. Безукоризненного идиота в казацких шароварах, с саблей, все время путавшейся у него между ног, и в лихо надетой на бок казацкой фуражке, из-под которой выбивался на волю большой и кудрявый чуб. Иногда, чтобы вытереть лицо, он снимал фуражку, и обнаруживалась совершенно босая голова, а шикарный чуб был просто-напросто приклеен к фуражке.
Для постановки «Трубадура и его друзей» из Москвы к нам пожаловали сами авторы знаменитого мультфильма: поэт Юрий Энтин, автор сценария и режиссер Василий Ливанов и композитор Геннадий Гладков. Это была настоящая банда шумных, раскованных, талантливых, еще молодых людей. Успех и деньги, совсем недавно свалившиеся на них, еще кружили им головы, как наркотик, и они приехали к нам продолжить праздник.
Самым колоритным был Гена Гладков. С головой, покрытой длинными, светлыми, спутанными волосами, уже начинавшими редеть, большим жабьим ртом, крючковатым носом, он чем-то походил на Щелкунчика. Обаятельный урод. Всегда подшофе, что, впрочем, не мешало ему вытворять за инструментом черт знает что, вызывая всеобщий восторг. Он импровизировал, на ходу сочинял необыкновенные мелодии.
С Васей Ливановым у него были особые отношения. Они дружили со школы, несмотря на разницу в социальном происхождении. Вася был отпрыском знаменитого артиста Художественного театра Бориса Ливанова, и с детства принадлежал к сливкам общества. А Гена был из простой, бедной семьи и, как он сам рассказывал, всегда чувствовал эту разницу. Но сейчас он стал необыкновенно знаменит, хорошо зарабатывал, и это вызывало некоторую зависть у Васи, считавшего себя в их отношениях до сих пор старшим братом. Вообще, характер у Васи был непростой, особенно когда выпьет. Агрессивность, а если говорить без затей, – спесь и хамство начинали вылезать из него до невозможности. Особенно это было заметно во время банкетов, когда он сильно напивался. Гена пил не меньше, но от этого только размякал, добрел, становился мечтательным и со смыкающимися уже глазами и упавшей на грудь головой музицировал, что-то напевал и плакал. Однажды он уезжал в Москву и пришел на вокзал уже сильно выпившим. В своем купе он застал двух аккуратных старушек, с волнением ожидавших предстоящую поездку. Они давно уже никуда не ездили, а тут заставила нужда – юбилей, пятидесятилетие окончания ими какого-то института. Старушки запаслись лекарствами, весь столик в купе был заставлен всевозможными пузырьками и таблетками. Взглянув на этих божьих одуванчиков, Гена растрогался до невозможности и, коря себя за свой подлый, неправильный образ жизни, умолял их не закрывать дверь купе, поскольку он пойдет в вагон-ресторан и вернется очень поздно. Старушки, тронутые Гениной печалью, согласно закивали головами, и Гена ушел. Вернувшись часа в четыре ночи, он тихонько отворил дверь в купе, разделся, не зажигая света, чтобы, не дай бог, никого не разбудить, и, оставшись в одних кальсонах, стал размышлять, как ему попасть на свою верхнюю полку. Обычно он ставил ногу на край нижней полки, задрав вторую, опирался на верхнюю и, подпрыгнув, оказывался на месте. Но этот способ сейчас не годился. Чуткие старушки, спящие на нижней полке, могли проснуться. Тогда Гена решил сильно оттолкнуться ногами от пола, подтянуться на руках и бросить ноги на верхнюю полку. То есть как бы взлететь одним движением на свое место. Повернувшись спиной к окну, чтобы во время прыжка не задеть случайно ногами столик, Гена примерился и – взвился над землей. Ему не хватило буквально нескольких сантиметров. Руки у него подломились, и он рухнул прямо на столик, издав страшный крик от боли, – это разбитые, старушкины пузырьки впились ему в зад. Его крик подхватили перепуганные насмерть бабульки. Зажегся свет, и они с ужасом разглядывали лежащего на полу в окровавленных кальсонах своего милого, деликатного попутчика.
Энтин не пил совсем. Но это не мешало ему веселиться, рассказывать анекдоты и смешные истории. В его облике было что-то детское, милое. Кучерявая голова и веселая улыбка делали его похожим на веселого амура с картин эпохи Возрождения.
С приездом москвичей в театре стал преобладать какой-то гусарский стиль: попойки, банкеты, вечеринки пошли нескончаемой чередой. И если сначала все это было после спектаклей, то потом постепенно стали потихоньку выпивать и до, и во время. Владимиров, сам хорошо умеющий выпить, был чрезвычайно строг и принципиален в вопросах дисциплины, а пьянства – особенно. Он очень хорошо знал, как разваливаются театры и гибнут таланты, когда на пьянство смотрят сквозь пальцы. На моей памяти он уволил за пьянство несколько очень нужных театру артистов. Но сейчас он сам поддался этому всеобщему эпикурейству, и, к моему ужасу, перестал себя сдерживать и частенько появлялся даже на репетициях навеселе. Мы тогда еще не знали, что одной из главных причин грядущего заката Театра им. Ленсовета будет эта разрушающая страсть, болезнь, запои до белой горячки. Мне кажется, что тогда он впервые отпустил вожжи и уже был бессилен справиться с собой.
Спектакль «Трубадур и его друзья» получился веселый и красочный. Миша Боярский как нельзя лучше подходил на роль Трубадура – замечательно пел, двигался, был трогательным и смешным. Сергей Мигицко играл Осла. Не в обиду ему будет сказано, на мой взгляд, это была одна из лучших его ролей. Принцессу начинала репетировать Фрейндлих, что, по-моему, ей делать не стоило, ей исполнилось к тому времени уже сорок лет. Но ведь как хочется продлить свою молодость, красоту, свежесть! Ведь внутри-то мы не стареем, и нам кажется, что еще далеко не вечер. Особенно это касается женщин-актрис, тем более если твой партнер так молод и красив, как Боярский. К счастью, Алисе хватило и ума, и вкуса отказаться от роли, и принцессу очень мило играла Лариса Луппиан, бывшая студентка, как и Мигицко, Игоря Петровича Владимирова. Я играл «глупого Короля». Играл с большим удовольствием, много импровизировал, валял дурака и развлекал публику. И в этом же семьдесят четвертом году я сыграл, возможно, одну из лучших своих ролей – Аздака из «Кавказского мелового круга» Брехта. Спектакль имел необычную форму. Помнится, в том же году проходили то ли Дни немецкой культуры в Советском Союзе, то ли еще что-то подобное, и Владимиров решил, а почему бы не поставить спектакль по немецкой классике? Глядишь, перепадет поездка в ГДР, если спектакль выиграет конкурс. Стали искать пьесу. Перечитали целую библиотеку немецких драматургов от Гете до Брехта и не нашли ни одной, которая сегодня звучала бы современно, а не вызывала тоску и зевоту. Уж на что Шиллер всегда имел успех у русского зрителя («Коварство и любовь» и «Разбойников» ставили не реже, чем «Ревизора»), и даже он казался выспренним, совершенно не натуральным и занудным. Владимиров уже готов был отказаться от идеи поставить немецкий спектакль, как вдруг нашелся выход из этого тупика. Его помощник, в то время молодой режиссер Володя Воробьев, работавший с курсом Владимирова, предложил очень простой способ, как из скучной пьесы сделать интересный спектакль: не играть всю пьесу, а сыграть только лучшие сцены. Выбрать пять-шесть пьес, процедить, отжать, добавить общую, объединяющую их концепцию и, пожалуйста, – готовый спектакль. А действительно, зачем целиком смотреть «Марию Стюарт»? Театральная публика и так прекрасно ее знает. А вот как играют артистки главную сцену, очень даже интересно. Эта идея окрылила Игоря Петровича, и он стал снова, но под другим углом читать немцев. В результате, в спектакль вошли в первом акте большие фрагменты из четырех пьес. Это «Страх и отчаяние Третьей империи» Б. Брехта, «Уриэль Акоста» Гуцкова, «Мария Стюарт» Шиллера и «Фауст» Гете. Весь второй акт был скомпонован из «Кавказского мелового круга» Брехта и шел целый час. Спектакль назывался «Люди и страсти». По мысли Владимирова, все эти сцены объединяет одна общая черта. Люди там показаны в самые решающие, самые трагические минуты их жизни, когда накал страстей, напряжение достигает вершины. Это интересно смотреть и интересно играть. По форме спектакль напоминал экзамен по мастерству на каком-нибудь актерском курсе, где роли исполняют одни и те же студенты. Так, Алиса Фрейндлих играла в «Марии Стюарт» Елизавету, в «Уриэле Акосте» самого Акосту, Марию-Антуанетту и еще пела зонги как ведущая действа.
Я играл две роли: комического актера из «Фауста» и во втором акте – Аздака.
Фрейндлих Марию-Антуанетту играла гениально, другого слова не нахожу. В повозке ее везут на гильотину сквозь толпу безумствующей парижской черни. Она вспоминает свою жизнь и по привычке первой красавицы Франции румянит щеки, сурьмит брови и поправляет прическу, чтобы выглядеть хорошо на людях, то есть после казни, когда ее отрубленная голова будет лежать в корзине палача.
Темнота, скрип повозки, крики разъяренной толпы и Антуанетта, недвижно сидящая и мажущая, мажущая румяна на свое уже мертвенно-белое лицо. Эта картина до сих пор стоит перед глазами.
Про себя могу сказать, что играл я на предельном напряжении сил, не щадя себя, и часто вспоминал свой старый спор с отцом – может актерская профессия называться мужской или нет.
«Видишь, – мысленно говорил я отцу, – я устал, как сапожник, у меня вся рубашка мокрая от пота. Так кто прав? То-то».
Отец еще был жив, и они с матерью пришли посмотреть на меня. Маме, как всегда, все понравилось. Отцу, как всегда, нет.
– Много прыгаешь, – сказал он мне, – береги здоровье. Куда ваш профсоюз смотрит? – На этом его рецензия закончилась.
А публике наш спектакль нравился и даже очень. Я ей тоже нравился.