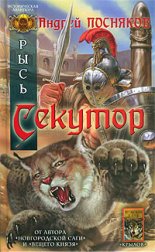Негероический герой Равикович Анатолий

– Всех выселю! – визжал я женским голосом.
Однажды, когда я вернулся с очередного «концерта», мама спросила:
– Толя, мне сказали, что ты во дворе представления показываешь?
Моя мама, неравнодушная к искусству, влюбленная в театр, посчитала мои выступления на дровах знаком свыше. Взволнованная тем, что если не она, то ее сын будет причастен к волшебству сцены, она схватила меня за руку и на следующий же день потащила в Дом пионеров Октябрьского района. Меня записали в кружок художественного слова.
Дом пионеров располагался на Мойке в роскошном дворце князя Михаила, обветшалом и запущенном снаружи, но сохранившем всю красоту и роскошь внутренних покоев. Удивительно, что ни революция, ни война совсем не коснулись, прошли мимо, ничего не тронули в этом изысканном дворцовом убранстве. Скульптуры, светильники, люстры, резные деревянные панели, мебель, шелковые ширмы в китайской гостиной, наборный паркет выглядели так, будто прежние хозяева выехали на день в Царское Село и вот-вот вернутся.
Руководителем кружка был Павел Яковлевич Кур-знер. Комната, в которой мы занимались, находилась в сводчатом подвале, где было и не темно, и не сыро. И вообще этот подвал напоминал своими арками кремлевскую Грановитую палату, только поменьше.
Я стоял перед пожилым, лет пятидесяти, седовласым мужчиной, который поздоровался со мной удивительно звучным низким голосом с какими-то красивыми переливами то снизу вверх, то сверху вниз. Он говорил, совершенно не напрягаясь, но заполнял голосом всю комнату. И это было неудивительно: Павел Яковлевич был знаменитым оперным певцом, баритоном, звездой Кировского театра до войны. Он был немец. Его предки когда-то очень давно приехали в Россию, со временем совершенно обрусели, приняли православие и считали себя вполне русскими людьми, как Фонвизин, Даль, Беринг, Крузенштерн и десятки тысяч других немцев, голландцев, датчан, евреев, армян и т. д., и т. п.
Но когда началась война с Германией, всех немцев посадили в вагоны и отправили в Казахстан как потенциальных предателей. Так было и с отцом Алисы Фрейндлих – Бруно Фрейндлихом, так было и с Павлом Яковлевичем Курзнером. Возвратившись в Ленинград, Павел Яковлевич хотел вернуться снова в театр, но его не взяли. Тогда он устроился в Дом пионеров и стал вести кружок художественного слова.
– Ты знаешь какое-нибудь стихотворение? – спросил он.
Я знал наизусть только одно стихотворение:
- Идет бычок, качается,
- Вздыхает на ходу:
- «Ох, доска кончается,
- Сейчас я упаду».
Я исполнял его для гостей еще до войны. Мама ставила меня на стул и гордилась тем успехом, который я имел у ее друзей.
– Да, – ответил я, – я знаю одно стихотворение.
Оглянувшись в поисках стула, я увидел его у стенки, принес на середину комнаты, залез на него и выразительно прочитал эту драматическую историю.
– Очень хорошо, – сказал Павел Яковлевич, – а теперь, пожалуйста, поставь стул на место. Ты читал когда-нибудь басни Ивана Андреевича Крылова? – продолжил он своим красивым голосом.
– Нет.
– Если нет дома, возьми в библиотеке и к следующему разу выучи, пожалуйста, басню «Стрекоза и Муравей». Она небольшая, жду тебя через неделю, договорились?
Через неделю я вновь стоял перед Павлом Яковлевичем и честно отбарабанил заданный урок.
– Та-ак, – протянул Павел Яковлевич, – неплохо. Только почему ты вставляешь в басню свои слова, вместо тех, которые написал Крылов?
Выходило, что Павел Яковлевич тоже знает эту басню наизусть.
– Во-первых, не «как зима пришла в глаза», а «как зима катит в глаза». Потом у Крылова «лето красное пропела», а у тебя «лето целое пропела»? Ты считаешь, что так лучше?
Честно говоря, именно так я и считал. Как это лето может быть красным? Или синим? И вообще, разве у лета есть какой-нибудь цвет? А вот целое лето или пол-лета – это понятно. Насчет «катит», так это я просто забыл слово и, не останавливаясь, на ходу быстро заменил его другим, более подходящим. Но я промолчал и ничего этого не сказал.
– Может быть, ты не знаешь, – очень серьезно сказал Павел Яковлевич, – что слово «красное» в данном случае означает – прекрасное. Прекрасное лето.
– А «катит», – недоверчиво спросил я, – это как?
– А это значит, что зима быстро приближается, вот-вот наступит, грянет морозами. Знаешь, так часто бывает: если подходящее по смыслу слово заменить другим, вроде бы совсем не подходящим, то, странное дело, смысл сказанного проявляется ярче, лучше. Можно сказать: «солнце зашло», а можно – «погасло». «Погасло дневное светило». Он глянул на меня и после небольшой паузы продолжил: «На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной угрюмый океан».
Он читал стихотворение своим обволакивающим баритоном, и я, почти не улавливая смысла, почувствовал, как тихая и радостная печаль овладевает мной и как спокойно и хорошо стало на душе.
Я подружился с Павлом Яковлевичем, и спустя наверное год стал частым гостем в его доме. Он жил на углу Крюкова канала и улицы Союза Печатников, рядом с Кировским театром. Большой дом из серого гранита, с огромными окнами, красивой решеткой, отгораживающей внутренний дворик от улицы. Открыв дверь парадного подъезда, ты попадал в большой круглый зал с мраморным фонтаном посередине и бюстами мавров вдоль стен. Лица у мавров были из черного камня, а тюрбаны на головах – из белого. Из зала витая лестница спиралью шла наверх. Этот дом был построен для артистов Императорского Мариинского театра.
Квартира Павла Яковлевича тоже поразила меня своими размерами и невиданными мною раньше вещами. После нашей двадцатиметровой комнаты в коммуналке, где, чтобы всем хватило места ночью, укладывали на стулья доски, его квартира выглядела музеем. Причем очень уютным и живым. В широкой прихожей вдоль стены стояли низкие книжные шкафы из красного дерева, забитые книжками дореволюционного издания в красивых твердых переплетах. Многие – с золотым обрезом. Это, как я потом узнал, была детская библиотека. Полное собрание сочинений Фенимора Купера, Майна Рида, Жюля Верна, Вальтера Скотта, Пушкина, Короленко, Гаршина – весь девятнадцатый век. Из прихожей несколько дверей вели в комнаты. Одна из них – в гостиную. Большой угловой полукруглый эркер с огромным окном открывал вид на Крюков канал и колокольню Никольского собора. Когда я в первый раз ступил в эту комнату, светило солнце, и в столпе света из окна, падавшего в полумрак гостиной, красиво золотились иконы в углу, поблескивала бронзой настольная лампа с разноцветным платком на абажуре. Огромный ковер скрывал часть стены и спускался на тахту со множеством подушек. Чудесная, веселая комната. Я потом всю жизнь хотел, чтобы мое жилье было похоже на дом Павла Яковлевича Курзнера.
Вместе с Павлом Яковлевичем в квартире жила его сестра Серафима и ее сын Толя, года на два старше меня. Он был инвалид детства. Одна его рука не разгибалась, голова была прижата к плечу, левая нога – согнута в колене и ступала только на носок. Я не смел спрашивать, но мама мне потом объяснила, что, скорее всего, это была родовая травма. Толя не ходил в школу. Его учили дома мать и Павел Яковлевич. Он был очень дружелюбным и общительным парнем. И когда я привык к его внешности, мы по-настоящему подружились и даже в шутку дрались. Он поразил меня тем, что знал немецкий и учил французский и успел прочесть почти все книги, стоявшие в книжных шкафах в прихожей. Но, что самое удивительное, он совершенно этим не хвастался. И он, и Павел Яковлевич, и Серафима – они вообще были из какого-то другого, незнакомого мне мира. Из мира простых, добрых, красивых людей, живущих среди удобных и красивых вещей. Каждый раз, когда я уходил из их дома после занятий, я нес с собой две-три книги из Толиной библиотеки и, проглотив их, получал новые. Я почти забросил улицу и совсем забросил школу. Мама ругала меня за двойки, за незаполненный дневник, грозилась, что не разрешит мне больше ходить в кружок, но я ничего не мог с собой поделать. Я по-настоящему и на долгие годы пристрастился к чтению. И первая моя любовь была не к реальной девочке с соседнего двора, а к томной, с бездонными черными глазами, нежной красавице Ребекке из романа «Айвенго» Вальтера Скотта. До чего я ненавидел храмовника, представляя, как он касается своими грязными руками в железных перчатках моей чудной Ребекки, как она вздрагивает от отвращения, как ждет она моей помощи и избавления от постылого ухажера, а я тут, как дурак, вожусь с какой-то арифметикой и ничего не могу для несчастной сделать.
В Толиной библиотеке были и стихи запрещенного Есенина, и детские книги Киплинга, тоже, как певца империализма, не издаваемые у нас. Разумеется, я ничего не знал об этих запретах, но мама, когда я принес домой томик Есенина, покачала головой и велела мне обернуть обложку газетой. А какие были книги с русскими сказками! Какие иллюстрации, цвета, какая бумага! Я часами рассматривал картинки в книгах – все эти мелкие узоры на платьях, тщательно выписанные лица людей, листочки на деревьях и все, все остальное. Как-то само собой получилось, что я выучил наизусть сказки Пушкина. Все, кроме «Сказки о рыбаке и рыбке». Может быть потому, что она была не смешная, и в ней не было рифмы. Теперь в уже редкие «концерты на дровах» я включал эти сказки. Безусловным и шумным успехом пользовалась «Сказка о попе и работнике его Балде». Балду я трактовал как обаятельного хулигана с Лиговского проспекта.
Моя счастливая дружба с Павлом Яковлевичем и Толей длилась три года. Потом случилось несчастье – Серафима умерла, Павел Яковлевич ушел из Дома пионеров (ему удалось устроиться на работу в консерваторию), и мы встречались все реже. Время и обстоятельства развели нас – каждого на свой путь. Но я часто вспоминаю их с любовью и благодарностью.
В третьем классе я впервые по-настоящему подрался. Парень из соседнего класса, настоящий садист, донимал меня на каждой перемене в коридоре, в туалете, после уроков по дороге домой. С улыбочкой на белесом лице он толкал меня, отбирал у меня то рубль, то пятак, которым я играл в пристенок, делал «смазь», ставил подножки, когда я проходил мимо. Я не смел сопротивляться. Я боялся его и презирал себя за свой страх. Наша драка возникла случайно, неожиданно для меня самого. Я стоял в туалете после уроков и писал. Он незаметно подошел сзади, сдернул с моего плеча папину полевую сумку и подставил ее под мою же струю. И тут во мне будто что-то лопнуло. Волна жгучей ярости – сладкой и пьянящей – накрыла меня и заполнила все мое существо. Я схватил его за горло и стал бить головой о стенку. Бить, бить за все, пока не исчезнет эта белая рожа с ужасом в глазах. Меня оттащили от моего мучителя, и он, что-то скуля, побежал вон. Больше ко мне никто не вязался. Но я не уверен, что был бы способен дать такой же отпор еще раз.
В 148 году, окончив четвертый класс, я перешел в другую школу. То ли потому, что я уже попривык к лагерному режиму и тюремным нравам школы за прошедшие годы, но жизнь на новом месте давалась мне намного легче. Кроме того, я открыл универсальный способ защиты – гениальный и простой. Он формулируется всего двумя словами: бей первым. В прямом и фигуральном смысле. Сидишь, к пример у, на уроке, а с задней парты тебе зачем-то тычут в спину карандашом. Ты резко оборачиваешься и обязательно громко, грубо спрашиваешь: «Че те надо?» Совершенно неважно, что училка тебя заругает, важно, что тыкать больше не будут, чтобы не связываться с таким отчаянным парнем, который не боится даже учительницы. Я даже стал немного лучше учиться, но главное, в новой школе я нашел друга, в которого был влюблен, смотрел ему в рот и старался во всем подражать.
Его звали Алик Кравец. У него не было левой ноги чуть ниже колена, и он ходил на протезе. Но этого никто не знал. Он не хотел, чтобы это знали, и научился ходить как все, хотя это было трудно и больно. Я видел кровавые мозоли на его культе. Он рос, а его протезы – нет, их надо было часто менять. Кроме того, они были сделаны из грубой кожи, очень тяжелые и страшно натирали ногу. Но даже такие протезы в то время были редкостью. На улице часто встречались безногие инвалиды-фронтовики с привязанной к обрубку деревяшкой или просто на костылях. Те, у кого не было двух ног, ездили на маленьких деревянных платформах с приделанными снизу шарикоподшипниками. Они часто попрошайничали на улицах, в трамваях, поездах, пьяно матерились и дрались. Милиция их не трогала – их боялись. Им ведь уже нечего было терять.
Алик ходил даже на физкультуру, правда, не в трусах, а в брюках, и наравне со всеми бегал, прыгал и лазил по канату. Учился он блестяще. На домашние задания у него уходило не больше получаса. Если у меня только литература и русский были предметами, дававшимися легко, то он с одинаковой небрежностью хватал пятерки по всем. В этом пятикласснике чувствовалась такая уверенность в себе и сила, что никому из нас не приходило в голову сомневаться в его лидерстве. Он был набит разными свежими идеями. Когда в город после окончания войны стали возвращаться демобилизованные, появилась масса трофейных вещей. Из Германии, Венгрии, Польши везли аккордеоны, патефоны, одежду, мотоциклы, порнографические открытки, велосипеды. Старшие офицеры привозили даже пианино и автомобили. Алик предложил сделать цирк на велосипедах. Самым популярным был велосипедом фирмы «Диамант». Алик собрал пять человек, из которых у троих были «Диаманты», а у двоих, в том числе и у меня, – не было. Мне после драматических сцен, когда я в обмен на желанный велосипед обещал учиться как Владимир Ильич Ленин, был куплен на толкучке сильно потрепанный «Диамант». Женский: он был дешевле. И на набережной Фонтанки, напротив фабрики «Гознак», развернулись репетиции циркового номера – фигурная езда на велосипедах без помощи рук. Прохожие и редкие автомобилисты ругались и грозили поломать наши железные «мустанги». Кончилось тем, что нас действительно забрали в милицию.
– Что там у тебя? – спросил лейтенант у приведшего нас сержанта.
– Хулиганье, шпана, никому прохода не дают, – сказал сержант.
– Вы лжете, – твердо сказал Алик. – Мы не шпана, мы просто катались на велосипедах. Вы не имеете права…
– Ну-ка, заткнись, – сказал лейтенант. – Никифоров, – он обратился к сержанту, – обыщи этого. – И он ткнул пальцем в Алика.
– Вы должны вызвать наших родителей, – гремел Алик. – Мы несовершеннолетние. Не имеете права.
Сержант схватил Алика за руку и сильно заломил ее назад.
– А-а-а, гад, отпусти! – Алик пытался вырваться, но сержант, не обращая на это внимания, уже охлопывал его одежду.
– Нож! – закричал он, нащупав в кармане какой-то длинный, твердый предмет. – Я ж говорил – шпана. – Сунув руку в Аликин карман, он, торжествуя, вытащил на божий свет пластмассовую расческу.
Мы просидели в отделении до позднего вечера. Но Алик все-таки добился своего. В конце концов ему разрешили позвонить домой, и примчавшийся его отец униженно просил милиционеров простить нас, дураков. Обещал, что он сам накажет и Алика, и меня и научит уважать органы, и совал свой телефон. Если что надо достать, позвоните, я помогу. Я за все эти долгие часы не сказал ни одного слова. Я боялся, что нас посадят в тюрьму. Единственное, чего я хотел, – чтобы Алик заткнулся и перестал злить милиционеров. Это же безумие – идти против них. Я ненавидел его и восхищался им. Я был совсем не похож на Алика и никогда не стал похожим на него.
В седьмом классе нас приняли в комсомол. Мы совершенно искренне обещали стать достойными помощниками партии в деле строительства коммунизма, разъяснять линию партии, участвовать во всех ее начинаниях и защищать мир во всем мире от происков империалистов и поджигателей войны. Эта новая большая ответственность сильно поднимала нас в собственных глазах, и мы чувствовали себя уже вполне взрослыми и сознательными членами общества.
И вот как-то Алик с мрачным и решительным лицом мне говорит:
– Толя, я хочу поделиться с тобой… мне нужен совет… скажу тебе одну вещь…дело в том, в общем, мой отец – вор.
Я онемел.
– Я долго думал, – продолжал Алик, – вот смотри, почему мы живем лучше, чем все? Откуда это все? Мы мясо жрем каждый день. Знаешь, мне перед тобой стыдно. Я же знаю, как вы живете, а ведь у тебя отец – директор фабрики. А мой-то кто? Никто. Технологом работает в какой-то шараге! Трусы шьют! Ну, не может быть, чтобы он столько получал. Ворует он! Ворует у государства. – Алик почти плакал. – Толя, что делать, скажи. Мы же комсомольцы, мы не должны молчать. Я не могу видеть, какие сумки мать приносит с рынка. Ты пойдешь со мной? – строго спросил он.
– Куда? – ответил я севшим голосом.
– В парторганизацию их шараги. Я должен обо всем этом рассказать.
Я стоял у проходной фабрики трикотажных изделий, где работал Аликин отец, и ждал, когда выйдет Алик. Я проводил его досюда, а внутрь он уже пошел сам. Я стоял и думал, что же теперь будет и как Алик после того, что он сейчас сделает, сможет посмотреть в глаза отца и матери. Я не осуждал его и не одобрял. Я был в растерянности. Я пытался представить себя на месте Алика и признавал, что у меня не хватило бы духу посадить своего отца в тюрьму. Наверное, я просто трус и плохой комсомолец. Такой приговор вынес я тогда самому себе.
Алик вышел спустя час, и мы некоторое время шли молча.
– Я все рассказал.
– Кому?
– Секретарю партбюро.
– И что?
– Он пожал мне руку и сказал, что я правильно все сделал и что они обязательно разберутся. Просил пока больше никому об этом не сообщать. Ты понял?
Я проводил его до парадной, и он медленно и как-то обреченно стал подниматься на свой третий этаж.
На следующий день Алик в школу не пришел. Я несколько раз звонил ему домой, но никто не брал трубку. Полдня я продежурил у его дома. Он не вышел. Уже вечером я решился пойти к нему домой. На звонок вышла его мать. Сказала, что Алик болен и тут же захлопнула дверь. Через два дня он, наконец, появился. С разбитым носом и губой. Вот что он рассказал мне.
«Отец появился вечером.
– Ну, молодец говорит, сынок, настоящий комсомолец. Только, разреши, я расскажу тебе, что было после того, как ты ушел от нашего секретаря. Да-да, я все знаю. Он вызвал меня и говорит: «Только что твой сын был здесь и сообщил, что ты казнокрад и жулик. Ты понимаешь, что теперь нам всем слышишь, Алик, он так и сказал: нам всем – светит хороший срок.
Дело в том, Алик (теперь я уже скажу тебе все как есть), дело в том, что, да, – я умею делать деньги. Но я их делаю вместе с другими. Я делюсь ими с директором, главбухом и секретарем парторганизации. И мы все повязаны. А знаешь, откуда берутся эти деньги? Нет, я не ворую, как ты думаешь. Я просто придумал, как из одного метра трикотажа делать не три пары трусов, как по норме, а четыре. Я лекала такие придумал своей головой. И таким образом трое трусов идут государству, а четвертые – нам. Так где же я ворую? Лучше было бы, по-твоему, на помойку выбрасывать этот трикотаж? И еще что мне сказал наш секретарь: «Счастье, что твой ублюдок пришел сначала ко мне, а не в органы. Учти, если что, сядешь ты, с конфискацией. Один ты». А это значит, Алик, что не будет у тебя ничего: ни хлеба с маслом, ни велосипеда, даже протеза у тебя не будет, потому что это все на ворованные, как ты говоришь, деньги куплено.
– Я хотел сказать ему, что не верю, что это неправда, и тут он меня ударил».
Алик ушел из дома и в школе тоже не показывался. Его мать думала, что я знаю, где он, просила передать, что отец лежит с сердечным приступом, но я понятия не имел, куда он исчез. В школе он появился через пять дней. Неохотно объяснил, что болел. На мои попытки узнать, где он был, отвечал, что был в больнице, менял протез и лечил ногу. Причем разговаривал со мной резко, давая понять, что ему мои вопросы неприятны, и всячески уходил от разговоров на «отцовскую» тему. Я не понимал, что с ним произошло, и есть ли моя вина в этом его охлаждении ко мне. Мы стали реже встречаться. Наблюдая за ним, я видел, как он угрюмо задумывался над чем-то. Он становился совсем не похожим на себя самого, прежнего Алика, – веселого, открытого и заводного. Наша дружба кончалась, и с этим ничего уже нельзя было поделать. Мы окончили седьмой класс и, так как наша школа была семилетка, перешли уже в другую школу – десятилетку, точнее, в разные школы. Постепенно я привык обходиться без него и уже спокойно встретился с ним как-то случайно на улице года через полтора. Он был в дорогом костюме, курил «Казбек» – очень дорогие папиросы, – матерился, как-то вскользь дал понять, что вчера у них была шикарная вечеринка с девочками. Сказал, что семья будет добиваться разрешения уехать из «этой гребаной страны» к родственникам в Америку. Они действительно уехали, но намного позже. Прошли года, и через его дядю, работавшего на «Ленфильме» звукооператором, я узнал, что Алик в Америке в полном порядке, что у него своя фирма и он очень состоятельный человек.
«Представляешь, – сказал мне дядя, – звоню и не могу дозвониться. Оказывается, у него такая большая квартира, что он поставил себе второй телефон с отдельным номером». Вот такая история про моего друга – комсомольца Алика Кравеца.
ДРАМКРУЖОК
Новая школа, восьмой класс, злокачественная лень, двойки – все это было только фоном, а главным действующим лицом этих последних трех школьных лет была моя жизнь в драматическом кружке Дома пионеров и школьников Октябрьского района города Ленинграда.
Руководителем его была Маргарита Федоровна Линд. Очаровательная женщина лет сорока, с короткой стрижкой седых волос, очень стройная, улыбчивая, с папироской, вообще похожая на девчонку. Естественно, что все мальчики были в нее влюблены. Но в кружке были и настоящие девчонки. Я смотрел на них, как дикарь: я никогда близко не общался с девочками. Школы были раздельными, а дворовые компании тоже сплошь мужскими. Я заглядывался на девочек, и они меня волновали ужасно. Гормоны работали на износ, заваливая меня своей продукцией бессонными ночами, эротическими видениями, жаром при случайных прикосновениях, немотивированном смехе и т. д. Каждый мужчина может продолжить этот список, если он помнит себя в этом возрасте.
Как-то весной, когда наконец пригрело солнышко и все сняли зимнюю одежду, я шел по набережной Фонтанки за какой-то девочкой. Она, видно, очень торопила лето – была очень легко одета, и даже чулок на ней не было. Она шла, мелькая передо мной своими белыми, незагорелыми ножками, и я, как загипнотизированный, не мог оторвать от них взгляда. До сих пор помню эти мягкие подушечки под коленками! Очнулся я, пройдя квартала четыре, так и не увидев ее лица. Наверное, это была моя первая любовь.
В кружке, когда я там появился, ставили «Снежную Королеву» Евгения Шварца. Герду играла беленькая девочка моего возраста. Ее звали Таня Тарасова – впоследствии актриса БДТ. Надо ли говорить, что я тут же в нее влюбился? Кто играл Маленькую Разбойницу – не помню, но она тоже мне очень понравилась. Когда на репетиции появилась исполнительница Снежной Королевы Галя Лахтер (она приболела, и сначала ее не было), я попал в тупик. Полюбил и ее. Между тем надо было учить роль и запоминать мизансцены.
Мне поручили играть Советника. И мне почему-то казалось, что он должен быть похож на злодея-волшебника из трофейного фильма «Индийская гробница» – с холодным, гипнотизирующим взглядом и надменной, жестокой улыбкой. Но где их взять? У меня не было ни того ни другого. Тут я впервые столкнулся с проблемой, которую потом решал каждый раз, когда получал роль «на сопротивление». То есть когда роль, строго говоря, не твоя. Нет у тебя качеств, нужных для этой роли. Ты мучаешься, тебе неловко, неуютно, слова кажутся чужими, ты говоришь каким-то деревянным голосом, и в результате – провал. Но иногда, правда, очень редко, происходит чудо. Это когда ты перестаешь перекраивать себя под воображаемый, придуманный образ, когда тебе приходит счастливая мысль: а почему, собственно, играя, например, Гамлета, я должен быть обязательно стройным юношей с мужественным голосом и волевым подбородком? И красивым вдобавок.
– Но, позвольте, ведь он принц.
– Ну и что же, что принц, – отвечаете вы. – Принцы разные бывают. И главное именно в этом принце Гамлете – это его ум, его сомнения и страдания. А как он выглядит, не важно, он может быть всяким. Даже в очках, и даже толстым. А такого Гамлета, извините, я уже могу попробовать сыграть. И, возможно, публика, увидев твоего Гамлета, толстого и в очках, скажет: «Это же надо, никогда не думала, что Шекспир написал именно про такого принца. Как интересно».
Так и было, когда Юрский сыграл Чацкого в БДТ, а Лавров – Молчалина. Совершенно неожиданно и чрезвычайно убедительно. Я думаю, что удачи, которые так парадоксально и так внезапно, казалось бы, возникают в «не твоей» роли, это проявление какой-то общей закономерности, когда неожиданные и крупные открытия совершаются на стыке разных наук, смешении разных культур и даже рас и национальностей. Впрочем, я в этом не специалист.
Так вот – Советник в Снежной Королеве. Я смотрел на себя в зеркало и видел невысокого парня с большими глазами и большими ушами, с детским ртом и мягким подбородком. Как из этого всего сделать всемогущего хозяина льда и холода? А очень просто. Надо состроить страшную рожу, надеть лысый парик и ходить, по-стариковски прихрамывая. И все дела. И очень хорошо. Да, и еще говорить по возможности скрипучим голосом. Так я и стал его репетировать. Остальные артисты тоже не сильно мудрили. Весело строили рожи, кривлялись и получали огромное удовольствие и от своей игры, и от того, что всем очень весело и приятно приходить в наш драмкружок, валять дурака, влюбляться, петь песни, рассказывать анекдоты. Лишь одна артистка выпадала из этого карнавала – Таня Тарасова, игравшая Герду. Собственно, она не играла Герду, она ею была. Она просто любила Кея и Бабушку, плакала, когда Снежная Королева увезла брата, пугалась Советника. Стоя рядом, разговаривая с ней на сцене, я смутно ощущал эту разницу между нею и собой, между нею и остальными. Долгий путь суждено было мне пройти, чтобы самому научиться быть персонажем, а не изображать его. Собственно говоря, это и есть русская актерская традиция: проживание чужой жизни, жизни персонажа, как своей.
Кроме репетиций мы сами делали декорации. А дня за два до премьеры поехали в мастерские Кировского театра за костюмами для спектакля. Мастерские, а точнее, склады костюмов, бутафории, реквизита, всего театрального хозяйства, оставшегося от старых спектаклей, находились в Матвее-вом переулке, неподалеку от театра. Это был настоящий музей! Шитые золотом царские одеяния, настоящие собольи шубы, сапоги из сафьяна – вся одежда и утварь из «Бориса Годунова», «Ивана Сусанина», «Царской невесты» и других русских опер; чаши, кубки, перстни, настоящие китайские веера, страусовые перья – чего там только не было! А оружие: копья, бердыши, ятаганы, луки, палицы, шпаги, арбалеты, сабли! Я ходил совершенно очарованный из одного склада в другой, впитывая запах времени, чужих стран, других людей, когда-то трогавших своими руками эти вещи, надевавших на себя эти костюмы. Как замечательно, что все это сумели сохранить, сберечь. Ведь там были по-настоящему дорогие вещи, подлинники. Многие артисты дарили театру свой гардероб, украшения, да и знатная публика Мариинки, не исключая великих князей, баловала театр то ставшим узким парадным мундиром, то безделушкой, привезенной из путешествия по Европе. А бинокли, монокли, подзорные трубы, пенсне – нет, я умолкаю. Хотелось все это взять и унести домой. Нет, я, конечно, ничего такого не сделал, но об одной вещи иногда жалею. Когда мне принесли примерить несколько фраков для Советника, на одном из них на шелковой черной подкладке около ворота была аккуратно подшита тонкая белая полоска, а на ней черной тушью написано «Ф. И. Шаляпин». Фрак, естественно, был мне велик. Я подержал его в руках и отложил в сторону. Вот за это я себя и ругаю. Надо было его взять, а потом «потерять». Да. А нечего было раздавать сопливым мальчишкам из самодеятельности фраки Шаляпина.
Выбрав фрак, я нашел в реквизите трость из какого-то красивого темного дерева с круглой ручкой. Нажав на потайную кнопку и потянув ручку на себя, я вытаскивал из трости длинную узкую шпагу. Теперь я был одет, экипирован, оставалось только хорошо сыграть.
Наконец премьера состоялась в переполненном зале, с аплодисментами в конце спектакля и громкими командами учителей: «Первой выходит 245-я школа! 249-я школа остается на месте!» Весь спектакль сопровождался звоном номерков из гардероба, падавших на пол у рассеянных зрителей, небольшими потасовками и репликами непосредственной публики в драматических местах. Я, видимо, играл очень хорошо, судя по тому, что во втором действии в меня стали стрелять из рогаток. Это было очень больно и довольно опасно: рогатки делали из толстой алюминиевой проволоки и, кроме бумажных пулек, использовались пульки из той же проволоки. Получив пару раз пулькой по физиономии, я повернулся к залу спиной и в этой позиции продолжил играть роль до конца. Выйдя из Дома пионеров после спектакля, я натолкнулся на трех парней, поджидавших меня с явным намерением дать мне в морду за все, что я сделал с Каем и Гердой. К счастью, бегал я быстрее их. Это можно считать первой положительной рецензией на мою игру.
Потом у нас были другие премьеры: «Двадцать лет спустя» М. Светлова, «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, «Предложение» А. Чехова, «Волки и овцы» А. Островского, где я играл Лыняева. Приехали мы как-то с этим спектаклем в одну школу и – о ужас! – забыли привезти толщинку для меня. Я надевал ее, чтобы выглядеть толстым и солидным. Что делать? Как назло, под рукой ничего не было – мы переодевались в пионерской комнате. И тогда мне пришла в голову кощунственная идея. Закрыв дверь от посторонних, я отцепил пионерское знамя от древка и сунул его, сложенное, как подушка, в штаны. И все было бы хорошо, если бы только во время сцены обольщения на скамейке знамя от моего комического ерзанья не вылезло бы бахромой на свет божий. Это была большая радость для публики, но все закончилось грандиозным скандалом. К счастью, все обошлось и никого из взрослых с работы не сняли.
1953 ГОД
Наступал 1953 год. Дело врачей-убийц, еврейский заговор. В поликлиниках к врачам по фамилии Шапиро или Кацман больные перестали ходить, адвокаты с аналогичными фамилиями лишались клиентов. Газеты истерически сообщали о нарастающем народном гневе по отношению к зускиндам, бронштейнам и т. д. Атмосфера сгущалась. Ждали погромов. Родители категорически запретили мне ходить по вечерам в кружок, но я все-таки вырывался, мне казалось, что они преувеличивают, что все не так уж страшно. В один из этих гнусных и тревожных дней потихоньку выскальзываю на улицу и прямо у дверей натыкаюсь на пятерых своих приятелей. Тех самых, с которыми ходил в кино, сидел на дровах и катался на самокатах.
– Привет, – говорю я.
Они молча, с застывшими лицами, становятся вокруг меня.
– Ты еврей? – спрашивает мой одноклассник Юрка Манышев.
В своей жизни я совершил очень мало смелых поступков. Если быть точным – всего два: один раз, когда я, бросив все, ушел в неизвестность к Ире Мазуркевич, и второй – когда на вопрос Юрки Манышева я ответил: «Да, еврей». Они помолчали.
– Ну ладно, вечером лучше не ходи. Попадешься – убьем.
Коля Ефимов наверное еще чувствовал какую-то симпатию ко мне, потому что спросил, давая мне еще один шанс:
– Подожди, у тебя же мать русская?
Моя мама действительно была не похожа на еврейку: сероглазая, курносая, с темно-русыми волосами.
– Нет, – отвечал я, отвергая протянутую мне руку помощи, – и мать у меня тоже еврейка.
Коля покачал головой, а я повернулся и пошел в Дом пионеров. Меня здорово трясло, но я твердо знал, что все равно буду ходить в кружок. Но на всякий случай я вооружился. Дома я разобрал старинную латунную ручку от дверей, получилось что-то вроде кастета. И я носил его в кармане все это время. Потом вдруг совершенно неожиданно объявили, что врачи-евреи ни в чем не виноваты, и зря все-таки многих из них сгноили в тюрьме. Сам я узнал об этом в школе на уроке немецкого языка.
«Немкой» у нас была Лидия Абрамовна Берлина – удивительно красивая женщина, будто с картины «Юдифь с головой Олоферна». Я имею в виду, что она была похожа на Юдифь. Диктуя что-то размеренным голосом и не торопясь, в такт словам, она прохаживалась меж рядов. Вот остановилась у Визельмана и что-то написала на его промокашке, вот подошла к Леве Фрадкину и тоже что-то написала. Дальше – Гинзбург, и та же история. Все это казалось странным, и я не сразу сообразил, что все эти ребята с «нехорошими» фамилиями. И если это так, она должна подойти ко мне. Так и есть. Я сидел на задней парте, и, подойдя ко мне, Лидия Абрамовна взяла мою промокашку и не переставая диктовать, написала: «Сейчас передали: врачи реабилитированы».
Странное чувство сопровождает меня всю мою жизнь. Не знаю даже, как его определить: то ли вина за свое происхождение, то ли стыд за то, что есть во мне какой-то первородный грех. Я стесняюсь публично признаваться в том, что люблю свою русскую родину, будто бы не имею на это права, невольно вздрагиваю от слова «еврей», как от какой-то непристойности. Помню, приехали мы на гастроли в Ростов Великий. Я вышел из автобуса и чудесным образом оказался внутри какой-то родной с детства русской сказки: ярко-голубое небо, белые уютные церкви и церквушки с нарядными золотыми и синими в звездочках маковками и весело каркающими воронами над крестами. Хотелось плакать от переполнивших меня чувств умиления и радости.
– Господи, красота какая!
На что стоявший рядом мой коллега Леня Дьячков укоризненно заметил: «Ну, чтобы это оценить, надо родиться русским».
У меня две дочери от двух браков. И я настоял, чтобы обе они взяли материнские фамилии – русские, дабы не портить себе жизнь.
Смерть Сталина. Без преувеличения – всенародное горе. Невозможно было представить себе, что же будет дальше со всеми нами. Во время сообщений о его здоровье по радио вокруг уличных репродукторов собирались люди и молча слушали, прижавшись друг к другу, хотя можно было бы слушать это и дома. Но всех тянуло на улицу, хотелось почувствовать, что ты не одинок в своем горе. Ходили разговоры, что теперь все на нас нападут и некому будет защитить страну. И если есть конец света, то вот он – наступил. Я думал и чувствовал точно так же. Но поведение отца казалось мне странным. Он молчал, не выражая горя и не уронив ни единой слезинки. Только потом я узнал, что он уже тогда догадывался, кто такой на самом деле товарищ Сталин. Еще когда Сталин был жив во время урока к нам заглянул директор школы. Приоткрыв дверь, он поискал кого-то глазами и, заметив меня, поманил пальцем. Я вышел в коридор и увидел, что у него заплаканные глаза и красный нос.
– Равикович, – сказал директор гнусавым голосом, – надо прочесть по школьному радио бюллетень о здоровье товарища Сталина.
Мы вошли в комнату, где стоял микрофон. Он взял лист с текстом и передал его мне: «На, попробуй».
Я взял текст и, испытывая неподдельное горе и желание как можно лучше передать свои чувства слушателям, начал читать его замогильным голосом, чуть подвывая и невольно подражая знаменитому диктору Левитану. Директора передернуло, как будто он наступил на голый электрический кабель. Он замахал на меня руками и заорал: «Пошел вон, идиот!» Я исчез, а он остался, заливаясь слезами.
К своему крайнему удивлению и негодованию, я узнал, что не все разделяют скорбь и горе по поводу смерти вождя. Соседка с возмущением рассказывала, что у нашего дома в садике какие-то мужики распивали водку и один из них и говорит: «Наконец-то сдох, сволочь». И чокнулись. Это было дико, невероятно. Я бы задушил таких мерзавцев собственными руками. Вот таким я был в пятьдесят третьем году. Так я был воспитан советской властью и родной коммунистической партией.
ПОСЛЕДНИЙ В СПИСКЕ
Наступил последний год моей школьной жизни. Родители усилили свой натиск на меня, требуя успехов на ниве просвещения. Но я не баловал их хорошими отметками, что их очень огорчало. Необходимость получить высшее образование висела надо мной и отравляла жизнь. Я не хотел больше учиться, я был сыт учебой по горло, но в те годы не иметь высшего образования было неприлично. Нет, деньги тогда не имели решающего значения, во всяком случае, такого, которое имеют сейчас. Престиж, положение в обществе – вот что давали «корочки». Чем солидней институт, тем лучше. В первом ряду самых уважаемых вузов были технические: Кораблестроительный, Горный, Железнодорожный, Оптико-механический, ЛЭТИ. Здесь по окончании гарантировались высокие зарплаты, казенная форма с погонами, ведомственные больницы и санатории. Сюда же относились и военные училища. Конкурс в них был огромный: одежда и питание – казенные, ранняя пенсия. Холодильный институт, хоть и был техническим, считался «пожиже», вместе с Технологическим и Текстильным. Гуманитарные вузы котировались на порядок ниже технических. Педагогические институты, иностранных языков, филологические, исторические не пользовались спросом. Максимум, на что могли рассчитывать их выпускники, – на работу учителем в школах с копеечной зарплатой.
– Не попадешь в институт, будешь клозэты чистить! – кричал отец, не понятно почему заменяя русское слово «уборная» на иностранное – «клозет». Причем «Е» он произносил, как «Э». Я маялся, не зная, куда же мне податься. Собственно, выбор у меня был небольшой. Университет отпадал по многим причинам. Даже если бы я был отличником, «пятый пункт» в анкете закрывал мне двери в этот храм русской науки. В середине пятидесятых годов был такой анекдот. У армянского радио спрашивают: «Что такое чудо-юдо?» Ответ армянского радио: «Чудо-юдо – это еврейский ребенок, поступивший в университет».
Так куда же идти? В «хлебные» институты я не выдержу конкурса. В армию – не хочу. Остается педагогический, потому что в медицинском тоже действовал «пятый пункт». Получалось, что, уйдя, наконец, из опостылевшей школы, я снова возвращался в нее, только с другой стороны. А хотелось мне иного. Я представлял себя водителем большого грузовика, к примеру «студебеккера». В кабине тепло, пахнет смесью бензина, моторного масла и горячего железа. Большой руль, рокочущий двигатель, передающий свою могучую дрожь всей машине, покорной и послушной моей воле. Я сижу в ней один, большой, слегка усталый – настоящий мужчина, и бесконечная дорога с полями и перелесками на обочине ложится под колеса моей машины.
Ну, если не шофером, то я бы не возражал стать адвокатом. На меня сильное впечатление произвела книга «Избранные речи русских адвокатов». Особенно речь Плевако на процессе Веры Засулич из «Народной воли». Мне казалось, что я хорошо бы смотрелся в длинной черной мантии, с неподражаемым красноречием и выразительными жестами громящий аргументы обвинения и вызывающий восхищенные возгласы публики, особенно ее женской половины. Решение, куда поступать, пришло случайно.
– А почему бы тебе не пойти в театральный институт? – предложила мне Маргарита Федоровна, руководитель моего драмкружка. – У тебя, безусловно, есть способности, будешь артистом.
Мне эта идея показалась совершенно неожиданной. Я никогда не хотел быть актером. Я ходил в кружок и играл роли, но только потому, что очень ценил общество ребят, и мне было там хорошо и интересно. Ну, играл. С тем же успехом я мог бы ходить на стадион и заниматься спортом. Но стать профессионалом? А с другой стороны, почему бы и нет, если мне все равно куда, а родителям так хочется «иметь у меня» высшее образование.
Был уже апрель, и я поехал в институт на Моховую, 34, узнать что и как. Начинались консультации, прослушивания желающих поступить в институт. Я стоял у входа и читал разные объявления. Было тепло, и кучка студентов и таких же как я абитуриентов, уже без зимней одежды, курили и весело переговаривались. Рядом со мной стояли два уже довольно взрослых человека, думаю, лет двадцати с лишним, и тоже курили. В руках они держали портфели. Вдруг один из них обратился ко мне с вопросом: «Хотите поступать, молодой человек?»
– Вообще-то, хочу.
– Позвольте спросить, на какой факультет? – Он был очень вежлив.
– На актерский.
– Слышите, Владимир Иванович, – он повернулся к своему товарищу, – вот ваш будущий студент.
Так началось мое знакомство с двумя шутниками и лоботрясами. Выпускниками-режиссерами, любителями злых розыгрышей, один из которых чуть не стоил мне поступления в театральный институт. К несчастью, кто они такие, я узнал намного позже, а тогда сердце мое радостно екнуло, и я уставился на Владимира Ивановича.
– Вы приготовили что-нибудь для консультации? – Он прищурился и окинул оценивающим взглядом всю мою фигуру, включая тюбетейку на голове. Я замялся.
– Как?
– Вы знаете, необходимо приготовить прозу, стихотворение, басню и что-нибудь спеть.
Я ничего этого не знал.
– Вообще-то я знаю наизусть рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», мы его играли в самодеятельности, – обрадовавшись, вспомнил я.
– А! Прекрасно, – сказал Владимир Иванович, – хотите, я вас послушаю?
Я был счастлив.
– Ну, тогда прочитайте. – И он приготовился слушать. Я был несколько удивлен этим предложением: выступать у дверей, на ступеньках, когда мимо без конца ходят люди. Но, отбросив в сторону все возникшие сомнения, я бодро начал: «У отставного генерала… разболелись зубы…» Я читал громко, очень стараясь понравиться, изображая попеременно то генерала с распухшей щекой, то приказчика, и остался собой очень доволен. Между тем двери постоянно открывались и закрывались, туда-сюда сновали люди и удивленно на меня оборачивались. Потом переводили взгляд на моих экзаменаторов, загадочно ухмылялись и шли дальше. Наконец я закончил и с надеждой посмотрел на Владимира Ивановича.
– Ну что же… – задумчиво произнес Владимир Иванович, глядя куда-то ввысь, – м-м-м, неплохо, но должен вам сказать, что у вас явное расхождение между вашими данными и репертуаром.
– В каком смысле, я не очень понимаю?
– А вы посмотрите на себя. У вас внешность тюзовского героя: отличника, комсомольца, борца с подсказками, не правда ли, Константин Сергеевич?
– Да-да, – закивал Константин Сергеевич, – настоящий положительный герой.
– А вы зачем-то губите свои редкие данные, пытаясь быть смешным, – продолжил Владимир Иванович. – Думаю, что с этим рассказом у вас никаких шансов поступить нет. Надо менять репертуар на героический.
Дальше я, завороженный таким дружеским участием в своей судьбе, безоглядно следовал всем их советам, и, к счастью, пройдя два тура еще на «Лошадиной фамилии», к третьему уже был во всеоружии. Что из этого получилось, я обязательно расскажу.
Дома отец по-прежнему пугал меня «клозэтами», а когда я сказал, что решил стать артистом, он разбушевался еще больше.
– Идиот, – надрывался отец, – что это за профессия – артист! Это же не мужская профессия! Когда в Глухов приезжали артисты, это было как холера. Они воровали все подряд! Белье на веревке нельзя было оставить! Хуже цыган! Тебе нравится быть нищим? Так ты будешь!
Мать молчала, но по косвенным признакам было видно, что она меня одобряет. Через некоторое время отец объявил мне свой вердикт:
– Я выбрал тебе институт. Ты будешь поступать в Институт киноинженеров. Это тебе и кино, и нормальная инженерная специальность.
Бедный папа не знал, что никакого отношения ни к кино, ни к театру этот институт не имеет. Он готовил специалистов, чтобы делать кинокамеры, пленку, микрофоны, осветительную аппаратуру и прочее. Я не стал спорить, у меня была припасена маленькая хитрость: в театральный институт можно было предъявить лишь копию аттестата зрелости. Что я и сделал. А оригинал отнес в институт киноинженеров, где он и провалялся все лето. Увидев расписку, что аттестат – в институте киноинженеров, отец успокоился. Но ненадолго.
– Как экзамены? – спрашивал папа.
– Очень хорошо, – врал я, ни разу даже не появившись в институте. Но однажды, придя вечером домой, я почувствовал, что случилось что-то нехорошее. Отец стоял посередине комнаты и держал в руке какую-то бумагу.
– Мерзавец,– сказал отец трагическим голосом, – вот так ты очень хорошо сдаешь экзамены? – и он потряс бумажкой. Я взял ее и прочел: «Равиковичу А. Ю. В связи с тем, что вы не прошли медосмотр, к приемным экзаменам вы не допускаетесь. Приемная комиссия». Скандал последовал долгий и тяжелый. После чего на состоявшемся семейном совете было решено, что делать нечего. Надо пробиваться хотя бы в Театральный институт.
И вот наконец третий тур. У меня новый репертуар, кристально-героический, и я абсолютно уверен в успехе. Ну а как же иначе? Меня курировали мои нежданные дорогие друзья – Владимир Иванович и Константин Сергеевич. С момента нашего знакомства мы еще дважды встречались, и они с готовностью учили меня, как нужно правильно читать и как лучше держаться перед комиссией. Более того, они посоветовали мне, чтобы уж совсем покорить экзаменаторов, прибить к ботинкам что-нибудь вроде платформы, чтобы стать выше и выглядеть настоящим тюзовским героем.
В аудиторию № 5 впускали по пять человек. Я вошел в большой светлый зал и увидел за длинным столом, покрытым зеленым сукном, созвездие знаменитых ленинградских артистов. Боже ты мой! Вон сидит Аркадий Райкин, рядом с ним – Василий Меркурьев, Юрий Толубеев, Николай Симонов. Еще какие-то знакомые, но неопознанные лица. Все улыбаются. Из окна льется солнечный свет, отражаясь на красивом натертом паркете.
– Пожалуйста, присаживайтесь на стулья у стенки. Первой у нас будет, – председательствующий посмотрел в бумажку, – Тараканова Елена. Пожалуйста, – он снова улыбнулся и сделал жест рукой, приглашающий на середину зала.
Тараканова – высокая, довольно дородная девушка со светлыми волосами, заплетенными в тяжелую косу, встала со стула и вышла на середину.
– Что вы нам приготовили? – спросил председатель.
– Я прочту отрывок из романа Льва Николаевича Толстого «Воскресение», – сказала Тараканова голосом ведущей филармонического концерта.
Она закрыла глаза и постояла минуту, готовясь к выступлению. И вдруг тишину разорвал истошный вопль. Я испугался и не сразу понял, что этот вопль издает Тараканова. За столом тоже все вздрогнули и с испугом на нее посмотрели. Лицо ее было искажено какой-то жуткой гримасой. Слезы ручьем потекли из глаз. Они падали на ее высокую грудь, обтянутую платьем из плотной тафты, и, не впитываясь, как с карниза стекали вниз с шумом небольшого водопада.
– «Катюша Маслова, – рыдала Тараканова, заходясь от горя, – увидела Нехлюдова»… – Дальше ничего понять было невозможно из-за всхлипов, стонов и рыданий. Я сидел, вжав голову в плечи. Мне было страшно неловко. Эти слезы не вызывали никакого сочувствия, наоборот, было стыдно и омерзительно смотреть на этот припадок. У меня было чувство, как будто бы я невольно подсмотрел в замочную скважину что-то очень непристойное. Я тогда еще смутно понял, что настоящие слезы в жизни и настоящие слезы на сцене – это совершенно разные вещи. Уже потом, спустя много времени, я пришел к мысли, что искусство, каким бы оно ни было правдивым, – всегда есть всего лишь игра. Игра, иногда требующая напряжения всех твоих душевных сил, но все равно остававшаяся игрой, остававшаяся радостью. Это я понял потом, а тогда только смутно ощутил, глядя на безутешную Тараканову с ее рыданиями и слезами, которыми она, наверное, очень гордилась.
Я выступал предпоследним. Аккуратно, почти не поднимая ног, я заскользил к центру зала. У меня к ботинкам были прибиты отцом толстенные подошвы из двух слоев китовой кожи. Они увеличивали мой рост сантиметра на три (это был вклад папы в мое высшее образование). Ботинки были очень тяжелые и скользкие и почти не гнулись. Было ощущение, что на ногах у меня небольшие лыжи. Выдвинувшись на середину аудитории, я объявил: «“Тарас Бульба”! Отрывок», – затем, сделав рукой красивое движение, как будто я открывал дверь, я застыл в этой позе с откинутой в сторону левой рукой и начал:
– «Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк – краса всех конных полков».
Правой рукой я сделал козырек над глазами, будто от солнца, и, глядя в глаза сидящих передо мной членов комиссии и гостей, начал разыскивать от имени Тараса Бульбы своего сына Андрия, летящего во главе польских гусар на горячем коне. Этому приему научили меня Владимир Иванович и Константин Сергеевич. Они же научили меня говорить таким же голосом, каким дама в филармонии сообщает слушателям: «Бах! Опус четвертый ля минор. Исполняет…» – громко, с некоторым надрывом, нараспев и четко выговаривая каждую букву. Дойти до слов Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью» – мне не дали.
– Спасибо, достаточно,– сказал председатель комиссии. – Какое стихотворение вы нам прочтете?
Я снова сделал тот же красивый жест рукой и начал: «В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето. Была жара, жара плыла, на даче было это». У меня осталась некоторая досада от того, что мне не дали дочитать «Тараса Бульбу», и стихотворение Маяковского я читал с еще большим надрывом, стремясь полностью покорить публику силой своего искусства. На этот раз меня прервали еще раньше. У меня забрезжило ощущение, что им не нравится, как я читаю. Я отогнал от себя это сомнение, и на вопрос, какая у меня басня, гордо ответил: «Волк на псарне». Это была самая героическая басня из всех написанных Крыловым, и я читал ее очень хорошо, попеременно изображая то Кутузова, то волка, то псарей. Это была козырная карта в моем героическом репертуаре. И снова, «открыв дверь» рукой и сделав страшное лицо, я произнес: «Волк ночью…»
– Большое спасибо. Можете сесть.
Я стоял и ничего не понимал. То есть я понимал, что провалился, что меня даже не дослушали, но почему? Я ведь так хорошо читал! И если я сейчас не придумаю что-нибудь, чтобы понравиться всем этим людям, то это все. Конец.
– Я еще не пел! – попробовал я уцепиться за последнюю возможность остаться и что-то изменить в своей судьбе.
Председатель с улыбкой повернулся к соседям, и те, тоже улыбнувшись в ответ, закивали головами, а Райкин сказал: «Ну что ж, пусть поет».
Песня у меня тоже была героическая – «По долинам и по взгорьям». Концертмейстер, милая пожилая женщина, села к пианино, сыграла короткое вступление и, сильно мотнув головой, дала мне знать, что я могу начинать петь. Она даже вместе со мной открывала рот и беззвучно пела известные слова, желая помочь мне не сбиться с ритма. С ритма я не сбился, но начал петь в другой тональности. Выше, чем надо. Я увидел, как сидящие за столом враз слегка пригнулись и сморщились, как от кислого. Пианистка, ее звали Тамара Фирсовна, наоборот, сделала глаза большие и страшные. Я понял, что я делаю что-то не так. Тут Тамара Фирсовна, желая выручить меня, подхватила мою тональность, и на пару тактов мы совпали. Но, вспомнив ее страшное лицо и услышав изменения в музыке, я решил, что, видимо, тоже надо петь повыше, что я и сделал. Тамара Фирсовна не сдавалась: она снова скорректировала тональность. Но я тоже был не промах. Каждый раз, когда я чувствовал изменения, я воспринимал это как сигнал петь еще выше. Куплетов в этой песне очень много. Фактически, это подробное описание победы советской власти в Сибири и Приморье. И когда наше с Тамарой Фирсовной соревнование «кто выше» заканчивалось, я уже не пел, а по-волчьи задрав голову, чтобы легче было брать высокие ноты, истошно выл:
«И останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни».
Вымотанный этой сумасшедшей гонкой за Тамарой Фирсовной, мокрый от напряжения, я наконец опустил глаза и увидел довольно странную картину: часть публики, скрючившись в разнообразных позах, задыхалась и стонала от смеха. Женщины, одной рукой вытирая размазанную от слез тушь, другой слабо махали на меня, видимо, желая, чтобы я или замолчал, или исчез. Тамара Фирсовна вытирала лицо рукой и тяжело дышала. Это был позор. Это был конец не только моему высшему образованию, это был конец моему уважению к себе как к человеку. В ботинках на платформе, на негнущихся ногах я покинул это проклятое место. Домой идти я не мог. Всю ночь я просидел на Фонтанке, на спуске набережной к реке без мыслей и без чувств. Стояли белые ночи, и за моей спиной ходили и смеялись счастливые люди, не знающие, что такое позор и отчаяние. Под утро я вернулся домой и тихонько, никого не разбудив, лег спать. В десять часов раздался телефонный звонок. Никто не брал трубку, и я, чертыхаясь, побрел к телефону.
– Толя, Толя, – услышал я взволнованный голос Олега Мищука (мы с ним познакомились на приемных экзаменах), – где ты, гад? Нас приняли! Только что вывесили списки! Алло! Алло! Ты меня слышишь?
– Да, – выдавил я, не веря ни единому слову.
– Приезжай сейчас же! Ты что – спишь?
В вестибюле института народ толпился у доски объявлений. Я подошел и прочел: «Список принятых на первый курс актерского факультета. Класс проф. К. П. Хохлова». Дальше следовал список из двадцати четырех фамилий, напечатанных на машинке. В самом конце списка была еще одна фамилия, двадцать пятая. Она была не напечатана, а написана от руки – Равикович. Это была моя фамилия.
Первого сентября 1954 года мы сидели на стульях (мы – это двадцать пять свежих студентов Театрального института), образовав полукруг, и ждали мастера. Мастером называли руководителя курса. Мы его еще толком не видели. Он руководил Киевским театром имени Леси Украинки и до последнего момента сидел в Киеве, сдавал дела. Приехал только уже на третий тур, и мы его видели лишь за столом приемной комиссии, да и то мельком. Мы знали, что его назначили главным режиссером БДТ, что он знаменитый в прошлом артист немого кино и что зовут его Константин Павлович Хохлов. И вот отворилась дверь, и в аудиторию в сопровождении декана факультета вошел наш мастер.
Сразу было видно, что он из кино. Причем немого. Где элегантные мужчины во фраках и красивые томные женщины, не останавливаясь, пьют шампанское, страдают от любви и среляются из пистолетов. Наш мастер был высоким, статным мужчиной лет под шестьдесят, с белоснежной гривой седых волос, гладко зачесанных назад, с крупными, правильными чертами лица и смоляной черноты бровями, придававшими его лицу несколько суровое выражение. Говорили, что он был частым партнером Веры Холодной, знаменитой артистки немого кино, и даже сейчас, спустя много лет, в это можно было поверить. Одет он был в темно-синий костюм с жилетом, светлую сорочку с алой бабочкой и такого же цвета платком в кармашке. Конечно же, он был человеком из другого мира. Я посмотрел на своих однокашников в мятых спортивных брюках с резинкой внизу, поношенных туфлях, ботинках, а то и тапочках, и мне стало неловко неизвестно почему – вся страна так одевалась.
Мы встали, потом по его знаку сели, а он, заняв приготовленный ему стул в центре полукруга, поздравил нас и стал рассказывать свои впечатления о прошедшем экзамене, и каждому говорил, что ему понравилось в нем, а что нет. И когда очередь дошла до меня, Константин Павлович сказал: «Буду с вами откровенен: вы показали себя очень плохо. Ну, право же, посмотрите на себя. Ну что у вас общего с Тарасом Бульбой? И что вообще в ваши годы вы можете знать об отцовских чувствах, о муках, которые испытывал этот человек, видя предательство своего родного сына, и что значило для него решиться на убийство. Я не знаю никого из ныне живущих актеров, ну, пожалуй, за исключением Симонова, кому было бы под силу сыграть трагедию Тараса Бульбы. Повторюсь, я не хотел вас брать, но в самый последний момент, вспомнив, как вы пели (тут Константин Павлович улыбнулся), я решил все-таки дать вам шанс. Вы выглядели таким замечательным… – Он остановился, подбирая слово, –…обаятельным идиотом, что заразили всех. Это хорошее качество для артиста. Но помните: я вас взял условно, доказывайте свое право быть артистом. Впрочем, – он оглядел всех, – это относится к каждому из вас».
Ох, и долго же мне пришлось ждать того часа, когда я смог сказать себе вполне уверенно, что имею право называть себя артистом. Это случилось не в институте и даже не в первом моем профессиональном театре, а много позже – уже когда я работал в Театре имени Ленсовета с Владимировым и Фрейндлих.
ИНСТИТУТ
Четыре институтских года. Что они дали мне? Не так уж и много. Очень сильно развили меня в музыкальном и движенческом направлении, я получил, может быть, не очень глубокие, но системные знания по русской и иностранной литературе, философии, истории, изобразительному искусству и даже политэкономии. Но главному, чему, наверное, и должен был научить институт, – психотехнике или, если хотите, системе Станиславского, он меня не выучил. И еще: я по-прежнему не знал, кто я как артист. Какие у меня сильные стороны, а какие слабые. Кого я должен играть – Гамлета или Полония, а может, могильщика? Ответы на эти вопросы мне суждено было еще получить. Помочь познать себя, пусть не до конца – вот, на мой взгляд, главная задача театральной школы, а не сценречь или сцендвижение – выдуманные дисциплины.
Танец у нас вела Зинаида Семеновна Стасова, бывшая балерина уже в летах, но не утратившая женского шарма. Она наверное была бы хорошим педагогом для балетного училища, но для нас, будущих артистов драматических театров, криворуких и колченогих, слишком хороша. Ей нравились высокие, статные ребята с длинными ногами, ими она и занималась. Мы же, то есть всякие комики, травести, характерные, чересчур толстые или не в меру длинные, были у нее в загоне. Еще когда мы танцевали какую-нибудь польку или деревенскую кадриль, она с нами мирилась. Но когда речь шла о благородных танцах – паване, мазурке или испанском, она не могла вынести нашего убожества и брезгливо отворачивалась. Мы оскорбляли ее утонченный вкус. Я это хорошо чувствовал и танцевал еще хуже, чем мог. Особенные мучения вызывал у меня испанский танец. Когда Юра Алексеев, наш лучший танцор, на чуть согнутых ногах, уперев руки в талию и с красиво откинутой назад головой, длинными шагами выходил на середину зала, вставал в позу и приглашал даму, я думал: «Ну ладно, он будет играть Дон Жуана, ему нужно уметь быть красивым, чтобы произвести впечатление на очередную жертву, а мне, зачем это мне? В лучшем случае, я буду его слугой Сганарелем или Лепорелло, мне бы научиться чему-нибудь попроще». Те м более, когда я сгибал ноги в коленях и мелкими шагами семенил к центру, возникало ощущение, что я не успеваю добежать до туалета. Но Зинаида Семеновна не учила нас танцу Сганареля и требовала повторить, как Юра Алексеев, а потом злилась, что у меня так не получается.
Фехтование и сцендвижение вел Иван Эдмундович Кох, человек легендарный. Он был уже стар – за семьдесят, с совершенно лысой маленькой головой, тонкими губами и отсутствующим подбородком. Он был похож на черепаху. Когда-то, чуть ли не при царе, он был чемпионом Петербурга по фехтованию на шпагах, вел светский образ жизни и теперь консультировал всех желающих по вопросам этикета и вообще обо всем, что было до революции. Больше всего он любил поговорить о прошлой жизни, о женщинах и с удовольствием поддавался на наши провокации что-нибудь рассказать вместо занятий.
– Иван Эдмундович, а устриц ели? – спрашивал кто-нибудь, кому надоело махать шпагой.
– Ел, – охотно откликался Иван Эдмундович.
– И на что это похоже?
Иван Эдмундович садился на стул и, не торопясь, объяснял:
– Это похоже… ну, представьте, в морозный день вы выходите на крыльцо, дышите носом, а потом все, что у вас там образовалось, проглатываете. Вот это и есть устрицы.
– А артишоки вы ели?
– Ел и артишоки. Это такие овощи, вкусом напоминающие грязные пальцы, если их пососать.
– Иван Эдмундович, а как правильно по этикету: если у меня осталось немного супа и я хочу его доесть, куда лучше наклонить тарелку – к себе или от себя?
– Это зависит от того, кого вы хотите облить. Если человека напротив – наклоняйте от себя. А если свои штаны – тогда к себе. Никуда наклонять не надо, попросите, чтобы налили еще.
Иван Эдмундович гордился тем, что сцендвижение как дисциплину он придумал сам. До него в школе преподавали только фехтование. Мы учились под музыку ходить походкой чиновника девятнадцатого века. По Коху получалось, что все чиновники ходили одинаково.
Сольное пение вела тоже бывшая оперная певица Ольга Ивановна Комарова. Она, как и Зинаида Семеновна Стасова, не понимала, что никто из нас не собирается петь в опере. Она упорно ставила всем оперный голос и сетовала, что ничего из этого не получается. Мне она объявила:
– У вас на курсе одни баритоны. Мы не сможем спеть ни одного ансамбля. Мне нужны тенор и бас. До баса вы не дотягиваете, а вот тенором вам придется стать – больше некому.
И я был назначен тенором. Полкурса приходило к аудитории, где я занимался пением с Ольгой Ивановной, и, стоя в коридоре у дверей, все страшно веселились. Ольга Ивановна выбирала для меня романсы, которые я не мог петь при всем желании. Например, «К розе» Спендиарова. Это такое сладкое, на восточный манер, объяснение в любви, заканчивающееся высоченной нотой. «Молю, позволь тебя с куста, дивная роза, сорвать. Чтобы любимой девы грудь пышно украсить тобой!» Иногда мне удавалось взять эту ноту ля второй октавы, но ценой дикого крика.
– Нет, – требовала Ольга Ивановна, – вы орете, а должны нежно просить.
И Ольга Ивановна сцепляла перед собой пальцы рук и показывала, как я должен просить: рот у нее делался круглым, нижняя челюсть при этом частично втягивалась, она жеманно склоняла голову, а лицо приобретало сладко-плаксивое выражение. Потом она протягивала ко мне руки, как бы умоляя, и одновременно с этим в животе у нее рождался и нарастал глухой звук, который пытался вырваться наружу, но, обессиленный, затихал. Я пробовал просить, тогда нота не получалась, и я повторял свой крик. И все начиналось сначала. Я умолял ее перевести меня в баритоны, но тщетно.
Зато преподавание русской литературы и театра, иностранной литературы и театра были замечательны. Два моих любимых профессора читали лекции по этим предметам – Успенский и Смирнов. Успенский был братом известного литературоведа Глеба Успенского, чья книга «Слово о словах» была в то время бестселлером. Глядя на него, можно было подумать, что на самом деле он играет роль рассеянного ученого, причем так, как это делают плохие артисты: с полным набором штампов и страшно наигрывая. Растрепанный, в мятом костюме с коротковатыми ему брюками, сутулый, с наклоненной по-птичьи головой, в перекошенных на переносице очках – в общем, полный набор. Спускаясь по широкой мраморной лестнице туда, где находился туалет, он по рассеянности начинал расстегивать ширинку в самом начале этой мраморной лестницы, около стоявшего бюста Ленина. Увидев бюст, он пугался, спохватывался, что-то бормотал, извиняясь, и, закрывшись портфелем, торопливо сбегал вниз в туалет. Но как он любил русскую словесность! И как хотел передать, научить этой любви нас, тупых и нелюбопытных. Когда вышла повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», он принес ее в институт и вместо лекции читал нам, захлебываясь от волнения.
Борис Александрович Смирнов, читавший курс зарубежного театра и литературы, был антиподом Успенского. Во-первых, он безукоризненно одевался. Во-вторых, был очень сдержан и читал лекции безучастным голосом, чуть нараспев, глядя мимо нас поверх голов, каким-то воображаемым студентам, умным и любознательным, потому что Борис Александрович почти не скрывал иронического отношения к будущим артистам и отбывал с нами постылую обязанность. На экзаменах он никогда не слушал ответов, а просил зачетку и ставил «четыре». Причем всем. А «четверку» ставил потому, что имея «тройку», вы не получали стипендии. Но какими красочными, живыми, выпуклыми были его рассказы о давно минувших временах, сколько удивительных подробностей в них было. Как будто Борис Александрович сам видел все это собственными глазами и не далее, чем вчера оттуда вернулся. Довольно часто я ловил его в коридоре и приставал с вопросами. Однажды я сунулся к нему с восторгами по поводу «Оптимистической трагедии» в театре им. Пушкина, поставленной Товстоноговым.
– Но ведь все это заимствовано у Таирова, – сказал Борис Александрович, – и косой пандус сцены, и «матросский вальс», все из того спектакля, где Коонен играла Комиссара.
Я не знал, кто такой Таиров – мы его еще не проходили.
– Так вы считаете, что сам Товстоногов не талантливый режиссер?
– Почему же, у него есть чутье на чужие талантливые идеи, а это тоже талант, – сказал Борис Александрович и пошел дальше.
Вообще в то время в институте было много ярких, выдающихся личностей. Великим педагогом был Борис Вульфович Зон. Это был человек с драматической судьбой. Основатель и руководитель театра «Новый ТЮЗ», страстный последователь Станиславского, он был снят с работы, чудом избежал лагерей и долго не мог найти пристанища. Наконец, к счастью, его взяли в институт, и он воспитал целую когорту замечательных актеров: Зинаиду Шарко, Игоря Владимирова, Эммануила Виторгана, Наталью Тенякову, Алису Фрейндлих и много, много других, не таких, может быть, знаменитых, но владеющих всеми навыками профессии. Существовало даже такое понятие – «зоновская школа». Это было как знак качества.
Борис Вульфович был застенчив и деликатен. Близорук. И, проходя мимо, всегда с улыбкой раскланивался с любым, кто встречался ему на пути, и с незнакомыми людьми в том числе. Он страдал гемофилией (несвертываемостью крови), и поэтому был очень осторожен, чтобы, не дай бог, не пораниться. Жил он одиноко, посвящая себя только творчеству, – иначе его работу не назовешь. При том, что он был уже пожилым человеком, было видно, что он все еще проявляет интерес к хорошеньким женщинам и очень смешно с ними кокетничает. Разговаривая с кем-нибудь из дам, он склонял элегантно туловище в легких поклонах то в одну, то в другую сторону, перетаптывался ногами и теребил галстук-бабочку.
Колоритнейшей фигурой был и Леонид Федорович Макарьев. Внешне он напоминал Вольтера со всегда язвительной улыбкой на тонких губах. Говорил он, акцентируя каждую букву, скрипучим голосом, прекрасно одевался, имел безупречные манеры, правда, несколько театральные, и слыл очень светским человеком. Знал языки и раньше много ездил по Европе. Я застал его уже на склоне лет, и ребята с его курса жаловались, что он редко у них бывает, а когда бывает, то больше рассказывает о своих путешествиях и знакомых, чем занимается с ними актерским мастерством. Иногда он поражал всех точностью и глубиной формулировок. Например, разбирая как-то наш дипломный спектакль, он сказал: «Искусство актера – это искусство молчания». Это замечательные слова, и я запомнил их на всю жизнь. С Борисом Вульфовичем Зоном у него было соперничество за лидерство в институте, но никогда ни тот ни другой не позволили себе проявить это внешне. Так случилось, что зоновский курс был на год нас старше, а макарьевский – на год младше. Конечно, это было невезенье. Наш Константин Павлович был старым, усталым человеком. К тому же он приходил к нам после репетиций у себя в БДТ и не сразу включался в нашу курсовую жизнь. Иногда, сидя за столом, он засыпал и даже похрапывал. Спустя полтора года он заболел и умер, и никто не хотел нас брать. Временно с нами работали разные случайные люди, но все это было без взаимной любви, а без любви невозможно работать в театре, а тем более в театральной школе, где для тебя твой мастер как отец, а однокашники – как братья и сестры. Но все равно я вспоминаю институт с большой теплотой. Молодость, надежда, дружба, любовь – все это было, и все вместилось в эти четыре года.
Но вернусь к началу. А сначала на занятиях по актерскому мастерству мы делали этюды с воображаемыми предметами. Это маленькие сценки, где взаимодействуешь с воображаемыми предметами. Например, ставишь воображаемый чайник на воображаемую плиту, зажигаешь воображаемой спичкой газ, повернув воображаемый вентиль, и дальше повторяешь все действия, как в жизни, – наливаешь кипяток, засыпаешь заварку, кладешь сахар и, наконец, взяв в руки стакан, пьешь. Эти упражнения делаются для развития внимания, мышечной и эмоциональной памяти. Я решительно не понимал, зачем нужно заниматься всей этой ерундой.
Вкусивший славы в спектаклях драмкружка, имевший в репертуаре ряд ролей в спектаклях по Островскому и Чехову, я был даже оскорблен, что вместо настоящих репетиций мне предлагают какие-то упражнения. Пару недель я отказывался их делать из принципа, но когда выяснилось, что по ним будет зачет, сдался.
Между тем многие приносили и показывали свои этюды: пришивали воображаемые пуговицы, вдевая в воображаемую иголку воображаемую нитку, кололи воображаемые дрова, доили воображаемых коров, ввинчивали воображаемые лампочки и т. д.
Один парень, Абросимов, показал этюд, который он назвал «часовщик». Он сел за стол, затем достал из воображаемой коробочки воображаемую линзу, как бы вставил ее в глаз, сильно прищурился, взял в руки часы, послушал их, покачал головой, потом резко склонился почти к самому столу и стал что-то ковырять, как бы в часах. Что он там ковырял, было совершенно не видно, потому что голова Абросимова совершенно заслоняла его руки. Так продолжалось минут десять. Иногда он вытягивал руку из-за головы, что-то брал из коробочки и снова утыкался себе под нос. Спустя еще минут пять он выпрямился, вынул из глаза линзу и сказал: «Готово». Константин Павлович был ошеломлен.
– Абросимов, вы их правда починили? – спросил он.
– Конечно, – гордо сказал тот.
Этот этюд стал любимым этюдом Константина Павловича, и он часто просил Абросимова показать ему «часовщика» и каждый раз благоговейно спрашивал в конце: «Починили?»
Был, кроме меня, еще один человек, иронически относившийся к этюдам, – Борташевич. Он только ухмылялся и качал головой, глядя, как все проделывали свои манипуляции с воображаемыми предметами. Наконец Константин Павлович укоризненно заметил: «Борташевич, а что вы себе думаете? Через неделю зачет, а вы не показали мне ни одного этюда. Вы что, так уверены в своих силах? Хотите показать его прямо на зачете?» Борташевич встал и тоном человека, которого беспокоят по пустякам, сказал: «Да, пожалуйста». Он вышел на середину, снова ухмыльнулся и пошел в правую кулису. Дойдя до нее неторопливым шагом, он повернулся и пошел обратно. Дойдя до левой кулисы и снисходительно посмотрев на Константина Павловича, отправился в обратный путь. Он ходил минут пять туда и обратно, изредка поглядывая на публику и покачивая с улыбкой головой. Наконец он остановился. После некоторого молчания Константин Павлович осторожно спросил: «Ну, и что это было?» Борташевич аж задохнулся от удивления и громко воскликнул: «А вы что, не поняли? Лошадь в загоне!»