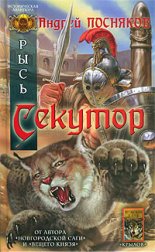Негероический герой Равикович Анатолий

«Повешу сам», – решил я, но смолчал.
Я принес из гримерной проволочную корзину для мусора, одел ее на лампочку, а сверху накинул Ирину шелковую косынку – получился абажур. И провисел он, пока Ира не получила комнату на Гороховой улице.
Комната была небольшая, поэтому нашу свадьбу мы устроили в квартире Алисы Фрейндлих. Она тогда уже жила одна, без Владимирова, и сама нас позвала. Веселой нашу свадьбу не назовешь. Ира приревновала меня к одной пожилой даме, Норе Райхштейн – режиссеру нашего театра, которой я поцеловал руку, и проплакала часа два, запершись в ванной.
А еще нам подарили две коричневые натуральные козьи шкуры, как накидки для кресел. На обратной стороне, то есть на мездре, все присутствующие оставили свои автографы. Шкуры были красивые, но воняли, «как десять тысяч братьев». Гриша Турчин клялся, что через день запах выветрится, что просто это очень свежие шкуры дикой алтайской козы, занесенной в Красную книгу. Но, видимо, эти козы были все-таки козлами. И что мы потом ни делали с ними (держали целую зиму на балконе, поливали дезодорантами) – запах только усиливался. В результате, мы их спустя лет пять выбросили.
Так вот, первое время, когда мы еще встречались тайно от всех, нашим убежищем был трамвай № 28. Он останавливался недалеко от театра, и днем или вечером после спектакля мы в него садились и ехали до самого кольца. Стояли морозы, и я видел, что Ира мерзнет в своем демисезонном пальтишке невнятного темного цвета. Я смотрел на ее лицо, на посиневший от холода нос, и она казалась мне совсем девчонкой.
– Ира, давай купим тебе какую-нибудь куртку.
– Нет-нет, мне совсем не холодно.
Я рассказывал ей про себя, она – про себя. Я узнал, что родилась она в Белоруссии, в Мозыре – городе, где жила когда-то семья моего отца. Мне показалось это каким-то хорошим знаком. Что в пятнадцать лет после восьмого класса уехала учиться в Горьковское театральное училище. Что она уже снялась в двух фильмах: «Чудо с косичками» про Ольгу Корбут и «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил». Я не видел ни того ни другого. Что она во время съемок подружилась с Высоцким и пересмотрела весь репертуар Таганки. Что семья ее сейчас живет в Минске, и у нее есть два брата, но она старшая.
– А Высоцкий тебя клеил?
– Я ему нравилась.
– А он тебе?
– Нравился, но не в том смысле, в каком ты думаешь. Он был для меня просто хорошим партнером, замечательным артистом, старшим товарищем. Он мне много помогал на площадке. По-моему, ему нравилось, что я такая дремучая, и до знакомства с ним ничего о нем не слышала. Я бывала у него дома, он давал читать мне разные книжки и даже подарил сборник стихов Цветаевой.
– Почему не свои?
– А я очень люблю Цветаеву и переписывала в тетрадь все, что можно было в Горьком в читальном зале достать. А у него стояли коробки с книгами, изданными в Париже.
– А как же муж? – не удержался я, ставя себя на место ее парня и ревнуя.
– Вы дурак, Анатолий Юрьевич, – сказала Ира, переходя на вы. – При чем здесь Рома? Я же не спала с Высоцким!
Ира приходила каждый вечер, когда я играл свои спектакли. И поскольку свободных мест в зале не было, она стояла у входных дверей и, прячась за портьерой, смотрела, как я играю. Мне это, честно говоря, мешало. Я невольно очень старался, и от этого появлялся некоторый зажим. Кроме этого я очень стеснялся своей лысины и тщательно укладывал оставшиеся волосы так, чтобы они хоть как-то ее прикрывали. Но все мои роли были страшно суматошные, и через секунду вся эта конструкция разлеталась в разные стороны. И вот я бегал по сцене, все время приглаживая волосы и придерживая их рукой.
– Равик, – такую кличку дала мне Ира, – ты должен коротко постричься. Ты думаешь, что от того, что ты все время держишь руку на голове, не видно, что ты лысый? Очень даже видно. Даже наоборот: все время думаешь, что у него там на голове, отчего он там руку держит.
В общем, она меня постригла почти под «ноль», и с тех пор я гордо ношу теперь уже почти голый череп.
СУМЕРКИ
В оставшиеся до нашего расставания с театром Ленсовета годы он постепенно сдавал свои позиции. Иногда, правда, появлялись хорошие спектакли, такие как «Снежная королева», «Пятый десяток», «Спешите делать добро». Но все равно ни один из них не достигал уровня «Дульсинеи Тобосской» или «Укрощения строптивой», о которых говорил весь город и которые буквально стали художественным событием. Таких спектаклей больше не было. Как ни парадоксально, и как часто бывает в жизни, именно сейчас, когда театр стал хиреть, он получил официальное признание и расположение руководства. Мы стали академическим, нам дали к юбилею орден, Владимиров вслед за Алисой получил звание народного артиста СССР. Немалое значение имело и то, что Владимиров сыграл центральные роли в суперпартийных фильмах «Наш современник» и «Укрощение огня». В одном – хорошего руководителя-коммуниста, и маршала, героя войны, – в другом. Он сам с довольной усмешкой рассказывал, что теперь, после фильмов, когда он входит в кабинет высокого начальника, тот невольно встает и почти бежит навстречу поздороваться. А как же! Пришел маршал!
Я стал играть гораздо меньше. Да и не я один. Интерес Владимирова к нам, старой его команде, сильно ослабел. Он был очень увлечен своими студентами, которые его обожали и смотрели ему в рот. А мы, привыкшие с ним разговаривать, спорить и предлагать что-то свое, его раздражали. Кроме того, он стал подозрителен и внимательно выслеживал, кто с кем и как часто встречается и о чем шепчется. Не фронда ли? И наконец тяжелым ударом для театра стал распад союза Фрейндлих и Владимирова. Необыкновенно удачным и плодотворным был этот семейный дуэт. Владимиров – размашистый, смелый, находчивый и замечательно владеющий юмором, умевший обнаруживать его в самых, казалось бы, драматических местах, был в то же время небрежен в проработке деталей, нетерпелив с актерами, часто поверхностен и грешил вкусом. Его недостатки уравновешивала безупречная актерская школа Алисы, педантичность, с которой она добивалась прозрачности, последовательности действия, ее безукоризненный вкус и чувство правды. Когда Владимирова вдруг заносило, Алиса вцеплялась в него мертвой хваткой и не отпускала, пока он не приходил в себя и не признавал ее правоту.
Теперь же никто не мог его остановить. Он брал к постановке пьесы, которые раньше даже постеснялся бы прочитать труппе. Например, «Станция» Назыма Хикмета – примитивная, беспомощная агитка к очередной дате. Я и Боярский играли двух друзей. Я играл колченого стрелочника на какой-то богом забытой станции, Миша – турецкого военнопленного, простого деревенского парня. Идет гражданская война, и турок становится, естественно, на сторону мировой революции и трогательно гибнет. Бред собачий. Но надо отдать должное Боярскому, он играл простого парня так органично и убедительно, что невольно забывалось, что недавно он был Д‘Артаньяном. Я играл очень плохо. Все играли не лучше.
Или вот пьеса знаменитых Рацера и Константинова «Диоген». Все их шутки сводились к намекам: а что он там делал в своей знаменитой бочке? Я был назначен играть Диогена, но уже через месяц умолял Владимирова освободить меня от роли. Я не мог сказать, что меня выворачивает от этой пошлости, и я соврал, что мне надо лечь в больницу.
Последняя значительная роль, сыгранная Алисой в театре Ленсовета, – Раневская в «Вишневом саде». С 1978 года и до своего ухода в 1983 она практически ничего не сыграла. Зато в театр была принята новая артистка Елена Соловей. А Алиса ушла. Ее пригласил Георгий Александрович Товстоногов. С ее уходом закончилась эпоха Театра имени Ленсовета, моего театра, того, который я знал и любил. Наша команда начала разбредаться в разные театры еще до ухода Алисы. Первым ушел Петренко. После блестяще сыгранного Распутина в «Агонии» Климова он ушел к Эфросу. Ушел очень хороший артист Ефим Каменецкий, ушел Дьячков, актер уникальной индивидуальности. Он ушел в Театр имени Пушкина. Ушел и Боярский. В кино. Я бы ушел тоже, но Иру в это время просто завалили работой, и я боялся помешать ей своим уходом. Она подряд сыграла в «Вишневом саде», «Спешите делать добро», «Победительнице», «Зинуле» и бесчисленное количество больших вводов.
Все в театре прекрасно понимали, почему появилась Елена Соловей. Она должна была заменить Алису, хотя та еще работала в театре. Владимиров демонстрировал, что «незаменимых у нас нет», как говаривал товарищ Сталин. Вот он возьмет сейчас любую артистку и сделает из нее суперзвезду. Потому что театр Ленсовета – это он, а не кто-либо другой. Лена Соловей ничего этого, естественно, не знала.
Она оказалась милейшей, очаровательной, веселой и искренней женщиной, совершенно не испорченной своей красотой и славой. И к тому же, вопреки мнению, что все блондинки дуры, она была умна.
Для ее дебюта Владимиров выбрал пьесу Арбузова «Победительница». Пьесу слабоватую. Пьесу про то, что человек, стремящийся к успеху любой ценой, в конце концов терпит фиаско. Типа, деньги есть, а счастья нет. Банальнейшая, прописная мораль, навязшая в зубах. А главное, характеры в пьесе были мертвыми схемами. По-моему, Лена не подходила к этой роли. Она была нежной и слабой. А ее героиня – сильной, волевой, безжалостной карьеристкой. Уж, видно, так Владимирову не терпелось выпустить Соловей на арену, что он не дождался хорошей пьесы и стопроцентно подходящей для Лены роли. Неожиданно он пригласил меня к себе в кабинет и предложил поработать на «Победительнице» режиссером, поскольку он где-то там очень занят. Тут я вынужден сделать небольшое отступление и пояснить, с какого перепугу Владимиров сделал мне такое предложение.
В 1978 году взяли к постановке пьесу Пиранделло «Человек, животное и добродетель». Эту пьесу принесла в театр переводчица Тамара Скуй с условием, что главную роль буду играть я. Владимиров не возражал, но ставить спектакль было некому. Сам он в это время возился с «Вишневым садом», а Норе Райхштейн, очередному нашему режиссеру, все, что касается юмора, было категорически противопоказано.
– Поэтому, – сказал Игорь Петрович, – хочешь – ставь сам, а я потом подключусь.
И я стал ставить. Может быть, если бы пьеса не была такой сложной, зашифрованной, с незнакомыми типами людей, работать было бы легче, и был бы хоть какой-то результат. Но, нет. Ничего не получалось. Я перечитал горы литературы про Пиранделло, про его театр масок. Про психологическую теорию разных ролей, которые играет человек в разных ситуациях. О предтечах Пиранделло, о его последователях – все это мне помогло, как мертвому припарки. Я ничего не понимал сам, а главное, ничего не мог объяснить актерам. Меня хватило на месяц, после чего я пришел к Владимирову сдаваться. Казалось, он был этим доволен.
– Значит, нахлебались режиссуры? Знаете что, ко мне просится работать некая Генриетта Яновская. Хотите, давайте попробуем ее.
Я согласен был на черта-дьявола, лишь бы сбежать от режиссуры и обрести душевный покой, став, как и прежде, простодушным, безответственным артистом.
Пришла Гета Яновская, человек явно талантливый, азартный и сразу нашедший с нами общий язык. Она, как и ее муж Кама Гинкас, были в черном списке у Георгия Александровича Товстоногова, хотя, как ни странно, являлись его учениками. Я не знаю, в чем был конфликт, но, поскольку Георгий Александрович имел непререкаемый авторитет у руководства города, они сидели без работы. В результате, уже позже, они уехали в Москву, где Гета получила ТЮЗ, а Гинкас стал ведущим режиссером страны и лауреатом многих премий.
Но должен сказать, что и Яновская не разгадала Пиранделло. В общем, мы играли его как умели, в традициях русского психологического театра, что сюда совсем не лезло, и спектакль не получился. Это был мой первый режиссерский опыт, и я дал себе слово больше его не повторять. Но пришлось. Через четыре года я снова понадобился Игорю Петровичу. Это было уже в восемьдесят первом году. Театр работал все ленивее, и вместо положенных по плану четырех премьер мы выпускали два, в лучшем случае, три спектакля за сезон. Шел октябрь. До Нового года оставалось совсем немного, а у нас в «портфеле» была только одна премьера – «Капитальный ремонт» Соболева. Инсценировка и постановка Норы Райхштейн.
– Нора, – спросил Владимиров Нору Абрамовну, посмотрев черновой прогон, – как вы думаете, пойдет кто-нибудь из нормальных людей провести свободный вечерок на спектакле с названием «Капитальный ремонт»? Это звучит, как реклама, вроде «Столярные работы», «Обивка мягкой мебели».
– Но это авторское название романа, – с рыданиями в голосе произнесла Нора.
– Да мне плевать. Булгаков написал роман «Белая гвардия», а пьесу по роману назвал «Дни Турбиных».
Так появилось название «Рояль в открытом море». Почему? Нипочему! Зато интриговало публику. Хотя спектакль это не спасло.
Итак, у нас в этом году была только одна премьера. И Владимиров снова предложил мне попробовать себя в режиссуре, поставив пьесу Гельмана «Наедине со всеми», чтобы иметь к концу года хоть два спектакля из четырех. Моя задача облегчалась тем, что в пьесе всего два человека, и сам я в ней не играл.
«Черт с ним, попробую», – решил я.
В этот раз все было иначе, работалось легко. Я знал эту жизнь, этих людей – мне было что сказать Лейле Киракосян и Ефиму Каменецкому. И я видел, что они меня слушают не потому, что я назначен начальником, а потому, что узнают от меня что-то, чего сами не знают. Хотите – верьте, хотите – нет, но я поставил этот спектакль, а некоторые сцены – даже хорошо поставил. На афише стояла моя фамилия как режиссера спектакля.
Надеюсь, сделав этот длинный экскурс в историю, я объяснил, почему Владимиров сделал мне предложение заняться «Победительницей».
На первой же репетиции я объяснил артистам, что ни в коем случае не собираюсь корчить из себя Мейерхольда. Но я надеюсь, что буду им полезен как более опытный старший коллега, который смотрит на происходящее со стороны и замечает нюансы, которые ускользают, когда ты находишься внутри процесса. Моя роль ограничится дружескими советами.
Своими словами я как бы извинялся перед Еленой Соловей, любимицей публики и критики, сыгравшей в кино немало значительных ролей, что я буду ей что-то подсказывать и руководить.
Меня ожидало великое изумление и разочарование перед девственной «Соловьиной» беспомощностью, неумелостью, отсутствием элементарных театральных навыков. Чистый белый лист. Учившаяся актерскому мастерству во ВГИКе, она была типичнейшей актрисой кино со своими, совершенно отличными от наших правилами и подходом к роли. Начиная с того, что еще за столом, когда роли только читают, она не могла на следующий день повторить то, о чем договаривались накануне. Она не умела. Ее не учили ничего фиксировать. А зачем? Ведь в кино как? – прочли небольшую сцену, режиссер сказал, что он хочет здесь увидеть, прочли еще раз – и, пожалуйста, на площадку. Сняли и тут же навсегда забыли. За ненадобностью. В общем, мы застряли на первой же сцене. Сидели на ней почти неделю, запоминая, усваивая, что же в ней происходит. Когда вышли на площадку, встали на ноги, выяснилось, что Лена не чувствует зала. Она поворачивалась к нему то спиной, то боком, только не лицом. Даже объяснять ей элементарную истину, что все, что мы делаем на сцене, мы делаем для зрителя, который пришел, чтобы видеть наши лица, слышать наши голоса, объяснять ей, Елене Соловей, было неловко. У театральных артистов это чувство зала в крови, на уровне генов. Даже когда я шепчу, все равно зал от первого ряда до самых до окраин должен меня слышать. Двигалась Лена как-то по-утиному, ставя ноги носками внутрь. В кино это было не важно. Снимают, в основном, до пояса, а когда носишь длинные платья, так и вовсе не видно, как там у тебя ноги под юбкой стоят. Нужно отдать Лене должное, она сама прекрасно понимала свои недостатки и безропотно училась новому для нее ремеслу.
Но все равно чуда не произошло. Страстное желание Владимирова найти Фрейндлих замену не сбылось. Хотя шуму и рекламы перед спектаклем было много.
На фоне моей оскудевшей жизни в театре дома все было хорошо. Мы с Ирой решили, что неплохо бы нам родить ребенка. Но сделать это так, чтобы Ире не выбиваться из репертуара, ну, во всяком случае, надолго. Выяснив, когда у театра будут гастроли и как долго они продлятся, мы засели за вычисления и определили точный день, когда нам нужно зачать ребенка. Сказано – сделано. На двухмесячные летние гастроли в Иркутск, Красноярск мы летели уже с полугодовалой Лизой. И Ира давно уже играла весь свой репертуар. Родилась Лиза 28 декабря, ночью, через три часа после того, как я уехал в Москву, не подозревая, что случится. Утром в гостинице дежурная уже поздравляла меня с рождением дочери. Я стал дважды отцом.
МОЕ КИНО
Приблизительно за полгода до Лизиного рождения я начал сниматься у Михаила Казакова в фильме «Покровские ворота». До этого я практически в кино не работал. Меня это задевало. Я задавал себе вопрос: а почему не зовут сниматься? Дело во мне? Я не гожусь для кино? Я плохой артист? Или дело не во мне, и существуют какие-то другие причины. Тем более что другие причины, безусловно, существовали – лицо и фамилия.
Очень хорошо помню, как в конце шестидесятых меня пригласили на пробы в Одессу на роль моряка-минера по фамилии Фридман. Весь сценарий был написан на основе реальных фактов. В начале войны немцы заперли гавань не то в Одессе, не то в Севастополе какими-то новейшими секретными минами. Но моряки ценой собственной жизни раскрывают их секрет, и корабли выходят в море. Одного из минеров звали Иосиф Фридман. На эту роль меня и звали. Я прилетел в Одессу, и режиссер фильма Стрелков остался очень доволен моей пробой.
– Вот, смотрите, – сказал он мне, показывая фотокарточку, – вы с ним даже внешне похожи. Спасибо. До встречи.
И я улетел в уверенности, что уж Фридмана-то я точно сыграю. Но не тут-то было. Через месяц получаю письмо от Стрелкова (для кино факт удивительный, уникальный и трогательный – постановщик объясняется с артистом, причем письменно, почему он его не взял сниматься).
«Дорогой Толя, – писал он, – мне стыдно признаться, но Комитет по кинематографии Украины не утвердил вас на роль из-за того, что вы еврей. Очень печально, что не удалось вместе поработать. Вашу роль будет играть Сергей Лосев, которого вы хорошо знаете. С уважением, Стрелков».
Я очень долго хранил это письмо, как анекдот, как замечательный документ своего времени.
Но на кое-какие небольшие роли меня все-таки звали. Гинекологи, стоматологи, терапевты, фотографы, корреспонденты, мелкие мошенники – все они были моей клиентурой.
Первой по времени из этого списка была роль инженера Бершадского из фильма «На диком бреге» по роману Бориса Полевого о строителях Красноярской ГЭС.
Это был заказ ЦК партии, и денег на картину отвалили немерено. На них можно было построить еще одну ГЭС. В Красноярске мы погрузились на большой трехпалубный теплоход и поплыли вниз по Енисею до Братска, где стояла ГЭС. Вместе с киногруппой плыла огромная массовка, набранная в Красноярске, в основном, из студентов местных вузов. Наши каюты были на второй палубе, а они размещались на третьей, в трюме. Девушки зазывно смотрели на нас, артистов, среди которых были и знаменитые – Борис Андреев, Сафонов, Глазырин, Александр Лазарев, Олег Борисов. Было лето, мы, не торопясь, плыли по Енисею, иногда останавливались, снимали пейзажи. Но актерских сцен почти не было. Все развлекались как могли: пили водку, ходили в гости к массовке, много болтали и вообще веселились на халяву. Несколько особняком держался Борис Федорович Андреев – легендарный советский артист. Утром его вообще не было видно. Он появлялся на палубе к вечеру и ходил по ней, раз за разом огибая корабль по периметру. Курил он дешевые сигареты без фильтра, вставляя их в пластмассовый мундштук в форме курительной трубки.
– Борис Федорович, – кричали мы из окна каюты, – приходите к нам!
– Спасибо, ребята! – приветливо махнув рукой, он, не останавливаясь, шел дальше.
Но однажды мы все-таки затащили его к себе в гости. Правда, это касалось только головы и плеч, которые были в каюте, остальное оставалось на палубе.
Пить он категорически отказался, сказав, что он свое уже выпил и что здоровье не позволяет.
– Борис Федорович, а это правда, что про вас рассказывают? Будто бы вы с Петром Алейниковым в Киеве до войны разбили стекло в витрине мебельного магазина и легли спать на стоящий там диван?
– Вранье! Стекло разбили случайно, что было – то было. А насчет дивана – вранье. Никто там спать не собирался.
– Борис Федорович, а в жизни Алейников был веселым человеком?
– Петька-то? Веселым, но ленивым до крайности. Нас тогда без конца приглашали выступать на всяких праздничных концертах. Так он, подлец, не хотел выучить никакого рассказа или стихотворения. Как во ВГИКе выучил к экзаменам «Ленин и печник» Твардовского, так и читал его на всех концертах всю жизнь. Приедем, к примеру, в железнодорожное депо выступать к 7 ноября. У него спрашивают:
– Вас как объявить? Вы что читать будете?
– А кто у нас в зале сегодня?
– Железнодорожники: стрелочники, смазчики, машинисты.
– А… железнодорожники. Ага, ага… Прочту я им сегодня… Да. Точно. «Ленин и печник».
Приезжаем в институт.
– Что читать будете?
– А кто у нас сегодня зрители?
– Студенты, преподаватели.
– А, студенты. Вот что! Думаю, что будет в самый раз, если я прочту им «Ленин и печник». И вот так всю жизнь.
В общем, это была сказочная поездка. Чего не скажешь о скучном фильме, который появился через полгода, и о моей в нем работе. Роль маленькая, невыразительная. На вопрос – могу я сниматься или нет, она ответить не могла. Потом были небольшие роли в фильмах «Воздухоплаватель», «Агония», «Мой красный велосипед», «Прохиндиада», «Мой папа идеалист» и т. д., и т. п. Все это было лишь способом немного заработать и только. Единственное, что я усвоил из этого киноопыта, что для артиста кино – это тяжелая и скучная работа и что режиссеров, умеющих работать с актерами, там нет. И еще я понял, какие нравы царят в этом манящем, завораживающем мире грез.
Звонит мне как-то один парень. Я знал его по «Лен-фильму», он работал ассистентом по актерам, потом переехал в Москву. А он меня знал, естественно, по театру.
– Толя, срочно приезжай. Начались пробы на фильм «Земля Санникова». Читал? Там для тебя есть потрясающая роль. Слуга главного героя. Такой Труффальдино.
– А когда?
– Завтра, послезавтра.
– Не могу, у меня спектакль.
– Какое не могу! Такая роль попадается один раз в жизни! Спектакль! Тебя ждет мировая слава!
– Ну, не знаю, я попробую.
– Делай что хочешь, но помни – речь идет о мировой славе.
И я поехал в Москву. Правда, не завтра-послезавтра, а через три дня, с воскресенья на понедельник, в свой выходной день.
Он встретил меня на вокзале, очень возбужденный, и все время говорил о мировой славе. На «Мосфильме» меня одели в косоворотку, сапоги и повели к гримерам.
– Вот, – сказал провожатый, – надо сделать из него деревенского русского парня.
Гримерша, невозмутимая девица с капризным лицом, спросила:
– А как я это сделаю?
– Как? Покрасить его надо! Вот как! – взвился мой благодетель.
Девица лениво пожала плечами:
– Ну, волосы, положим, пергидролем можно. А брови он не возьмет – густые и слишком толстый волос.
Тут я вмешался:
– Минуточку, что значит – покрасить? А что я буду делать завтра? Как я крашеный буду играть свои роли в театре?
Он замахал на меня руками:
– О чем ты говоришь? Какой театр? Если тебя здесь утвердят, тебя в любой театр возьмут крашеного и некрашеного. Ну, перекрасишься снова, какая проблема?
Он так орал, махал руками и суетился, что я, плюнув на нехорошие предчувствия, согласился. Меня покрасили какой-то белой пеной, и я стал похож на Морозко из русской народной сказки.
– Ну, сиди-сиди, – сказал мой парень и убежал. А я сидел и ждал, когда я стану похож на деревенского парня. Где-то через час я почувствовал сильное жжение над бровями и пожаловался гримерше.
– Так, а что вы хотите? – она снова пожала плечами. – Вы уже час, как намазанным сидите. У вас вообще все может сгореть.
Я вскочил.
– Так что же вы меня не предупредили?
– Мне велели вас покрасить, я вас и крашу.
Я побежал к раковине и стал смывать пергидроль. Смыв, я посмотрелся в зеркало, боясь себя не узнать. Но нет, я почти не изменился. Просто вместо черного еврея на меня из зеркала смотрел рыжий еврей. Причем над бровями у него были красные полосы сожженной кожи. А сами брови так до конца и не вытравились, зато приобрели зеленоватый оттенок, как усы у Кисы Воробьянинова. Из деревенского у меня был только мат, которым я покрывал себя, свою глупость, свое тщеславие и своего идиота благодетеля вместе с его мировой славой.
Прибежав в гримерный цех, он взглянул на меня и тут же опустил глаза.
– Побежали скорей в павильон, Мкртчян идет!
– Кто это Мкртчян?
– Постановщик.
– Ты когда отдашь мне обратный билет?
– Сделаем пробу и отдам.
Мы шли по бесконечному мосфильмовскому коридору, и вдруг я увидел, что навстречу идет Евгений Леонов в точно такой же косоворотке и сапожках, как и я. Мой провожатый, который тоже его заметил, схватил меня за руку и помчался назад по коридору, ища какую-нибудь открытую дверь, чтобы спрятать меня от Леонова.
– Если он узнает, что кто-то еще пробуется на его роль, он сразу от нее откажется, – шептал мне ассистент Мкртчяна, стоя у дверей какого-то кабинета и прислушиваясь, когда пройдет Леонов.
Настроение у меня окончательно упало – смешно мне соревноваться с Леоновым. И когда мы вошли в павильон, мне было все уже абсолютно безразлично. Я желал только получить обратный билет и поскорей уехать домой зализывать раны.
Павильон был огромен. Он напоминал городскую площадь в каком-нибудь областном центре. Не было только памятника Ленину в центре, но везде стояли фанерные декорации, которые изображали и загородный дом, и городскую квартиру, и кабинет в конторе, и руины разрушенного войной дома, и т. д., и т. п.
Группе «Земли Санникова» для проб было выделено метров сорок площади, на которых помещалась камера, осветительные приборы и режиссер Мкртчян, сидящий на стуле. Когда мы подошли, он ругался с оператором:
– Чту ты мне показувуешшь? – с непередаваемым армянским акцентом внушал он оператору. – Падымы камеру внис!
Едва взглянув на меня и не поздоровавшись, он протянул мне лист с текстом, отобранным для пробы. Я бегло прочитал его. Это был монолог человека перед расстрелом. Он плакал и умолял солдат его пощадить. Ничего себе! Вот так, без репетиций, не зная сценария, не зная, что было до этого, что – после, с ходу сыграть трагическую историю. Кругом ходят какие-то люди, что-то носят, разговаривают. Раздраженный недружелюбный режиссер. Как тут можно сосредоточиться, что-то почувствовать?
– Извините, – сказал я, – здесь очень шумно. Нельзя ли, чтобы все замолчали или вышли?
– Нельзя! – закричал Мкртчян. – Это вам не театр, это кино! Это производство! Можете начинать?
– Могу, – отвечал я, мечтая лишь о том, чтобы получить, наконец, билет в Ленинград и забыть навсегда свой поход за мировой славой. Я отбарабанил монолог, схватил билет (причем мой дружок-ассистент куда-то исчез, и билет мне отдала бухгалтерша) и вышел на улицу. На душе было гадко.
– Куда теперь? – спросил я себя. – Куда. В парфюмерный магазин, куда же еще?
За прилавком в парфюмерном магазине стояла молодая симпатичная продавщица.
– Есть у вас что-нибудь, чтоб покрасить волосы в черный цвет? – чувствуя, что краснею, спросил я.
Ее улыбчивое лицо поменялось на брезгливое, и она положила на прилавок передо мной пакетик с басмой. А, теперь уже все равно. Весь оставшийся день и вечер я просидел на Ленинградском вокзале, не решаясь ходить по улицам: было стыдно. А ночью, в поезде, когда все уже улеглись, я заперся в туалете и стал перекрашиваться. Вагон болтало, и от этого зубная щетка, которой я красился, периодически тыкалась не в то место, какое нужно. В результате, лицо у меня оказалось рябое, как после оспы, а волосы на голове спереди были более темными, чем на затылке.
«Ну что, придурок, – говорил я себе, лежа на спине и глядя в потолок купейного вагона (лежать на боку было больно – обожженные брови терлись о подушку), – вкусил мировой славы, и хватит. Все, забудь, кина не будет».
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
После затянувшегося экскурса в мою кинобиографию позвольте вернуться к «Покровским воротам». Как вы теперь, надеюсь, понимаете, я уже не верил, что в области кино мне что-то светит, и воспринял предложение съездить на пробы почти безучастно. Съездить, конечно, надо, для очистки совести, думал я. Я ничего не теряю, а уважить Казакова будет правильно. С ним я был знаком давно, еще с институтских времен, когда мы, студенты, халтурили в массовке в спектаклях гастролирующих театров. Приезжал к нам и Театр имени Маяковского со знаменитым «Гамлетом» в постановке Николая Охлопкова. Гамлета по очереди играли Евгений Самойлов, очень известный тогда артист по фильмам «Сердца четырех», «В шесть часов вечера после войны» и совсем молодой, неприлично красивый Михаил Казаков, новая звезда московской сцены. Спектакль, действительно, был замечательный. Во всяком случае, так мне тогда казалось. На фоне ползучего соцреализма тех лет он ошеломлял дерзостью, необычностью, совершенно не привычным, не бытовым взглядом на Шекспира. Актеры не пытались подмять шекспировские стихи под себя, превратить их в прозу. Напротив, они всячески подчеркивали стихотворную форму, читая их нараспев и выделяя рифмы. Все мизансцены и позы были тщательно выверенными, как в балете или в пантомиме. Оформление спектакля представляло собой огромный занавес, состоящий, как пчелиные соты, из ячеек-комнат, в каждой из которых находились персонажи. И когда лучи прожекторов останавливались на какой-нибудь из них, там начиналось действие. Но иногда действие происходило в нескольких ячейках параллельно. Это было чрезвычайно эффектно. Полония играл Свердлин, могильщика – Ханов. Я не отрывал от них глаз, как и от Самойлова или Казакова. Через пару спектаклей я стоял в кулисе и не верил своим глазам – Ханов был выпивши. Причем здорово. Может быть, публике это было незаметно, а может, и заметно, неважно. А почему бы могильщику не быть пьяным? Но я – то видел, как что-то шептал ему Самойлов с перекошенным от злости лицом, когда тот, достав череп из могилы, с трудом сказал: «Это череп королевского шута… – он запнулся, – Юрика». Впрочем, я тут же простил Ханову его слабость, потому что накануне видел его в спектакле «Аристократы», где он меня совершенно покорил. Так вот, меня познакомил с Казаковым Сергей Юрский, тоже бегавший в массовке и хорошо знавший Мишу еще по Ленинградскому Дворцу пионеров, куда они ходили в драмкружок. На мой взгляд, Казаков играл Гамлета лучше Самойлова. Нет, может, не лучше, а ближе к тому, как я его себе представлял. Самойлов играл страстно, но, пожалуй, и только. Казаков был угрюм и больше озабочен размышлениями о сущности вещей, бытия, чем жаждой мести. Успех он имел невероятный, но относился к этому спокойно, даже иронично. Он мне нравился. Потом мы несколько раз встречались в Москве на гастролях Театра имени Ленсовета, приезжая в Ленинград, он тоже заглядывал к нам. И вот в один прекрасный день он звонит и предлагает мне пробоваться на роль в его новом фильме.
Казаков показался мне каким-то дерганным, что было вполне объяснимо при начале съемок.
– Пьесу Зорина читал?
– Нет.
– Ну и хорошо, прочти сценарий. Завтра в десять проба.
Он показал мне две сцены, которые будут снимать. Вечером в гостинице я прочитал сценарий и был немного разочарован. Материал показался мне уж очень литературным и ситуация с бывшим мужем, которого опекает бывшая жена, выглядела натянутой, искусственно придуманной.
«Впрочем, какая тебе разница, – думал я, – снимешься и – домой. Главное, что краситься не надо».
С этими мыслями я и заснул.
На пробах я столкнулся с новшеством: стоял телевизионный монитор, камера, все снималось на видео и тут же просматривалось. Очень удобно. Я сыграл, что требовалось, попрощался и отбыл восвояси. Казаков, кроме дежурных слов: «Все нормально. Спасибо», – ничего не сказал.
Что-то около месяца Москва молчала. Я был уверен, что этим дело и закончится. Но нет. Позвонил Казаков и сказал, что только что худсовет Мосфильма утвердил меня на роль Хоботова и что я срочно должен дать свою занятость в театре, чтобы составить план съемок. Снимать планировалось с августа и до конца года, чтобы застать зиму. Это было нежданно-негаданно, и оттого еще приятней. Потом позвонил директор и сказал, что мне надо срочно приехать в Москву снять мерки для шитья костюмов и заключить договор.
– У вас есть киноставка?
– Да, шестнадцать рублей пятьдесят копеек.
– Что это за ставка? Это же неприлично. Звание?
– Да, я заслуженный артист.
– Хорошо, постараюсь выбить вам на эту картину двадцать пять рублей за съемочный день.
Тогда платили не по взаимной договоренности между продюсером и артистом, как сейчас, а строго по ставке, утвержденной худсоветом студии. Самая большая ставка была сорок рублей за съемочный день. Ее имели Смоктуновский, Евстигнеев, Ульянов и другие артисты этого же ряда. А самая маленькая – десять рублей.
Казаков встретил меня очень тепло, и у нас состоялся долгий разговор о предстоящих съемках, о моей роли, о том, что он хочет рассказать этой картиной.
Но сначала я узнал, как проходил худсовет, на котором утверждали артистов. Все шло гладко, пока не прозвучала моя фамилия.
– А почему Равикович? Что, Хоботов еврей? – спросил начальник актерского отдела «Мосфильма» Адольф Михайлович Гуревич, про которого говорили: «Хорошего человека Адольфом не назовут».
Все сделали вид, что не расслышали его реплики, и после недолгого обсуждения согласились с моей кандидатурой. Адольф Михайлович спрашивает снова:
– Товарищ Казаков, мы что, еврейское кино снимаем?
На что директор «Мосфильма» Сизов, он же председатель худсовета, с мягкой улыбкой замечает:
– Адольф Михайлович, что вы, право! У нас же многонациональная страна.
На этом все и кончилось, к неудовольствию Адольфа Михайловича, которому не дали выполнить его святую обязанность – соблюсти квоту на количество евреев, занятых в фильме. Эти квоты существовали тогда во всех сферах советской жизни: на прием в вузы, на руководящую работу, на врачей, ученых и т. д. Адольф Михайлович, сам еврей, был чрезвычайно удобен тем, что мог вслух произнести то, о чем другие помалкивали. А случилось так потому, что вопрос обо мне был оговорен Казаковым с Сизовым, а Гуревич об этом не знал.
– Очень просился на Хоботова Андрей Миронов, – продолжал делиться со мной Казаков, – он видел в Театре на Малой Бронной мой спектакль «Покровские ворота», который ему очень понравился. Но я ему честно сказал: «Андрей, зачем тебе гондон на голову натягивать, когда у меня есть Хоботов-Равикович?» Потом Казаков рассказал, каких трудов стоило ему пробить этот сценарий.
– Они ведь не дураки. Они понимают, про что эта вещь. Про то, что счастливым человека нельзя сделать насильно. А ОНИ-то именно это и пытаются с нами сделать. Дескать, не понимаете вы своего счастья. Мы вас к нему ведем, а вы все сопротивляетесь. Поэтому и придирались к любой мелочи, лишь бы не пустить картину в производство.
Я осторожно высказался насчет не слишком правдоподобной истории с двумя мужьями Маргариты Павловны.
– Да, это есть. Но меня это не пугает, – сказал Миша. – Я и не хочу, чтобы картина была бытово-реалистична. У нее должна быть особая интонация. Это притча, поэтическое размышление. В фильме будут стихи, песни Булата Окуджавы. Поэтому сюжет здесь может быть отчасти условным. Но играть эту историю надо очень эмоционально.
Он был страшно увлечен предстоящей работой, и было видно, что картина вся, со всеми подробностями, уже стоит перед его мысленным взором, осталось ее только снять. Перенести на пленку.
Начались съемки. Из актеров я не был знаком раньше ни с кем, кроме Игоря Дмитриева, нашего ленинградского артиста. Самым маститым был Леонид Броневой, которого как Мюллер никто иначе за глаза и не звал. Он много лет прослужил в Театре на Малой Бронной и был занят почти во всех знаменитых спектаклях Анатолия Эфроса. Его ценили в профессиональной среде, но огромную популярность и любовь публики он завоевал, снявшись в «Семнадцати мгновениях весны». Так бывает довольно часто. Только кино и телевидение делают артиста знаменитым. Вот, к примеру, замечательный артист БДТ Евгений Лебедев не был широко известен, хотя им как театральным артистом восхищалась вся Европа. Не был известен, потому что мало снимался и не в очень известных фильмах (исключая «Свадьбу в Малиновке»). А наши газеты и журналы внушают читателю мысль, что настоящий артист тот, кто снимается в кино.
Леонид Сергеевич оказался человеком язвительным. За долгие годы работы он хорошо изучил театральные и кинонравы и умел за себя постоять.
– А зачем вы потратились на такси? – наставлял он меня. – Совершенно зря. Надо было стоять и ждать, пока за вами не приедут из группы.
– Так ведь смена началась в десять, а уже было одиннадцать. Машины все нет, я боялся, что Казаков меня убьет или сойдет с ума.
– Ничего бы не произошло. А вот теперь, когда вы дали слабину, они вообще перестанут присылать за вами машину.
Как-то в паузе во время съемок он рассказал, как поссорился с Эфросом.
– Приезжает Эфрос из Америки – это была его первая поездка с целой группой театральных генералов. Ну, всем же любопытно, никто же там не был. И вот мы сидим всей труппой, а он начинает: «Откровенно говоря, я ожидал от Америки большего. Вот мое первое впечатление: открываю двери номера, вхожу, ставлю чемодан, оглядываюсь и вдруг вижу – по полу бежит здоровый таракан. Представляете?» – А я возьми да и брякни: «А может, он из вашего чемодана?» Ну и вот. Он мне этого не простил. Пришлось уйти.
С Инной Ульяновой мы быстро нашли общий язык, подружились, и она даже пригласила меня к себе домой. Она жила в маленькой однокомнатной квартире, вылизанной, со всякими милыми занавесочками, с сувенирчиками на полках. Мы сидели, пили чай и сплетничали. Этажом выше жил Валерий Брумель, олимпийский чемпион и рекордсмен мира по прыжкам в высоту, ее хороший приятель. «И, если я захочу, она нас познакомит», – сказал я себе.
Лена Коренева держалась довольно уверенно. Видно было, что она чувствует себя на площадке как рыба в воде и что она знает себе цену, имея за плечами большой успех в «Романсе о влюбленных», «Асе», «Бароне Мюнхгаузене». Она уже собиралась за границу и в каждую свободную минуту открывала какую-то книжку на английском языке. Лена одаривала всех ослепительной улыбкой и очень-очень была похожа на настоящую американскую кинозвезду.
Нравился мне и Олег Меньшиков. Он был серьезен, немногословен, никогда, в отличие от меня, не спорил с Казаковым, очень дисциплинирован. Он был весь сосредоточен на работе. Даже в паузах, когда артисты треплют языком, рассказывая всякие байки, он старался уединиться и просматривал сценарий или просто молчал, не включаясь в разговор. Он ни разу не опоздал и ни разу не пришел с невыученным текстом.
– Потрясающий парень, – сказал мне Казаков еще до начала съемок, – просто счастье, что я его нашел. В «Полетах во сне и наяву» у него маленькая роль. Но уже все видно. Штучный товар.
Олег тогда только-только начал работать после училища в Малом театре, но собирался перейти в Театр Советской Армии, чтобы получить там отсрочку от призыва, которую Малый театр ему сделать не мог. Директором Малого был тогда еще Царев, и Олег очень забавно показывал в лицах свой с ним разговор. В общем, были замечательные партнеры, интересный сценарий, талантливый режиссер и ожидание предстоящего удовольствия от работы. Но не тут-то было. Начались муки, и кончились они только с последним словом на озвучивании. Мучителем, тираном, деспотом стал для меня Михаил Михайлович Казаков. Рафинированный интеллигент, диссидент, знаток и тонкий ценитель поэзии, литератор и интеллектуал. Но ему не хватало только плети, чтобы быть вылитым Малютой Скуратовым. Утром он вылезал из машины мрачный, бледный, окидывал своим горящим взором съемочную площадку, и начинался дикий крик. Попадало всем – и правым и виноватым. Крик прерывался появлением тогдашней жены Миши, Регины, – она привозила лекарства. Почему-то в полотняных мешочках. Миша протягивал руку, и она сыпала ему в ладонь целую кучу таблеток. Успокоительных, как я узнал. Он опрокидывал все это в рот и запивал водой, после чего крик продолжался, но уже с меньшими децибелами. Сценарий он знал наизусть, и стоило тебе хотя бы случайно поменять местами два слова, скандал был обеспечен. Причем тяжелый. Он воспринимал это как выпад против себя, как желание его зарезать, добить его уже истерзанную тобой душу. Он показывал, как надо играть, каждую фразу и каждое слово, и требовал, чтобы мы точно его копировали.
– О, как вы это делаете, как вы это делаете, – говорит Хоботов после того, как Людочка делает ему витаминный укол. Эту фразу он снимал полдня, заставляя меня снова и снова, снова и снова повторять за ним его интонации, движения его ног, рук и глаз, добиваясь неотличимого сходства. А ведь я думал, что я приличный артист! Мне было за сорок, и я давно привык, что в театре со мной считаются, и я участвую в создании своей роли наравне с Владимировым. Я терпел из последних сил. Ну черт с ним! В конце концов дело не в самолюбии. В конечном счете ведь не важно, кто придумал роль, ты или режиссер, важно, чтобы она была придумана хорошо. Так ведь получалось, что не хорошо. Он тянул меня на какого-то плюгавого интеллигента в очках, героя многочисленных анекдотов, у которого всегда большие проблемы с женщинами:
– Доктор, это правда, что когда жена изменяет мужу, у него на голове вырастают рога?
– Что вы, это всего лишь шутка.
– Большое спасибо, а то я боялся, что у меня в организме кальция не хватает.
Хоботов у меня получался какой-то одномерный, как карикатура. Все у него падает, ничего он не может… Ну не бывает таких. Это придурок, и любить его не за что. Съемки шли дни за днями, я устал отчаиваться и перестал надеяться, что эта картина что-то изменит в моей жизни. Ира меня утешала как могла и говорила, что мои ощущения еще ничего не значат, что я очень даже могу ошибаться и что с ней в кино такое тоже бывало. Потом в работе наступила большая пауза – ждали снега, чтобы снимать зимние сцены и каток.
Мы жили в четырнадцатиметровой комнате, которую Ира получила как молодой специалист, и готовились к появлению ребенка в начале января. Я уже писал, что Лиза родилась 28 декабря, как раз в ту ночь, когда я уехал на один день в Москву снимать сцену на катке. Наконец была снята и зимняя натура, прошло озвучивание, и все стихло. Месяц, два, три. Обеспокоенный, почему фильм так долго не выходит, звоню Казакову.
– Картину не пускают по идеологическим причинам. Что будет дальше – не знаю, – потухшим голосом сообщает Миша.
Ну что ж, значит, не судьба. Зато Лиза под Ириным руководством росла, не доставляя нам никаких хлопот, и даже научилась в полтора месяца нырять и плавать под водой.
И только когда прошел почти год, картину выпустили в эфир. Но сначала состоялась премьера в Московском Доме кино. Меня там не было, не помню уж, по каким причинам, скорее всего – был спектакль. А поздно вечером, почти ночью, телефонный звонок.
– Толя, это Рязанов. Только что посмотрел «Покровские ворота». Замечательно! Просто замечательно. Я почти плакал. Сколько ностальгических чувств! Ты играешь замечательно! Поздравляю от всей души. Привет Ире.
Стою у телефона с трубкой в руке и чувствую себя так, будто меня ударили обухом по голове. Что это, розыгрыш? Или нет? Голос похож на рязановский, но, поди разбери – сейчас столько умельцев. Но, вообще-то, звонок похож на междугородный.
– Ира, у тебя есть телефон Рязанова?
– Ты что, собрался звонить?
– Да, я боюсь, что меня разыгрывают.
– Ты с ума сошел! Уже поздно!
– Я извинюсь. Умоляю, дай телефон.
Я познакомился с Рязановым на гастролях в Москве. Он был горячим Алисиным поклонником, ходил на ее спектакли, а потом снял ее в «Служебном романе». Ко мне он тоже хорошо относился. Помню, он пришел за кулисы после спектакля с огромным букетом красных роз, предназначенным для Фрейндлих. И когда я проходил мимо, он остановил меня, отделил от букета штук десять сумасшедшей красоты роз и вручил мне. Я был смущен до крайности.
Потом, когда Ира снималась у него в «О бедном гусаре замолвите слово», я часто навещал их в Петропавловской крепости и даже был в гостях у него дома.
– Ничего, он меня простит, – уговаривал я Иру, – еще не так поздно.
Когда я до него дозвонился, он долго хохотал в трубку, и я ясно представил себе его прыгающий от смеха огромный живот.
– Спи спокойно, это был я, – сказал Рязанов.
Я залез в холодильник, достал початую бутылку водки, и мы тихонько, чтобы не разбудить Лизу, выпили.
И еще прошло какое-то время, пока мы, наконец, не увидели в телевизионной программке «Покровские ворота». Ни фамилии режиссера, ни фамилий актеров – ничего этого в программке не было. Телефильм и все. Шли новогодние праздники, народ гулял, по телевизору шли увеселительные программы, концерты, проверенные кинокомедии, цирк наш и заграничный. И у меня было опасение, что фильм наш, не такой уморительно смешной, как, например, «Приключения Шурика», может и затеряться. Все-таки его желательно смотреть в трезвом состоянии, чего сейчас, в праздники, требовать от публики довольно глупо. И вот зажегся экран, и появились первые титры… Я, не в силах смотреть на самого себя, пошел на кухню, где и просидел весь вечер с книгой в руках.
Ире картина понравилась, маме тоже. Но это ни о чем не говорило – маме всегда нравилось все, что я делаю. Никто в тот вечер не звонил. Утром в театре тоже никто не кидался ко мне с поздравлениями, наверное, не смотрели или не понравилось. А я ни у кого не спрашивал, полагая, что если человеку есть что сказать, он скажет сам. Расхожая фраза – утром он проснулся знаменитым – оправдалась лишь наполовину: утром он проснулся. А как же тогда относиться к словам Рязанова? А никак. Правы, наверное, все. Прав Рязанов, увидевший в картине смысл и хороший юмор. Правы и те, кто, заедая печенью трески рюмку водки, не захотел напрягаться по поводу какого-то мелькания на экране. Действительно важно для восприятия, когда, где и при каких обстоятельствах ты что-то смотришь и в каком настроении находишься. Фильм повторили месяца через два-три. И вот тут-то все и грохнуло. Мне оборвали телефон, на улице многие узнавали и улыбались, а в театре некоторые артисты не поздоровались, что является самым верным признаком твоего успеха. Самое поразительное в судьбе этой картины Казакова, что после каждого показа ее по какому-нибудь каналу, интерес к ней возрастает. Хотя, казалось бы, – куда больше. Мне остается только одно: снять шляпу перед Михаилом Казаковым и покаяться, признав, что все мои личные страдания и муки уязвленного самолюбия ничего не стоят по сравнению с успехом этого фильма у публики, которой абсолютно наплевать, как достигался конечный результат и что переживал тот или иной участник картины под названием «Покровские ворота».
Я пишу последние строчки своих довольно растрепанных воспоминаний и спешу обрадовать своего возможного читателя: продолжения не будет. Все, что хотелось, вспомнилось. Вернее, память сама отобрала, просеяла и продиктовала, видимо, самые значимые для меня события, встречи, чувства. А потому, с чувством выполненного перед Ириной Ма-зуркевич долга, я прощаюсь с тобой, мой читатель. Смотрю через открытую дверь в соседнюю комнату, где жена набирает мою рукопись на компьютере, время от времени прерывая работу матросскими ругательствами в мой адрес за неразборчивый почерк, и красиво заканчиваю свое повествование строчками из «Фауста» Гете в переводе Пастернака: «Насущное уходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность».
15 июля 2007 г.