Ангел конвойный (сборник) Рубина Дина
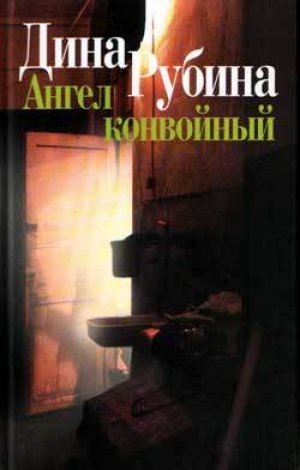
– Нет! Нет! Мы… не любим!
Этот неожиданный и такой категоричный протест привел меня в замешательство.
– Ну… почему же?.. – неуверенно спросила я. – Вы молоды, э… э… наверняка какая-нибудь девушка уже покорила ваше… э… И вероятно, вы испытываете к ней… вы ее любите…
– Нет! – страшно волнуясь, твердо повторил мой студент. – Мы… не любим! Мы… женитц хотим!
Он впервые смотрел прямо на меня, и в этом взгляде смешалась добрая дюжина чувств: и тайное превосходство, и плохо скрытое многовековое презрение мусульманина к неверному, и оскорбленное достоинство, и брезгливость, и страх… «Это ваши мужчины, – говорил его взгляд, – у которых нет ничего святого, готовы болтать с первой встречной „джаляб“ о какой-то бесстыжей любви… А наш мужчина берет в жены чистую девушку, и она всю жизнь не смеет поднять ресниц на своего господина…»
Конечно, я несколько сгустила смысл внутреннего монолога, который прочла в его глазах, облекла в слишком литературную форму… да и разные, весьма разные узбекские семьи знавала я в то время… Но… было, было нечто в этом взгляде… дрожала жилка, трепетал сумрачный огонь…
Именно после этого урока в голову мою полезли несуразные мысли о том, что же такое культура и стоит ли скрещивать пастушескую песнь под монотонный звук рубаба с серенадой Шуберта.
А вдруг для всемирного культурного слоя, который век за веком напластовывали народы, лучше, чтобы пастушеская песнь существовала отдельно, а Шуберт – отдельно, и тогда, возможно, даже нежелательно, чтобы исполнитель пастушеской песни изучал Шуберта, а то в конце концов от этого получается песня Хамзы Хаким-заде Ниязи «Хой, ишчилар!»…
Может, и не буквально эти мысли зашевелились в моей голове, но похожие.
Я вдруг в полной мере ощутила на себе неприязнь моих студентов, истоки которой, как я уже понимала, коренились не в социальной и даже не в национальной сфере, а где-то гораздо глубже, куда в те годы я и заглядывать боялась.
Дома я затянула серенаду о том, что пора бежать из Института культуры.
– Бросай все! – предлагал мой размашистый папа. – Я тебя прокормлю. Ты крупная личность! Ты писатель! Тебя похоронят на Новодевичьем.
Мама умоляла подумать о куске хлеба, о моей будущей пенсии.
– Тебя могут оставить в институте на всю жизнь, – убеждала она, – еще каких-нибудь двадцать, тридцать лет, и ты получишь «доцента», а у доцентов знаешь какая пенсия!..
Беспредельное отчаяние перед вечной жизнью в стенах Института культуры дребезжало в моем позвоночном столбе. Я пыталась себя смирить, приготовить к этой вечной жизни.
(Тогда я еще не догадывалась, что нет ничего страшнее для еврея, чем противоестественное национальному характеру смирение.)
Ничего, говорила я себе, по крайней мере они меня боятся, а значит, уважают. Не могут не уважать.
Дошло до того, что перед каждым уроком – особенно перед уроком с тем студентом, в розовой атласной рубахе, темная тоска вползала в самые глубины моих внутренностей, липким холодным студнем схватывая желудок.
Я бегала в туалет.
Так, однажды, выйдя из дамского туалета, я заметила своего ученика, который на мгновение раньше вышел из мужского. Он со своим русским товарищем шел впереди меня по коридору в сторону аудитории, где через минуту должен был начаться наш урок. И тут я услышала, как с непередаваемой тоской он сказал приятелю:
– Урок иду… Умирайт хочу… Мой «джаляб» такой злой! У мне от страх перед каждый занятий – дрисня…
Помнится, сначала, прислонившись к стене коридора, я истерически расхохоталась: меня поразило то, как одинаково наши кишки отмечали очередной урок. Если не ошибаюсь, я подумала тогда – бедный, бедный… Во всяком случае, сейчас очень хочется, чтоб ход моих мыслей в ту минуту был именно таков…
Потом я поняла, что до конца своих дней обречена истязать этих несчастных ребят, и без того потерявших всякое ощущение разумности мирового порядка.
Я с абсолютной ясностью ощутила, что жизнь моя, в сущности, кончена. Бесконечный ряд юных рубаистов представился мне. В далекой туманной перспективе этот ряд сужался, как железнодорожное полотно. И год за годом, плавно преображаясь из молодой «джаляб» в старую, я строго преподавала им «Серенаду» Шуберта. Потом меня проводили на пенсию в звании доцента. Потом я сдохла – старая, высушенная «джаляб-доцент» – к тихому ликованию моих вечно юных пастухов.
Отшатнувшись от стены, выкрашенной серой масляной краской, я побрела к выходу во внутренний двор, огороженный невысоким забором-сеткой; там, за сеткой, экскаваторы вырыли обморочной глубины котлован под второе здание – Институт культуры расширялся.
Подойдя к сетке, я глянула в гиблую пасть земли и подумала: если как следует разбежаться и, перепрыгнув забор, нырнуть головой вниз, то об этот сухой крошащийся грунт можно вышибить, наконец, из себя эту – необъяснимой силы – глинистую тоску.
Мне было двадцать два года. Никогда в жизни я не была еще так близка к побегу.
Краем глаза я видела какую-то ватную личность на скамейке неподалеку. Мне показалось, что спрашивают, который час, и я оглянулась. Плешивый мужик в стеганых штанах крутил толстую папиросу. Он лизнул бумагу широким обложенным языком, заклеил, прикурил и вдруг поманил меня к себе пальцем, похожим на только что скрученную папиросу.
Откуда здесь это ископаемое, бегло подумала я, с этой военной цигаркой, в этих ватных штанах в самую жару…
Я приблизилась. От него несло махоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Он равнодушно и устало глядел на меня мутными испитыми глазками бессонного конвойного, много дней сопровождающего по этапу особо опасного рецидивиста.
– Вы спрашивали, который час? – проговорила я неуверенно.
– Домой! – вдруг приказал он тихо. И добавил похабным тенорком: – Живо!
Что прозвучало как «щиво!».
И я почему-то испугалась до спазма в желудке, обрадовалась, оглохла, попятилась, повернулась и пошла на слабых ногах в сторону главного входа – не оборачиваясь, испытывая дрожь облегчения, какая сотрясает обычно тело после сильного зряшного испуга.
Я уходила из Института культуры, оставив в аудитории соломенную шляпу, тетрадь учета посещений студентов и ручные часы, которые по старой пианистической привычке всегда снимала на время занятий.
Я уходила все дальше, спиной ощущая, какая страшная тяжесть, какой рок, какая тоска покидают в эти минуты обреченно ожидающего меня в нашей аудитории мальчика в розовой атласной рубахе.
Ни разу больше я не появилась в Институте культуры, поэтому в моей трудовой книжке не записано, что год я преподавала в стенах этого почтенного заведения. Не говоря уже о том, что и сама трудовая книжка в настоящее время – всего лишь воспоминание, к тому же не самое необходимое.
А пенсия… До пенсии все еще далеко.
Режиссерский сценарий побежал у меня живее – любое чувство изнашивается от частого употребления, тем более такая тонкая материя, как чувство стыда.
Пошли в дело ножницы. Я кроила диалоги и сцены, склеивала их, вписывая между стыками в скобках: «крупный план», или «средний план», или «проход».
Когда штука была сработана, Анжелла с углубленным видом пролистала все семьдесят пять страниц, почти на каждой мелко приписывая перед пометкой «крупный план» – «камера наезжает».
Из республиканского Комитета по делам кинематографии тем временем подоспела рецензия на сценарий, где некто куратор Шахмирзаева X. X. сообщала, что в настоящем виде сценарий ее не удовлетворяет, и предлагала внести следующие изменения, в противном случае… и так далее.
Поправки предлагалось сделать настолько неправдоподобно идиотские, что я даже не берусь их пересказать. Да и не помню, признаться. Кажется, главного героя требовали превратить в свободную женщину Востока, убрать из милиции, сделать секретарем ячейки; бабушку перелицевать в пожилого подполковника-аксакала и еще какую-то дребедень менее крупного калибра.
И опять я вскакивала, бежала как в муторном сне по длинным кривоколенным коридорам «Узбекфильма», и за мной бежали ассистенты и костюмеры, возвращали, водворяли в русло.
Месяца через полтора я потеряла чувствительность – так бывает во сне, когда занемеет рука или нога и снится, что ее ампутируют, а ты руководишь этим процессом, не чувствуя боли, и потом весь остаток сна с противоестественным почтением носишься, как с писаной торбой, с этой отрезанной рукой или ногой, не зная, к чему ее приспособить и как от нее отделаться.
Мы внесли деньги в жилищный кооператив, и на очередном безрадостном желтоглинном пустыре, в котором мама все же сумела отыскать некую привлекательность – кажется, прачечную неподалеку, – экскаваторы стали рыть котлован – такой же страшный, пустынный, желто-глинный…
Я уже ничего не писала, кроме сценария, переставляя местами диалоги, меняя пол героям, вводя в действие новых ублюдочных персонажей; когда казалось, что все это пройдено, очередная инстанция распадалась, как сувенирная матрешка, и передо мной являлась следующая инстанция, у которой к сценарию были свои претензии.
Я впала в состояние душевного окоченения. У меня работали только руки, совершая определенные действия: резать, клеить, стучать на машинке. Мама не могла нарадоваться на эту кипучую деятельность и каждый день приходила вымыть посуду, потому что я забросила дом.
Анжелла вызванивала меня с утра, требуя немедленно – возьми такси! – явиться, помочь, посоветовать… Целыми днями я хвостом болталась за ней по коридорам и пыльным павильонам «Узбекфильма». Изображались муки поиска актера на главную роль – Анжелла рылась в картотеке, веером раскладывала на столе фотографии скуластых раскосых мальчиков, студентов Театрального института.
Все уже знали, кто будет играть главную роль. Меня же все еще согревала идиотская надежда: найдем, найдем, ну должен он где-то быть – пусть скуластый и раскосый, но обаятельный, мягкий, талантливый мальчик с растерянной улыбкой.
– Малик Азизов… – читала Анжелла на обороте очередной фотографии. – Как тебе этот, в фуражке?
Я пожимала плечами.
– Симпатичный, нет?
– Просто симпатяга! – встревала Фаня Моисеевна. Анжелла смешивала карточки на столе, выкладывала их крестом, выхватывая одну, другую…
– Вот этот… Турсун Маликов… как тебе?
Я тяжело молчала. Все эти претенденты на главную роль в фильме были похожи на моих пастухов из Института культуры.
– Что-то в нем есть… – задумчиво тянула Анжелла, то отодвигая фото подальше от глаз, то приближая.
– Есть, определенно есть! – энергично кивала Фаня Моисеевна, закуривая тонкую сигарету. – Эдакая чертовщинка!
– Боюсь, никто, кроме Маратика, не даст образ… – вздыхала Анжелла.
– Только Маратик! – отзывалась Фаня Моисеевна.
– Да, но как его уговорить! – восклицала Анжелла с отчаянием.
Она любила своего ребенка любовью, испепеляющей всякие разумные чувства, исключающей нормальные родственные отношения. Из их жизни, казалось, выпал важнейший эмоциональный спектр – отношения на равных. Мать либо заискивала перед сыном, либо наскакивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда они оскорбляли друг друга безудержно, исступленно.
Разумеется, он был смыслом ее существования.
Разумеется, все линии ее жизни сходились в этой истеричной любви.
Разумеется, моя незадачливая повесть была выбрана ею именно потому, что пришло время воплотить ее божка на экране…
Когда несколько лет спустя, уже в Москве, меня догнала весть о гибели Маратика в автомобильной катастрофе (ах, он всегда без разрешения брал отцовскую машину, и бессильная мать всегда истерично пыталась препятствовать этому!), я даже зажмурилась от боли и трусости, не в силах и на секунду представить себе лицо этой женщины.
Из Москвы Анжелла выписала для будущего фильма оператора и художника.
Хлыщеватые, оба какие-то подростковатые, друг к другу они обращались: Стасик и Вячик – и нежнейшим образом дружили семьями лет уже двадцать.
У одного были жена и сын, у другого – жена и дочь, и оба о женах друг друга как-то перекрестно упоминали ласкательно: «Танюша», «Оленька»…
Они постоянно менялись заграничными панамками, курточками и маечками. Я не удивилась бы, если б узнала, что эти ребята живут в одном номере и спят валетом – это вполне бы вписывалось в их сдвоенный образ… Да если б и не валетом – тоже не удивилась бы.
Анжелла очень гордилась тем, что ей удалось залучить в Ташкент профессионалов такого класса. Я, правда, ни о том ни о другом ничего не слышала, но Анжелла на это справедливо, в общем, заметила, что я ни о ком не слышала, об Алле Пугачевой, вероятно, тоже…
– Что, скажешь, ты не видела классную ленту «Беларусьфильма» «Связной умирает стоя»?! – брезгливо спросила Анжелла.
Мне пришлось сознаться, что не видела.
– Ты что – того? – с интересом спросила она. – А «Не подкачай, Зульфира!» – студии «Туркменфильм», в главной роли Меджиба Кетманбаева?.. А чего ты вообще в своей жизни видела? – после уничтожительной паузы спросила она.
– Так, по мелочам, – сказала я, – Феллини-меллини… Чаплин-маплин…
– Снобиха! – отрезала она. (Когда она отвлеклась, я вытянула из сумки записную книжку и вороватым движением вписала это дивное слово.)
Выяснилось, что Стасик, оператор, как раз снимал фильм «Связной умирает стоя», а художник, Вячик, как раз работал в фильме «Не подкачай, Зульфира!».
По случаю «нашего полку прибыло» Анжелла закатила у себя грандиозный плов.
На кухне в фартуке колдовал над большим казаном Мирза: мешал шумовкой лук и морковь, засыпал рис, добавлял специи. На его худощавом лице с мягкой покорно-женственной линией рта было такое выражение, какое бывает у пожилой умной домработницы, лет тридцать живущей в семье и всю непривлекательную подноготную этой семьи знающей.
Он был еще не сильно пьян, даже не качался, и мы с ним поболтали, пока он возился с пловом. Он рассказал о величайшем открытии, сделанном учеными буквально на днях, – что-то там с полупроводниками, – бедняга, он не знал, что рассказывать мне подобные вещи – все равно что давать уроки эстетики дождевому червю. Но я слушала его с заинтересованным видом, кивая, делая участливо-изумленное лицо. Не то чтобы я лицемерила. Просто мне доставляло безотчетное удовольствие следить за движениями его сноровистых умных рук и слушать его голос – он говорил по-русски правильно, пожалуй слишком правильно, с лекционными интонациями.
Вообще здесь он был единственно значительным и, уж без сомнения, единственно приятным человеком.
За столом ко мне подсел оператор, Стасик, и, дыша коньяком, проговорил доверительно и игриво:
– Я просмотрел ваш сценарий… Там еще есть куда копать, есть!
Я кивнула в сторону огромного блюда со струящейся желто-маслянистой горой плова, в которой, как лопата в свежем могильном холмике, стояла большая ложка, и так же доверительно сказала:
– Копайте здесь. Он захохотал.
– Нет – правда, там еще уйма работы. Надо жестче сбить сюжет. Не бойтесь жесткости, не жалейте героя.
– Чтоб связной умирал стоя? – кротко уточнила я.
А через полчаса меня отыскал непотребно уже пьяный Вячик. Он говорил мне «ты», боролся со словом «пространство» и, не в силах совладать с этим трудным словом, бросал начатое, как жонглер, упустивший одну из восьми кеглей, и начинал номер сначала.
– А как ты мыслишь художссно… посра… просра… просраста фильма? – серьезно допытывался он, зажав меня в узком пространстве между сервировочным столиком и торшером, держа в правой руке свою рюмку, а левой пытаясь всучить мне другую. – У тебя там в ссы… ссынарии… я просра… поср… простарства не вижу…
Целыми днями Анжелла с «мальчиками» – Стасиком, Вячиком и директором фильма Рауфом – «искали натуру». Они разъезжали на узбекфильмовском «рафике» по жарким пригородам Ташкента, колесили по колхозным угодьям, по узким улочкам кишлаков.
Я не могла взять в толк – зачем забираться так далеко от города, создавая массу сложностей для съемок фильма, в то время как в самом Ташкенте, в старом городе, зайди в любой двор и снимай самую что ни на есть национальную задушевную драму – хоть «Али-бабу», хоть «Хамзу», хоть и нашу криминальную белиберду.
Помню, я даже задала этот вопрос директору фильма Рауфу.
– Кабанчик, – сказал он мне проникновенно (он со всеми разговаривал проникновенным голосом и всех, включая директора киностудии, называл «кабанчиком», что было довольно странным для мусульманина). – Чем ты думаешь, кабанчик? Если не уедем, где я тебе командировочных возьму?
И я, балда, поняла наконец: снимая фильм в черте города, съемочная группа лишилась бы командировочных – 13 рублей в сутки на человека.
Раза два и меня брали с собой на поиски загородных объектов.
Для съемок тюремных эпизодов выбрали миленькую, как выразилась Анжелла, тюрьму, только что отремонтированную, с железными, переливающимися на солнце густо-зеленой масляной краской воротами.
Съемочная группа дружной стайкой – впереди какой-то милицейский чин, за ним щебечущая Анжелла в шортах, Стасик в кепи и с кинокамерой на плече, пьяный с утра Вячик, мы с Рауфом – прошвырнулась по коридорам пахнущего краской здания, энергично одобряя данный объект.
Нас даже впустили во внутренний – прогулочный – двор, при виде которого я оторопела и так и простояла минут пять, пока остальные что-то оживленно обсуждали.
Прогулочный двор тюрьмы представлял собой нечто среднее между декорацией к модернистскому спектаклю и одной из тех гигантских постмодернистских инсталляций, которые в западном искусстве вошли в моду лет через пять.
Это была забетонированная площадка, со всех сторон глухо окруженная бетонной высокой стеной, с рядами колючей проволоки над ней. Вдоль торцовой стены – как сцена – возвышался подиум с двумя ведущими к нему ступенями. На подиуме рядком стояли три новеньких унитаза, по-видимому установленные на днях в ходе ремонта. Они отрадно сверкали эмалью под синим майским небом, свободным – как это водится в тех краях – от тени облачка.
«Течет ре-еченька по песо-очечку, бережочки мо-оет…» – послышалось мне вдруг. Запрокинув голову, я пересчитала взглядом зарешеченные окна вверху. Нет, показалось. Щелк ассоциативной памяти.
«Ты начальничек, винтик-чайничек, отпусти до до-ому…»
– Ах, какие дивные параши! – воскликнул Вячик. – Задрапировать их, что ли! Под королевский трон! Под кресло генсека ООН!
И Стасик, вскинув камеру, принялся снимать постмодернистскую сцену с тремя унитазами…
После длительных поисков Анжелла и мальчики остановили свой выбор на районном центре Кадыргач – была такая дыра в окрестностях Ташкента. Для съемок фильма на лето сняли большой, типично сельский дом с двориком, принадлежащий, кажется, бухгалтеру колхоза, и – для постоя всей съемочной группы – верхний этаж двухэтажной районной гостиницы «Кадыргач».
Стояла жара – еще не пыльный августовский зной, а душный жар середины мая. Не знаю, какую культуру, кроме хлопка, выращивал колхоз «Кадыргач», но в местной гостинице и закрытой столовой обкома, куда нас однажды по ошибке пустили пообедать (потом опомнились и больше уже не пускали. Смутно помню очень мясные голубцы по двенадцать копеек порция, жирный плов и компот из персиков), – во всем этом благословенном пригороде произрастали, реяли, парили, зависали в плывущем облаке зноя и, кажется, охранялись обществом защиты животных зудящие сонмища мух.
Гостиница производила странное впечатление. Первый этаж – просторный, с парадным подъездом, с мраморными панелями и полом и даже двумя круглыми колоннами в холле – выглядел вполне настоящим зданием. Второй же этаж казался мне декорацией, спешно возведенной к приезду съемочной группы. Это были узкие номера по обеим сторонам безоконного и оттого вечно темного коридора, разделенные между собой тонкими перегородками.
Впрочем, в номере оказался унитаз – удобство, о котором я и мечтать не смела. Унитаз был расколот сверху донизу – то ли молния в него шарахнула, то ли ядрами из него палили, – но трещину заделали цементом, и старый ветеран продолжал стойко нести свою невеселую службу.
Анжелла сняла «люкс» в противоположном конце коридора – две смежные комнатки с такой же командировочной мебелью. В гостиной, правда, стояли несколько кресел образца куцего дизайна шестидесятых годов.
Вокруг Анжеллы крутились пять-шесть девочек от восемнадцати до шестидесяти лет – костюмерши, гример, ассистентки. Появился второй режиссер фильма Толя Абазов – образованный, приятный и фантастически равнодушный ко всему происходящему человек, – он единственный из всей группы не имел претензий к моему сценарию, поскольку не читал его.
(Кажется, он так и не прочел его никогда. За что я до сих пор испытываю к нему теплое чувство.)
Первые дни в «люксе» шли репетиции – сидя в кресле и разложив на коленях листки сценария, Анжелла лениво отщипывала по сизой виноградине от тяжелой кисти. Репетировали небольшой эпизод из середины фильма.
Если до того рухнули все мои представления о работе режиссера над сценарием, то сейчас полетело к черту все, что я знала и читала когда-либо о работе режиссера с актерами.
С утра Толя Абазов привозил из Ташкента в «рафике» двух студентов Театрального института, занятых в эпизоде. Один репетировал роль уголовника, другой – роль лейтенанта милиции.
Оба мальчика выглядели если не близнецами, то уж во всяком случае родными братьями. Текста сценария оба, естественно, не знали, и, как выяснилось, к актерам никто и не предъявлял подобных вздорных требований. А я, как на грех, почему-то нервничала, когда вместо текста актер нес откровенную чушь. Эта моя реакция неприятно меня поразила. Я была уверена, что мое авторское самолюбие благополучно издохло, но выяснилось, что оно лишь уснуло летаргическим сном и сейчас зашевелилось и замычало.
– Не психуй, – раздраженно отмахивалась Анжелла. – Мы же потом наймем укладчицу!
Слово «укладчица» вызывало в моем воображении грузных женщин в телогрейках, с лопатами, выстроившихся вдоль полотна железной дороги, а также шпалы, рельсы, тяжело несущиеся куда-то к Семипалатинску поезда…
– Толя, что значит – «наймем укладчицу»? – тревожным полушепотом спросила я у Абазова.
Тот посмотрел на меня безмятежным взглядом и проговорил мягко:
– Приедет блядь с «Мосфильма». Заломит цену. Ей дадут. Она всем даст. Потом будет сидеть, задрав ноги на кресло и сочинять новый текст в соответствии с артикуляцией этих ферганских гусаров.
– Как?! – потрясенно воскликнула я. – А… а сценарий!! А… все эти инстанции?! «Образ героя не отвечает»?!
Он нагнулся к блюду с фруктами и, оторвав синюю гроздку, протянул мне:
– Хотите виноград?..
Буквально репетиции проходили так.
– Ты входишь оттуда, – приказывала Анжелла одному из мальчиков, репетирующему роль подследственного. – А ты стоишь там, – указывала она пальцем мальчику, репетирующему роль следователя.
– Да нет, Анжелла, нет!! – взвивался оператор Стасик, который с самого своего приезда ревностно выполнял обязанности Старшего Собрата по творчеству. – Куда это годится, ты разрушаешь всю пространственную концепцию. Это он, наоборот, должен стоять там, а тот – выходить оттуда! Это ж принципиально разные вещи!
Потоптавшись у дверей, мальчик, репетирующий подследственного, делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя, и говорил неестественно бодрым голосом:
– Здорово начальник! Вызывал?
– Там нет этого идиотского текста!! – вопила я из своего угла. – Почему вы не учите роль?!
– Отстань, приедет укладчица, всех уложит, – огрызалась Анжелла. – Не мешай репетировать. Сейчас главное – как они двигаются в мизансцене. А ты не стой, как козел! – обращалась она к мальчику. – Ты нахальней так: «Здорово, начальник! Вызывал?»
– Учите роль, черт возьми! – нервно вскрикивала я.
– Нет-нет, Анжелла, я принципиально против этой мизансцены! – Стасик вскакивал с кресла – атласно выбритый, в белом кепи и белой маечке с картинкой на груди – задранные женские ножки – и надписью по-английски: «Я устала от мужчин». – Он должен стоять вот здесь, повернувшись спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: «Здорово, начальник, вызывал?» – поворачивается…
– И камера наезжает, – подхватывала Анжелла, – и глаза крупным планом… Ну, пошел, – предлагала она несчастному студенту, – оттуда, от дверей…
– Здорово, начальник! Вызывал? – вымученно повторял мальчик, косясь на Анжеллу.
– Да не так, не так, более вкрадчиво: «Здорово, начальник, вызывал?»
– Здорово, нача-альник…
– Нет. – Анжелла откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало: – Покажи ему, как надо.
Я шла к двери, открывала и закрывала ее, делая вид, что вошла, скраивала на лице ленивое и хитрое выражение, одергивала воображаемую рубаху, рассматривала воображаемые сандалии на грязных ногах и – столько интеллектуальной энергии уходило у меня на эти приготовления, что когда я наконец открывала рот, то говорила приветливо и лукаво, как актер Щукин в роли Ленина:
– Здорово, начальник! Вызывал?..
После того как на главную роль в фильме был утвержден Маратик, я перестала интересоваться актерами, приглашенными на роли остальных героев.
Толя Абазов съездил в Москву и привез двух актеров, кажется – Театра Советской Армии. Один должен был играть Русского Друга, впоследствии убитого уголовной шпаной (трагическая линия сценария), второй, маленький верткий армянин с печальными глазами, играл узбекского дедушку главного героя (комическая линия сценария). Ребята были бодры, по-столичному ироничны и всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков.
На роль бабушки главного героя (лирическая линия сценария) привезли из Алма-Аты народную артистку республики Меджибу Кетманбаеву – плаксивую и вздорную старуху со страшным окаменелым лицом скифской бабы. Она затребовала высшую ставку – 57 рублей за съемочный день, «люкс» в гостинице и что-то еще невообразимое – кажется, горячий бешбармак каждый день.
Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку.
– Кабанчик, – говорил он ей плачущим голосом, – ты ж нас режешь по кусочкам! Где я тебе бешбармак возьму, мы ж и так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик!
(В конце концов она повздорила с Анжеллой и уехала, не доснявшись в последних трех эпизодах. Я, к тому времени совсем обалдевшая, вяло поинтересовалась, что станет с недоснятыми эпизодами.
– Да ну их на фиг, – отозвалась на это повеселевшая после отъезда склочной бабки Анжелла. – Вот приедет укладчица, она всех уложит…)
В один из этих дней Анжелла с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать не кто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино.
Дальше следовала насторожившая меня ахинея: будто бы Ласло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что, не дождавшись утра, позвонил Анжелле ночью.
– Не веришь? – спросила Анжелла, взглянув на мое лицо. – Спроси сама. Он приезжает сегодня и в три часа будет на «Узбекфильме».
Мы околачивались на студии – подбирали костюмы, смотрели эскизы Вячика к фильму. Основной его художественной идеей была идея драпирования объектов. Всех.
– Драпировать! – убеждал он Анжеллу. Это было единственное трудное слово, которым он владел в любом состоянии. – Драпирование – как мировоззрение героя. Он – в коконе. Весь мир – в коконе. Складки, складки, складки… Гигантские складки неба… гигантские складки гор…
– Слушай, где небо, где горы? – слабо отбивалась Анжелла. – Главный герой – следователь милиции. Маратик не захочет драпироваться.
Между тем было, было что-то в этой идее, которой посвятил свою жизнь Вячик. В первые дни Анжелла, обычно подпадавшая под очарование творческих идей свежего человека, дала ему волю. И наш художник всего за несколько часов до неузнаваемости задрапировал дом главного бухгалтера: развесил по стенам, по люстрам, по стульям какие-то дымчатые прозрачные ткани. Все эти воздушные шарфы и шлейфы колыхались и нежно клубились в струях сквозняков. А поскольку левое крыло дома осталось обитаемым и по двору время от времени сновали какие-то юркие молчаливые женщины – дочери, невестки, жены бухгалтера, – то все это сильно смахивало на декорации гарема.
Правда, в первый день съемок, примчавшись на гремящем мотоцикле, Маратик навел порядок на съемочной площадке. Он посрывал все драпировки мускулистой рукой каратиста, покрикивая:
– Оно по голове меня ползает! Я что – пидорас, что ли, в платочках ходить?
И директор фильма Рауф успокаивал полуобморочного Вячика:
– Кабанчик, ну не скули – какой разница, слушай – тряпка туда, тряпка сюда… Все спишем, кабанчик!
В три мы спохватились, что забыли позвонить на проходную, заказать пропуск для Ласло Томаша, а на проходной сидел-таки вредный старикашка. Вернее, он не сидел, а полулежал за барьером на сдвинутых стульях, накрытых полосатым узбекским халатом, и весь день пил зеленый чай из пиалы. Старик то ли притворялся, то ли действительно находился в крепкой стадии склероза, только он совсем не помнил лиц, ни одного. Он не помнил лица директора студии. Но обязанности свои помнил.
По нескольку раз в день он заставлял демонстрировать бумажку пропуска или красные членские книжечки творческих союзов.
Выскочишь, бывало, за пивом – проходная пуста. И вдруг на звук твоих шагов из-за барьера вырастает, как кобра, на длинной морщинистой шее голова старикашки: «Пропск!»
Ну, покажешь членский билет, чего уж… Бежишь назад с бутылками пива – над барьером проходной опять всплывает сморщенная башка, покачивается: «Пропск!» Етти твою, дед, я ж три минуты назад проходил! Нет, хоть кол ему на голове… «Пропск»!
Так что Анжелла попросила меня спуститься, вызволить на проходной Ласло Томаша.
Я сбежала по лестнице, пересекла виноградную аллею узбекфильмовского дворика. Навстречу мне шел высокий человек в очках, с крючковатым маленьким носом.
– Вы – Ласло? – спросила я как можно приветливей. – Ради Бога, извините, мы забыли заказать пропуск. Вас, наверное, охранник не пускал?
Он внимательно и сумрачно взглянул на меня сверху. Производил он впечатление человека чопорного и в высшей степени респектабельного; назидательно приподняв одну бровь, отчего его маленький крючковатый нос стал еще высокомернее, он сказал:
– Вехоятно, собихался не пускать… Но я его схазу выхубил. На всякий случай.
(Он одновременно грассировал и по-волжски окал. Так бы мог говорить Горький-Ленин, если б был одним человеком.)
– …Как?.. – вежливо переспросила я, полагая, что ослышалась. В конце концов, Ласло был венгром и в Союзе жил только с 65 года.
– Да так… Саданул сапогом по яйцам и – будь здохов, – пояснил он, не меняя назидательного выражения лица. – Вон он, валяется квехху жопой. С кем имею честь столь пхиятно беседовать?
– Я автор сценария, – пробормотала я, косясь в сторону проходной, где и правда старик охранник неподвижно лежал (как всегда, впрочем) на сдвинутых стульях.
После этих моих слов Ласло Томаш повалился мне в ноги. Лбом он крепко уперся в пыльный сандалий на моей правой ноге и замер. Я в полной оторопи смотрела на его шишковатую плешь, окруженную легким седоватым сорнячком, и не могла сдвинуть ногу, к которой он припал, как мусульманин в молитвенном трансе.
С полминуты длилась эта дикая пантомима, наконец Ласло вскочил, поцеловал мне руку и стал говорить, как ему понравился сценарий, какие в нем легкие, изящные диалоги и прочее – вполне приятный и светский, ни к чему не обязывающий разговор. На мгновение я даже подумала, что все мне привиделось.
– Вы… вытрите, пожалуйста… вот здесь, – пролепетала я, показывая на его лоб с грязноватой плетеночкой следа от моего сандалия.
За те три минуты, в течение которых мы поднимались по лестнице и шли по коридорам студии, я успела узнать, что Ласло – последний венгерский граф Томаш, что он расстался с женой, не сумевшей родить ему сына, который бы унаследовал титул, что недавно он перешел из лютеранства в православие и нынче является монахом в миру; что ленинградский Кировский театр готовит к премьере его новый балет «Король Лир», и нет ли у меня с собой какой-нибудь крепящей таблетки, поскольку с утра у него – от дыни, вероятно, – сильнейший понос.
Через полчаса мы сидели в маленькой студии и смотрели куски отснятого материала: кадр – бегущий куда-то Маратик, кадр – немо орущий в камеру Маратик, кадр – довольно профессионально дерущийся Маратик; два-три кадра, в которых старая хрычовка Меджиба Кетманбаева небрежно отрабатывала свою народную ставку в немой сцене с внуком – Маратиком, и несколько долгих кадров мучительного вышагивания по коридорам здания милиции задушевно (беззвучно, разумеется) беседующих Маратика с артистом Театра Советской Армии.
Когда зажегся свет, я услышала тяжелый вздох Толи Абазова.
– Гениально! – твердо и радостно проговорил Ласло Томаш. – Поздхавляю вас, Анжелла! Поздхавляю всю съемочную гхуппу! Это будет лента года. Я напишу очень хогошую музыку. Я уже слышу ее – вступление. Это будет двойной свист.
Наступила пауза.
– Двойной? – зачарованно переспросила Анжелла.
– Мужской и женский свист на фоне лютни и ксилофона.
Толя опять вздохнул.
Когда через полтора часа мы с Ласло Томашем вышли за ворота киностудии – Анжелла попросила меня показать композитору город, – я осторожно спросила:
– Ласло… а вам действительно понравилось то, что вы сегодня видели на экране?
– Конечно! – оживленно воскликнул тот. – Пхосто я, как пхофессионал, вижу то, чего еще нет, но обязательно будет. Я убежден, что это будет сногсшибательная лента… По вашему гениальному сценахию… – (тут я искоса бросила на него взгляд: нет, воодушевление чистой воды и ни грамма подтекста), – с замечательной хежиссухой Анжеллы и блистательным главным гехоем – кстати, что это за выдающийся мальчик, где вы его нашли?
– Долго искали, – упавшим голосом пробормотала я. И помолчав, спросила: – Скажите, а вас не смущает то, что камера оператора постоянно сосредоточена на джинсах героя и очень редко переходит на его лицо?
– А на чехта мне его лицо, – доброжелательно ответил последний граф Томаш, – он же ни ххена этим лицом не выхажает. Его мочеполовая система гохаздо более выхазительна. И опехатох, несмотхя на то, что он всесоюзно известный болван, это пхекхасно понял.
Так что хабота мастехская. Жаль только, что художником фильма вы взяли этого пигоха с его вечными дхапиховками. Я пхедлагал еще в Москве Анжелле пхигласить выдающегося художника, моего дхуга. Его зовут Бохис, я обязательно познакомлю вас. Он пхочел сценахий и пхишел в полнейший востохг… К сожалению, дела не позволили ему выхваться из Москвы… А этот пидох, – с радостным оживлением закончил Ласло, – он, конечно, загубит дело. Я пхосто убежден, что это будет ослепительно ххеновая лента…
Целый день мы гуляли по городу с последним венгерским графом. Постепенно, в тумане полного обалдения от всего, что выпевал он своим горьковско-ленинским говорком, я нащупала то, что называют логикой характера. Граф был веселым мистификатором, обаятельным лгуном. Он мог оболгать человека, которого искренне любил, – к этому надо было относиться как к театральному этюду. Его слова нельзя было запоминать, и тем более – напоминать о них Ласло. Следовало быть только преданным зрителем, а то и партнером в этюде и толково подавать текст. Он, как и моя мать, обряжал жизнь в театральные одежды, с той только разницей, что моя задавленная бытом мама никогда не поднималась до высот столь ослепительных шоу.
По пути мы зашли в гостиницу «Узбекистан», где остановился Ласло, – кажется, ему потребовался молитвенник; получалось так, что без молитвенника дальнейшей прогулки он себе не мыслил.
В одноместном номере над узкой, поистине монашеской постелью, чуть правее эстампа «Узбекские колхозники за сбором хлопка», висело большое распятие, пятьдесят на восемьдесят, не меньше. Я постеснялась спросить, как он запихивает его в чемодан, и удержалась от просьбы снять со стены и попробовать на вес – тяжелое ли.
Ласло демонстративно оборвал наше веселое щебетанье на полуслове, преклонил колена и, сложив ладони лодочкой, мягким голосом прогундосил молитву на греческом. Я наблюдала за ним с доброжелательным смирением.
Поднявшись с колен, монах в миру потребовал, чтобы я немедленно надписала и подарила ему свою новенькую книжку, изданную ташкентским издательством на плохой бумаге. (В те дни она только вышла, и я таскала в сумке два-три экземпляра и всем надписывала.)
Потом Ласло велел прочесть вслух один из рассказов в книге.
– Я читаю и говохю на восьми языках, – пояснил он, – но кихиллицу пхедпочитаю слушать.
Тут я поняла, что он просто не мог прочесть моего сценария. У меня как-то сразу отлегло от сердца, и я с выражением прочла довольно плохой свой рассказ, от которого Ласло прослезился.
– Да благословит Господь ваш талант! – проговорил он, плавно перекрестив меня с расстояния двух метров. Так художник широкой кистью размечает композицию будущей картины на белом еще холсте. – Я увезу вас в Шахапову охоту, – заявил он, просморкавшись.
– Куда? – вежливо переспросила я.
– Шахапова охота – это станция под Москвой. У меня там дом. Я увезу вас в Шахапову охоту, пхикую кандалами к письменному столу и заставлю писать день и ночь…
– Спасибо, – сказала я благодарно, стараясь посеребрить свой голос интонациями преданности, – боюсь, что…
– Вам нечего бояться!! – воскликнул он страстно. – Я монах в миху, и вы интехесуете меня только с духовной стохоны…






