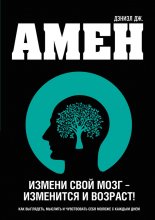Двери в полночь Оттом Дина

Я толкнула Дэвида локтем:
— Кто это?
— А… — он вздохнул. — Это суккуб.
— Еще один?! — Я мгновенно вспомнила Айджес с ее безупречной, но совершенно иной красотой.
— Почему бы нет? — Дэвид неотрывно следил за девушкой. — Ее зовут Сатрекс, и, говорят, она сестра Айджес.
Я чуть сигарету не выронила из пальцев.
— Сестра?!
— А что ты так удивляешься? — Мы невольно вместе проследили, как суккуб встала со своего места — небольшого диванчика, на котором сидела с ногами, — и прошла куда-то в глубь дыма, где, видимо, располагалась барная стойка.
Двигалась она совершенно удивительно — не так быстро, как вампиры, когда просто не успеваешь уследить за ними; не так, как оборотни — легко и будто танцуя. Она почти парила над полом, каждое движение было плавно и легко, наводя на мысль о потоках воды, мягко струящихся по шелку.
— Черна?
— А? — Я оглянулась, думая, что это Сатурн вернулся с моим кофе.
Передо мной стоял незнакомый невысокий парень с коротко остриженными и поставленными ежиком волосами. Его желтоватая кожа обтягивала череп так плотно, что я почти видела, как скулы переходят в зубы. Это был оборотень, и я бы сказала, что его просто трясло, как наркомана без дозы.
— Мы знакомы? — не поняла я.
Он двинулся так быстро, что я не успела даже толком осознать его движение. Просто на мгновение воздух между нами стал смазанным, а потом я увидела, что из меня торчит рукоятка ножа. Она ушла мне ровно под грудь, кажется зацепив ребра и что-то еще. Я моргнула, пытаясь зацепить Дэвида начинающей неметь рукой, но его не было рядом. Уши стремительно закладывало, рубашка намокала на глазах, становясь почти невыносимо теплой и липкой. Кто-то что-то кричал, я уже не могла разобрать — в ушах стоял неимоверный звон, пол и потолок куда-то улетели, перед глазами забегали черные мошки, дышать стало трудно — и перед тем, как чернота придавила меня, унося из бара, резкая боль вдруг взорвала мир вокруг. Я вскрикнула — и все исчезло.
Можно тренироваться очень долго. День и ночь, ночь и день — сутки напролет, месяцы, годы. Но какой бы удивительной реакцией ты ни обладал, какую бы груду кирпичей ни прошибал ребром ладони, ты не сможешь уйти от удара ножом в сердце с расстояния в двадцать сантиметров. Нож всажен в тебя по самую рукоять, и в этот момент ты думаешь только о том, что человек не смог бы этого сделать. У него бы не хватило сил. А вот у нелюдя — легко.
Может быть, только покидая мир, начинаешь понимать, насколько он на самом деле мал, и как просто добраться до всего интересного. И насколько ему наплевать, есть ты или нет.
25
Скрип двери.
Тихие шаги.
Попискивание приборов, жесткие крахмальные простыни и приглушенный свет. Щелкает выключатель — и он пропадает вовсе, только из окна едва пробивается серая хмарь, сквозь жалюзи рисующая рваные полосы на стене.
Веер темных волос, раскинувшийся по подушке. Белая как мел кожа. Заострившиеся черты лица. Плотно закрытые веки. Капельки пота над верхней губой. Сведенные, сжавшиеся в кулаки пальцы.
Белая простыня охватывает контуры тела, как будто обводя, и видно, какой хрупкой стала ее фигура. Она лежит на боку, и даже в этой недвижной позе проступают напряжение и боль. А слева, чуть ниже груди, виднеется сквозь простыню багровое пятно.
— Почему кровь?
— Регенерация. Тело пытается создать новые клетки. Сил не хватает, но кровь вырабатывается. Ты же знаешь.
Тишина. Где-то за окном просыпается город. Скользят по мокрым дорогам машины. Бегут на работу первые прохожие, подняв воротники. Где-то там Город живет своей жизнью. А здесь — жизнь заканчивается.
Они молчат. Смотрят на бессмысленные приборы, песочными часами XXI века отсчитывающие ее минуты.
— Какая глупость… — неожиданно для себя самого роняет оборотень и почти вздрагивает от звука собственного голоса. Его хозяин оборачивается к нему — черная фигура на фоне окна — и внимательно смотрит.
— Да, глупость, но так бывает.
Оборотень, не отрываясь, смотрит на нее, прожигает глазами каждый сантиметр тела, и на мгновение ему кажется, что он начинает сходить с ума. Белая постель, темные волосы, писк приборов — и невозможность что-то изменить.
Они стоят в тишине в ногах кровати и ждут — как будто должны отдать дань уважения, подождав с ней, пока…
— Мне очень жаль, Оскар… — Голос печален и тих, но в палате он звучит неожиданно гулко, раскатывается по полу и отражается от стен.
И оборотень срывается. Только что он стоял, сложив беспомощные руки на груди, — и вот они уже сжимают воротник плаща Шефереля, а сам он прижат спиной к стене.
— Тебе жаль?! ТЕБЕ ЖАЛЬ?! Да что ты понимаешь?! Ты же не знаешь, каково это — чувствовать! Ты же давно забыл, каково терять людей!
Оскар встряхивает Шефереля, оторвав от пола, и бьет спиной о крашеную стену, но лицо того совершенно спокойно и бесстрастно, в льдистых глазах немного сочувствия и безгранично — терпения. Он болтается как кукла в руках обезумевшего зверя, его тело послушно бьется в такт озлобленности на этот мир — такой странный, такой одинаковый.
— Ты стер память Нины, навсегда лишив ее даже шанса на нормальную жизнь, — а ведь выход можно было найти! Но тебе было так проще! Ты заставил меня дать тебе это сделать, ты заставил меня не возражать! Это моя ошибка, за которую я ненавижу себя все эти тридцать лет!
Снова глухой удар о стену — только взметнулись полы плаща да голова мотнулась из стороны в сторону. Шеферель молчит, он просто ждет.
— Я не дам тебе и тут пройти мимо, — глаза Оскара горят. Кажется, этот желтый свет вот-вот обратится в пламя. Голос срывается на рычание, и вместо зубов уже появились клыки. — Ты — ей — поможешь. Слышишь меня, рухлядь?! Слышишь?!
В следующую секунду он уже летит по полу в другой конец палаты, а Шеферель поправляет воротник и сощелкивает с рукава несуществующую пылинку. Он поднимает на оборотня глаза, и его губы чуть трогает улыбка:
— Во-первых, киса, никогда не называй меня рухлядью. То, что я тебя раз в десять-пятнадцать старше, не дает тебе права обзываться.
Он делает шаг вперед, подходя, и из угла на него бросается пантера. Она целится когтями в грудь, лапы вытянуты в прыжке, морда оскалена, клыки метят в горло. Шеферель ждет до последнего момента и резко выкидывает руку вперед, хватая ее за массивную шею. Зверь хрипит, на секунду повиснув на стиснувшей его руке, и в то же мгновение бьет по ней когтями. Четыре полосы мгновенно набухают кровью, она падает на кафельный пол тяжелыми алыми каплями. Шеферель отпускает, с досадой смотря на порванный плащ.
Он переводит взгляд на пантеру: оборотень припал к земле, уши прижаты, морда оскалена, хвост бьет по бокам — кажется, вот-вот посыплются искры.
— Ты зарвался, котенок.
Его голос спокоен, но оборотень знает, насколько обманчиво спокойствие этого существа. Он бросается вперед, надеясь опрокинуть его на спину, но в грудь ему ударяет кулак, и зверь падает на пол всем весом — удар силен, крошится кафель. Не дожидаясь, пока он встанет, Шеферель делает несколько шагов вперед, внезапно припадая на одно колено рядом с пантерой. Он оскаливается — во рту у него уже не зубы. В свете больничных ламп поблескивают длинные узкие клыки. Оскар как раз пытается встать и сам напарывается на них спиной — без единого усилия они прошивают шкуру. Брызжет кровь. Оборотень испускает дикий рык, пытаясь достать противника, но тот уже распрямился, одновременно уйдя назад и вбок — его не достать. На секунду он цепляется ногой за больничную тележку с инструментами, и этого оказывается довольно: Оскар бросается вперед, чуть наклоняя голову, Шеферель пытается защититься, но безрезультатно, пантера сметает выставленные вперед руки и погружает клыки в его бок. Шеферель не кричит — шипит, но это шипение рвет барабанные перепонки. Он бьется и пытается исцарапать зверю морду, но тот держит крепко, только машет головой из стороны в сторону…
Кровь льет с обоих вперемежку с потом, рычание и шипение заглушают друг друга. Ни один прибор не потревожен, все стоит на своих местах — только штукатурка и кафель сыплются под летящими телами…
Все прекращается внезапно. В одном углу поднимается с пола Оскар — все лицо в порезах, губы порваны, на груди кровоподтеки, волосы слиплись от пота и крови, и багровая струйка бежит по спине вниз, заливаясь за ремень брюк. Шеферель, чуть пошатываясь, поднимается с колен у другой стены. Его плащ изодран, на скуле длинная рана. Одну руку он прижимает к разбитой губе, второй пытается удержать бьющую из порванного бока кровь — она толчками просачивается сквозь его бледные узкие пальцы, стекая по штанине вниз. Оба прерывисто дышат, не сводя друг с друга яростных глаз.
— А ты… хорош… стал… — произносит Шеферель в перерывах между вдохами. — Но не стоит… забывать… кто учил тебя… драться…
Оскар поднимает с пола рубашку, отирает ей лицо, пытается прижать к прокушенной спине — в ней четыре узких, но очень глубоких дыры.
— Не думал, что ты выпустишь клыки, — замечает он, разглядывая следы крови на рубашке.
— Ты меня достал, — поясняет Шеферель, делая несколько шагов вперед. Он морщится при каждом шаге и чуть прихрамывает на левую ногу.
Мужчины смотрят друг на друга. Кажется, время замерло, и кровь гулко стучит у Оскара в ушах. Он пытается найти в этих ледышках, которые заменяют его хозяину глаза, хоть что-то, хоть какое-то проявление эмоций — тщетно, там только лед и ничего больше. Никто не знает, о чем думает Шеферель, чего хочет.
Внезапно его губы чуть кривятся — алая усмешка прорезает бледную щеку. Он подходит к кровати с левой стороны и подтаскивает к себе стул. С трудом, морщась, садится.
— Дай мне каких-нибудь тряпок, животное. Дело делом, но смешивать с ней свою кровь я не имею никакого желания.
Оскар судорожно оглядывается, но в палате пусто и чисто, если не считать оседающей в воздухе пыли от их драки. Он протягивает Шеферелю свою рубашку. Тот хмыкает, произнося что-то вроде: «С тобой тоже не хочу…» — но кое-как перетягивает ей порванный бок и встряхивает руками.
— А теперь сделай одолжение — не издай ни звука.
Шеферель откинул порядком набухшую кровью простыню и придирчиво осмотрел тело. В больнице Черну не стали переодевать, просто порвали футболку, чтобы освободить доступ к ране. Ниже груди девушка вся перемотана бинтами. Шеферель осторожно коснулся бурого бинта пальцами и недовольно поцокал языком.
— Как же тебя угораздило… — тихо произнес он, и Оскару показалось, что в его голосе проскользнуло сочувствие.
Шеферель поднял взгляд, вглядываясь в лицо Черны. Сжатые губы, сведенные брови, закрытые глаза. Казалось, она от чего-то пыталась отбиться, не хотела что-то видеть.
— Ты знаешь, где находится сознание, когда мы… умираем?
— Я же просил заткнуться, — резко бросил Шеферель через плечо. И продолжил после паузы: — Не в этом мире, насколько я знаю. И не в Нижнем. Миров слишком много, Оскар, и я не взялся бы ее ловить по ним.
— Но ты же можешь ей помочь? — вскинулся тот.
— Да я же просил тебя захлопнуть пасть! — Шеферель развернулся на стуле, прожигая оборотня яростным взглядом. — Я что, на непонятном тебе языке говорю?!
В палате снова повисла тишина.
Шеферель вздохнул, нахмурившись. Вряд ли кто-то в НИИДе видел его хоть раз таким серьезным. Он протянул вперед руки, резко и легко разорвал бинты. Под левой грудью темнела рана — аккуратная, но глубокая, с разошедшимися краями, постоянно выплевывающая наружу новую порцию темной густой крови. Пару секунд Шеферель смотрел на нее — а потом прижал рукой. Просто закрыл ладонью и наклонил голову, прикрыв глаза. Между его пальцев медленно стали проступать багровые полоски, потом побежали капли…
В комнате потемнело. Быстро, как будто снаружи кто-то закрыл черной тканью солнце. По палате прокатился порыв ветра, растрепав Оскару волосы.
От Шефереля стало исходить легкое свечение. Оно зародилось где-то в районе его головы, медленно растеклось по плечам, спустилось на грудь, охватило порванный бок, пробежало по протянутой руке — и замерло на ране. Пару секунд Черна лежала спокойно, а потом вдруг выгнулась со страшным хрипом, распахнув испуганные, слепо смотрящие вперед глаза. Она хватала ртом воздух и била руками по простыне, но телом продолжала прижиматься к руке Шефереля, как будто не могла от нее оторваться, как ни старалась. Напряженные ноги скользили по кровати, распахнутый рот хватал воздух. Шеферель продолжал сидеть рядом с ней, не двигаясь, только свечение от него стало расходиться по палате кругами, постепенно тая в окружающей хмари. Волосы трепал непонятный ветер, глаза были плотно закрыты, брови чуть нахмурены.
Оскар стоял поодаль и старался не двигаться, шокированно наблюдая за происходящим. Он переводил взгляд с Шефереля на Черну и не мог отделаться от ощущения, что что-то начинается. Что он сделал выбор, который повлечет за собой столько всего, что сейчас он даже представить этого не может. Он не дал этой девочке умереть — и, кто знает, что теперь будет? Теперь, когда она привязана к Шеферелю?..
Прижатая к груди Черны рука почернела, кожа на ней стала плотной и гладкой, без единого волоска, вместо аккуратных ногтей проступили твердые, завернутые крючьями золотые когти. Оскар невольно сжал руки, впиваясь ногтями в ладони, — ему стало… страшно.
И тут все кончилось. В палате мгновенно просветлело, Черна и Шеферель одновременно обессиленно упали — она на кровать, он на спинку стула. Оскар подскочил к начальнику почти мгновенно, ловя его ослабевшее тело. Тот кое-как улыбнулся, приоткрыв один глаз, — голова откинута на спинку стула, грудь ходит ходуном, пытаясь справиться с сердцебиением. Он поднял руку и убрал со лба волосы — она немного дрожала, но уже стала обычного человеческого вида.
— Я не знал, что это для тебя так… тяжело, — едва слышно прошептал Оскар, отводя глаза.
— Ничего, котенок, — Шеферель медленно похлопал его по придерживающей стул руке, — я оправлюсь.
Оба помолчали. Оскар — разглядывая лицо Черны, с которого медленно уходила бледность, Шеферель — снова устало прикрыв глаза и будто задремав.
— Что с ней теперь будет?
— Ой, что с ней теперь будет! — хохотнул Шеферель, поднимая голову и открывая глаза. — Ну в качестве страшной мести тебе могу сказать, что легко нам теперь не будет, а разгребать тебе.
Он улыбнулся и подмигнул оборотню:
— Помоги-ка старику встать, мальчик мой, — Оскар с готовностью протянул руку, и Шеферель с трудом поднялся со стула, опираясь на нее всем весом. Когда он распрямился, его еще немного покачивало.
— Я уж испугался, что ты истинный облик примешь, — улыбнулся Оскар. Улыбка вышла нерешительная, будто извиняющаяся.
— Ну еще не хватало! — фыркнул Шеферель, кое-как запахиваясь в порванный плащ. — Ты же знаешь, что тогда будет.
— Знаю… — Оскар грустно кивнул.
— Вот и я знаю, — Шеферель вздохнул.
Они снова замолчали. Шеферель стянул с бока скомканную рубашку Оскара, привязанную за рукава, и протянул оборотню. Его собственная белая рубашка была в уже покоричневевших кровавых разводах и почти полностью изодрана, но сквозь нее проглядывало гладкое — ни царапины — тело. Он сделал несколько шагов к двери, взялся за ручку:
— Оскар, ответь мне на один вопрос.
Оборотень поднял голову, внимательно глядя на своего начальника.
— Она точно не твоя дочь?
— Точно, — Оскар смотрел ему прямо в глаза, — я проверил. Правда, и не своего отца тоже.
Шеферель на секунду задумался, кивнул и вышел. Через пару минут следом за ним ушел и Оскар.
В это же время в другом крыле Института Дэвид, забравшись руками в волосы и сжав пряди, давал отчаянные и сбивчивые показания молчаливому Черту. Капитан Наземки сидел за гладким столом, то и дело хватаясь за сигареты, Черт стоял напротив него, не шевелясь, сложив руки на груди и иногда задавая отрывистые вопросы.
Через несколько часов он запер за собой дверь, оставив Дэвида наедине с пепельницей, поднялся на четвертый этаж и постучал в кабинет Шефереля. Вошел, коротко поклонившись, и сказал только одно слово:
— Ворон.
Шеферель кивнул, чуть улыбнувшись, и Черт вышел.
Еще через полчаса в баре «Всевидящее око» не осталось ни одной целой вещи, а посетители вжались в стены, с ужасом глядя на застывшую посреди этого хаоса пантеру. От нее валил пар, а хвост яростно бил по бокам. Она переводила взгляд с одного нелюдя на другого и скалилась. Посетители мысленно пытались просить богов о помощи — кто в кого верил или кто с кем был знаком. Все, кроме двоих — суккуба Сатрекс и фавна Сатурна. Они выступили вперед, глядя на пантеру. Та подняла на них тяжелый взгляд желтых глаз и кивнула.
Через пять часов где-то глубоко под землей, там, где двери и стены обшиты звуконепроницаемыми материалами, Оскар застегнул наручники на тонких желтоватых запястьях оборотня и пристегнул его к стулу. Он набрал в шприц немного жидкости из ампулы и вколол ее оборотню в шею. Тот дернулся, но промолчал.
— Ну что ж, Ворон, — Оскар сложил руки на груди и оперся о стол, — теперь ты ни в кого не превратишься. А еще у нас будет долгий разговор.
Оскар умел быть жестоким — очень. Острые когти вкупе с регенерацией собеседника могут стать причиной постоянной, нескончаемой боли и никогда — смерти. Через три часа Ворон, испещренный свежими, едва затянувшимися порезами от шеи до живота, сдался, и Оскар поднялся к Шеферелю на четвертый этаж. Он думал о том, что узнал, и о том, что сказала бы Черна, узнай она, как ему досталась информация. И очень надеялся, что она никогда этого не узнает.
Оборотень постучал и вошел, не дожидаясь ответа. Он закрыл за собой дверь и очень тихо произнес только одно имя:
— Доминик.
Шеферель приподнял брови и вздохнул.
Через пятнадцать минут весь Город был переведен на военное положение.
Через трое суток я открыла глаза.
Первое, что я почувствовала, — вкус крови во рту. Потом уже навалились мигрень, голод и боль под левой грудью. Но сначала был этот мерзкий железный привкус и отвратительный запах.
Дверь почти сразу открылась, и в нее проскользнуло что-то очень маленького роста в белом халате. Что-то напоминало грызуна с добрыми черными глазами, выглядывающими из-под врачебного колпака.
— Привет, детка, — улыбнулось существо, — я твой доктор. Зови меня Борменталь.
— Я что, выжила? — прошептала я пересохшими губами.
— Да, — Борменталь улыбнулся, — чудом.
Я посмотрела на него, и в этих добрых черных глазах плескалось знание, которое, я поняла, мне никогда не будет доступно.
— Вы ведь не расскажете, что это было за чудо, да?
— Нет, — улыбнулся Борменталь, кладя руку мне на лоб (для этого ему пришлось привстать на цыпочки), — давай-ка померяем температуру. — Он протянул мне градусник и, наклонившись, прошептал: — Но тяжелее всего было уговорить охрану не бежать на этот грохот…
Борменталь улыбнулся и приложил пухлый палец к губам. Это было все, что я могла узнать о своем чудесном исцелении.
Вот так закончился мой год в НИИДе, год новой жизни. Я думала, что он был тяжелым, — я просто не знала, что будет дальше. А если бы знала, наверное, предпочла бы умереть тогда на койке.
Часть 2
Пролог
Будильник звонил резко и неумолимо, так что пришлось оторвать себя от подушки и встать. Часы показывали ровно 11 вечера — что ж, дивно, у меня в запасе час на бытовые женские нужды.
Я не одобряла привычки соплеменников одеваться в черное и выглядеть как готы. Эти смешные мальчики и девочки с измазанными лицами всего лишь играют в демонов и вампиров, так зачем нам это?
Сейчас было лето, а значит, солнце вставало рано, а темнело поздно — все тело успевало задеревенеть за долгие часы сна. Я с хрустом размяла позвонки и прошлепала на кухню, сонно ероша волосы — все равно они стоят дыбом, прическу я не испорчу.
В холодильнике было пусто, только опрокинутая литровая бутылка с остатками молока напоминала, что когда-то здесь были продукты. Я вздохнула и потянулась за сигаретой. Мысль сменить замки в очередной раз посетила мою глупую головушку. Хотя, сделай я так, не миновать мне неприятностей и разборок — у нас же все общее, все братское! Какой-то извращенный коммунизм, мать его! Знали бы Маркс и Энгельс, кто на самом деле применит и разовьет их теорию!
Пепел упал на белую потрескавшуюся столешницу. Здесь вообще все разваливалось на составные части, но просить от общины новую квартиру было бессмысленно — я въехала сюда всего несколько месяцев назад, и это был отнюдь не самый плохой вариант! Раздражало только то, что все знали адреса друг друга, и вот так прийти и выжрать все запасы считалось нормальным.
Покосившись на мобильник, я попыталась прикинуть, к кому я успею сбегать пожрать до сбора. Получалось, что никуда я не успею. Минут через двадцать здесь уже будет Рокки на своем разбитом «кадиллаке», а мне еще надо как-то привести себя в порядок.
Красилась и одевалась я, по привычке глядясь в кастрюлю, — что толку от зеркал. Это только считалось, что я умею готовить и вся эта утварь мне нужна. На самом деле я питалась полуфабрикатами и всякой едой на вынос — корейской, китайской… Все равно, лишь бы было что запихать в вечно голодное брюхо.
Кое-как найдя в общем бардаке (вот спасибо Элвису и его дружкам, устроившим у меня натуральный обыск в поисках еды!) какую-то одежду и символически поводив расческой по волосам, я нацепила черные очки и уже ждала Рокки на пороге, когда его машина затормозила, подняв как всегда тучу пыли.
— Киска, ты как всегда… — начал он, но я устало въехала ему кулаком прямо в чушеизвергатель, и он, кажется, поостыл. Нет, есть все же и плюсы в моем положении.
Ехали молча, я только курила и смотрела в окно, на бесконечные барханы и океан песка. Зрелище более унылое трудно себе представить. Ну да, как же, зато нас никто не найдет! Чертова техника безопасности!
— Ты не в настроении? — попытался начать разговор Рокки, поглядывая то на меня, то на дорогу.
— Я вообще не помню, чтобы я была в настроении с тех пор, как узнала, как тут все обстоит на самом деле, — буркнула я, прикуривая новую сигарету от старой.
— Да, — он вздохнул, — мы все купились на романтику.
— В жопу я драть хотела такую романтику! — сорвалась я. — Хоть бы одна сволочь предупредила, что эта канитель сложна, как ядерная физика, и конца у нее не видно!
— Эй, спокойно, — Рокки попытался положить руку мне на колено в успокаивающем жесте, но я прижгла его сигаретой, и он отстал, — многим не нравится, как все получилось. Но что же делать? Жить-то как-то надо!
— Не хочу я жить, — буркнула я, слепо таращась в лобовое стекло. Те же барханы, та же тьма.
— Эй-эй, — он попытался усмехнуться, — не это ли было твоей основной аргументацией? Кто у нас гнался за вечной жизнью, а? Как сейчас помню: стоит вся такая напряженная, напыщенная и произносит пламенную речь про необходимость вступления в наши ряды и бесконечности жизни!
Я скосила на него хмурый взгляд:
— Дура я была. А вы — скоты, что не предупредили, что я фактически стану наркоманом. Пиз…ец какой-то, а не вечная жизнь! — Рокки хохотнул. — Че ты ржешь? У меня были конкретные планы! Я собиралась выучить все основные языки земли, поднатореть в науках, объехать мир!.. А что в итоге? Я, как бешеный пес, ношусь по всему континенту в поисках лишней капли крови, чтобы не загнуться в подворотне, как последняя шлюха без дозы!
— Ну ты сгущаешь краски, не все так плохо, — Рокки сбросил скорость и свернул куда-то в темноту. Значит, уже почти приехали. От одной мысли, что придется снова лицезреть эти рожи, с которыми я связана теперь навсегда, заныло в животе, а лицо свела судорога.
— Ну да, все еще хуже, — я выкинула окурок в окно, и разговор наконец был окончен.
Когда мы подъехали к офису, как гордо называлось жилище нашего главного, Люци (оно, конечно, было покрепче и получше наших), все уже были почти на месте. Мы с Рокки, как совершенно не влиятельные в общине лица, жили дальше всех, и выбираться из этой жопы на собрания каждый раз было целым приключением.
Когда мы вошли внутрь, все места уже были заняты, и с нами никто не спешил здороваться, только пара кивков. Латесса, готичная шлюха лет двухсот, затянутая в черный шелк и кружева, цедила из высокого бокала мартини. Она постоянно отиралась рядом с Люци и поэтому имела все на свете. Зиг и Вог, два близнеца-лоботряса, используемые для топорной физической работы, шарили в холодильнике начальства, и у меня потекли слюни — поесть я так и не успела.
Рокки притащил нам из подвала два стула, но я махнула рукой и плюхнулась прямо на бежевый ковер — если вы не считаетесь со мной, я не буду считаться с вами.
Оглядывая разношерстную компанию своих соплеменников, перекидывающихся шутками и кивками, многозначительными взглядами и картинными оскалами, я в очередной раз задумалась, что толкнуло их подставить свое тело под клыки. Я понимала тех, кто спасался от болезни и болей — были и такие. Они, кстати, вели себя тише всех и никогда не задирали носы. Остальные же, те, кто пошел за идею, постоянно выпендривались, подчеркивая свою сущность и распугивая людей. Хотя с точки зрения безопасности это было даже хорошо — кто поверит, что за нарисованным вампиром скрывается настоящий?
Люци, что-то полушепотом обсуждавший с Кармелиусом — своим побратимом, — наконец закончил разговор и, картинно обняв Латессу за талию (та вся просто изошла на паточную улыбочку), постучал ладонью по столу, на котором тут же остались вмятины.
— Братья и сестры! — как всегда пафосно начал он. — Я собрал вас здесь сегодня…
Ага, чтобы ты мог опять подрать горло. Кто сказал, что старейшины мудры? Это только в фильмах многовековые вампиры роняют каждое слово как золотой кирпич, и оно исполнено высшего смысла. Люци просто любил выступать на людях — это у него еще из той, прошлой жизни осталось. Я хмуро покосилась на наиглавнейшего и закурила.
— Китти, я бы попросил тебя не курить в помещении, — с нажимом произнес Люци, а Латесса, все еще плавящаяся в кольце его руки, погрозила мне пальцем. Ну да, я же самая младшая. Сигарета дивно зашипела о бежевый ковер.
— Спасибо, — оскалился Люци, и я вспомнила, как увидела его в первый раз. Импозантный седовласый мужчина подошел ко мне прямо в институте, где я громогласно жаловалась на краткость собственной жизни и невозможность узнать все, что хочется, и спросил, что я имею в виду. Я даже почти влюбилась. Потом — прогулка, ночь, кружащаяся голова, сборище таинственных людей у костра, слушающих мои слова…
А дальше — вечный ад. Не получишь суточную дозу крови — и начинаешь загибаться от жуткой боли во всем теле. Постоянные переезды — «чтобы сохранить тайну нашего существования», как говорил Люци. Работать никто из нас не мог — поэтому жили все бедно, отсюда и идея общины — кто где достанет чего. Приходилось подрабатывать в «криминальной сфере» — кражами (тут спасали сила и ловкость), перевозкой всяких веществ (попробуй убей нас пулей!), но лучше всего, когда был заказ на убийство! Человека притаскивали сюда, и мы наконец-то могли получить свою дозу. Чтобы кое-как жить, надо около двухсот граммов крови. То есть одна жертва давала пищу примерно на двадцать персон. Но кто же там отмеряет! Те, кто покруче, обязательно отжирали больше, так что мне и Рокки оставались крохи. Ходить на охоту самостоятельно нам не разрешалось — могли пойти слухи, и нас вычислили бы. Приходилось есть. Обычную человеческую еду. Соотношение было совершенно ужасающим: полный обед на двоих человек едва заменял пятьдесят граммов, но так можно было жить… Только разве это жизнь?
— У нас закрылась вакансия в тюрьме, — тем временем вещал Люци, — там почти полностью сменился персонал, и хода нам больше нет.
Все хором застонали. Смертники из тюрьмы были нашей основной частью питания. Они да еще те, кто осужден на пожизненное. Люци как-то умудрился там со всеми договориться, и вопросов не возникало, но теперь… Начали выдвигать теории, предлагать планы, даже Рокки что-то вякнул из своего угла.
Я встала и вышла на крыльцо, на ходу прикуривая. Хотя бы за легкие можно было не беспокоиться — благо всего остального хватало. Вечная — не жажда — потребность в крови, как в редком и дорогом лекарстве, даже наводила на мысли о самоубийстве. Но способ я знала только один — отказаться от нее. Говорили, «смерть» занимала несколько лет. На такое я еще не готова.
Небо было звездным, а ночь, наверное, холодной — я не чувствовала больше ни холода, ни тепла, застыв в ощущении легкой прохлады. Ветер шевелил песок, и пустыня простиралась куда только глаза глядят. На крае слышимости я различала голоса общины — там уже почти что-то решили — и тут же забыла про них. Сигарета тлела в бледных пальцах, и на мгновение я ощутила полную свободу, на мгновение я забыла, что я — вампир и навсегда привязана к этой шайке и людской крови.
Черт бы взял Дракулу, разболтавшего по пьяни своему приятелю Стокеру лишнего. И черт бы побрал Стокера, сляпавшего из бесконечной жизни в аду сладенькую историю. Если бы я только знала…
Что со мной сделают, если только поймают, я предпочитала даже не думать. Если уж решилась — надо бежать. А я решилась, уже давно решилась. Когда старина Люци нажрался моей крови до сытой отрыжки и пены в углах губ, мне было восемнадцать. С этой сумасшедшей компашкой симпатичных горилл и шимпанзе я прожила… страшно подумать, восемьдесят лет. Изо дня в день, из года в год — получать свою долю крови, долю выговоров и нагоняев, идти куда-то что-то делать — что скажут. Иначе община будет тобой недовольна. Иначе община примет меры. Иначе община… просто развалится, если каждый из нас не будет тупо исполнять ее приказания, заглядывая Люци в рот! И ему придется не попивать свой литр, закинув ноги на стул, а отрывать многовековую задницу от кожаного дивана и идти добывать кровь и деньги самому!
Мне была уже почти сотня, а я все еще считалась самой младшей. То есть той, которую можно послать делать то, что всем другим не хочется. Той, которую можно согнать с места на собрании просто так, потому что лень сделать пару шагов. А сознание мое, между прочим, никто не кусал, и свыкнуться с мыслью, что я уже старше своей бабушки, а в магазине до сих пор спрашивают, есть ли мне 18, продавая сигареты, не так-то просто!
Я уже почти стала чувствовать усталость, когда темнота вокруг начала легонько сереть, возвещая о начале сумерек, а значит — скором наступлении дня. Я сбавила шаг и огляделась, пытаясь найти место для себя и своего драгоценного пропитания, чтоб его черти взяли и Люци вместе с ним. Полное отсутствие понятий о местности и направлении, конечно, портило настроение, причем весьма прилично, но стоило только представить лицо старого выпендрежника, обнаружившего исчезновение пяти литров крови…
Словом, и настроение поднималось, и скорость резко увеличивалась. Убить нас хоть и безумно трудно, но возможно, и даже сомневаться не приходилось, что Люци сделает все, чтобы дойти до конца. Я же предала общину! Я же предала вековые идеалы нашего существования! Я же предала соплеменников! Тьфу на них сто тысяч раз, пусть утрутся и пашут дальше, раз не хватает решимости уйти. Мысль о том, что уйти, может, кто и пытался, да это оказалось невозможно, я гнала прочь как могла. Все равно это существование ради существования больше не для меня.
Я покосилась через плечо на восток и сплюнула — так и есть, у меня не больше получаса! Пришлось спешно искать подходящую елку погуще и рыть под ней нору. Пока из-под моих рук вылетали комья земли, я между делом подумала, сколько времени мне пришлось бы возиться, будь я человеком. Признаться честно, я уже плохо помню, каково это — быть человеком. Кажется, когда-то в детстве я ломала себе ногу. Встала на коньки и свалилась. А может быть, я путаю — и это была рука и велосипед. Прошлая жизнь уходит куда-то, покрываясь дымкой, а остается эта — день за днем, год за годом.
Выкопав достаточно глубокую яму, я забралась внутрь, прижав к груди рюкзак с оставшимися запасами крови. Поставила будильник на телефоне и как могла закопала себя, а выше пояса завалила листвой и ветками. Занятие дурацкое и сложное, но необходимое — я просто не переживу день. А дни у нас сейчас долгие.
Я пила так мало, как только могла. Это было даже меньше, чем я получала в проклятой общине из рук заботливого дядюшки Люци. Каждую ночь эта пафосная задница выдавала мне пластиковый стаканчик, который я мгновенно осушала и потом лишь водила ногтем по ребристой поверхности, дожидаясь, пока Рокки заглотнет свои триста и отвезет меня домой. Хотя нет, Рокки не заглатывал свою порцию, он смаковал ее, цедя, как люди — дорогое вино, расхаживал по хате Люци, побрасывая подобострастные взгляды на верхушку, весь день попивающую свою норму из бокалов для мартини, и сочувственно косился на меня, ублажая свое эго теми граммами, что определяли наш статус.
Он идиот. Просто надутый идиот, которого превращение сделало лишь чуть более худым и не таким отъявленным пахарем. А так — как был фермер, так и остался. Я как-то спросила, как его угораздило стать вампиром, но и тут все у Рокки случилось через задницу. Если я проходила напыщенную церемонию и в священном трепете подставляла извращенцу свою девственно-чистую шею (стоило вспомнить про укус, как зачесался шрам — единственный, который остается на нашем теле после всего), то Рокки просто поймал в поле какой-то оголодавший идиот, да и отожрал как следует. Он бы и вовсе сожрал бедного фермера, да только к тому пришли дружки перекинуться в картишки. А тут такая картина — разорванное горло, кровь хлещет… В общем, все долго молились за здоровье раба Божьего Джонатана Смита, пока раб Божий не превратился в раба красной жидкости и не попер куда глаза глядят искать спасения. Тут уж его нашли и, то и дело срываясь на «эканье» и «мнэканье», пригласили в свои ряды. Раз уж все равно. Жаль, как жаль, что я не видела рожи Люци, когда приносить клятву в вечной верности опустился на одно колено простой фермер!
Прошло уже пять дней, а меня все еще не схватили. Это внушало надежду и страх одновременно: вот стоит только поверить, что все — ура, свобода, — тут-то из-за кустов и вылезут Зиг и Вог с туповато-серьезными мордами.
Я все никак не могла поверить, что решилась на такое. Никакого плана, никакой подготовки, только большой черный рюкзак за спиной. Пришла к Люци, когда он ездил договариваться об очередном контракте, забрала замороженную кровь и ушла. Безумие.
Меня так и не догнали. Ума не приложу, как это случилось. Но, может быть, лучше бы нашли… Мои запасы подошли к концу, я едва держалась на ногах, а тело уже начинало болеть. Сколько я продержусь так? Вряд ли больше пары дней… Моя цель кажется мне теперь абсурдной. Куда я могу сбежать? Все же старейшины были правы — в одиночку нам не выжить, недаром многие века вампиры путешествовали парами. А те, кто был один, со временем падали жертвами священников, «просвещенных» ученых или крестьян…
Сейчас я вспоминала об общине почти с ностальгией. Да, там были свои минусы — но что они стоят по сравнению с долгой бессмысленной смертью? Я настолько ослабела, что вряд ли была способна напасть на человека, даже на старика или ребенка.
Может быть, если бы несколько дней назад я могла поесть простой человеческой пищи, сейчас мне бы не было так плохо. Но эта чертова пустыня все никак не кончалась, а потом начались брошенные земли, без домов и хозяйств…
Словом, я умирала. Медленно и болезненно. И все только начиналось.
Я сбилась со счета… Не знаю, сколько прошло дней. Моих сил хватало только на то, чтобы в светлое время суток отползти куда-нибудь в тень, кое-как спрятаться и пытаться плакать — но не было слез. Нет, совсем не так представляла я себе вечную жизнь, когда стояла в свете костра с пылающими щеками! Не так представляла я себе свободу, когда крала у Люци запасы крови! Солнечные ожоги не заживали — в моем теле не оставалось сил. Они ныли, при каждом движении отдаваясь болью, добавляясь к той, что уже стала моей постоянной спутницей. Я кое-как двигалась вперед, надеясь найти хоть что-то съедобное — хлеб или труп, мне уже было все равно. Хотя… стоило ли продлевать свою агонию? Ведь, если никто не принесет мне сейчас крови на блюдечке, я не смогу ее выпить.
А пейзаж все не менялся. Или это я бродила по кругу, сбиваясь с пути после дневного сна? Хоть бы какой-нибудь человек нашел меня и, вглядевшись как следует в мое лицо и бледное тело, добил… Тело… Я ненавидела его. Когда-то оно вызывало во мне чувство неполноценности — когда я еще была человеком. Потом — чувство молчаливого превосходства. Сейчас — только боль, сводящую с ума, свербящую постоянно, без перерыва, не дающую нормально спать, а только бредить, бредить об избавлении!
Я не могла больше двигаться… День и ночь я проводила в укрытии — вырванном ветром дереве, чьи корни сохраняли меня от солнца. Если бы оно могло убить меня, все было бы проще. Но нет, только ожоги, многочисленные и незаживающие, оставляли его лучи. Ум помутился — галлюцинации навещали меня каждый день, и я уже с трудом отличала их от реальности.
Сколько времени прошло? И сколько еще мне ждать…
Когда я поняла, что кто-то держит меня на руках, единственной мыслью было, что это люди и скоро все для меня закончится. Это радовало. Я уже почти чувствовала острие кола у груди или лезвия у шеи, но вместо этого в губы мне ткнулось горлышко бутылки. Я протестующе заныла — открыть глаза не было сил, говорить, что ни вода, ни вино мне не помогут, — тоже.
— Пей, — приказал мужской голос откуда-то сверху. — Никогда не видел вампира в таком жутком состоянии.
Удивление дернулось во мне — и замерло, оставив все как есть. Будь что будет. Я кое-как приоткрыла губы, и в рот мне полилась холодная сладковатая жидкость. Первые несколько секунд я просто машинально глотала, потом стала различать оттенки вкуса и вскоре поняла, что, как ни удивительно, это была кровь. Кто-то нашел меня и напоил!..
С каждым глотком мне становилось легче. Пусть и не сразу, но боль начала утихать. Она не ушла совсем, но и это было облегчением, к тому же стали затягиваться солнечные ожоги. Чувствуя надежную опору под спиной (похоже, кто-то держал меня на руках), я немного расслабилась и прильнула к бутылке с удвоенной силой. Как ни странно, неведомый спаситель вовсе не собирался ее у меня отнимать, и уже выпитое намного превышало мою суточную норму.
— Лучше?
Я захрипела, что означало «да», и наконец открыла глаза. Мутное зрение не давало мне разглядеть лицо, только общие детали: бледная кожа, короткие черные волосы, огромные черные глаза — без сомнений, передо мной был вампир. Здесь? Откуда? Люци говорил, что поблизости никого нет. Неужели я смогла уйти так далеко, что кончились владения нашей общины?
— Хватит пока что, — он вынул горлышко у меня изо рта, и я впервые за восемьдесят лет почувствовала себя совершенно сытой, — тебя надо куда-то спрятать, скоро рассвет. В таком состоянии ты не переживешь день. Не волнуйся, я буду рядом. И потом дам тебе выпить еще.
Я кое-как улыбнулась и снова прикрыла глаза. Будь что будет.
Когда окружающий мир, чтобы его трижды драли черти, вернулся в мое сознание, все было совсем не так мрачно и плохо. Тело почти не болело, ожогов я не чувствовала, слух и зрение практически вернулись в норму. Я была в каком-то сарае, аккуратно уложенная на сено и прикрытая плащом. Судя по каплям света, проникающего через щели в досках, был вечер, и вот-вот должна была наступить благословенная ночь.
— Тебе лучше?
Я резко села, но голова закружилась, и мне пришлось прислониться к стене.
— Да, — я сглотнула слюну, пытаясь прочистить высохшее горло, — спасибо.
Он выступил из тени и подошел ближе ко мне. Теперь я могла его разглядеть. Высокий, худой, с прямым носом и тонкими губами, он выглядел непривычно для нашей страны. Где-нибудь на востоке — там, да, он был бы вполне уместен. Но больше всего поражали глаза — внимательные, бездонные — и безумно, безумно старые.
— Ты кто? Ты ведь не из Америки? — решилась я.
— Да, — он опустился рядом на корточки и полез в рюкзак, который был у меня под головой, — однако это не мешает тебе пользоваться моей помощью.
— Откуда ты?
— Не слишком ли много вопросов? — Он вытащил мягкий пузырь с твердым горлышком, напоминающий прозрачный бурдюк, и протянул мне: — Пей.
Я выпила все, до последней капли. Наверное, здесь был литр или около того — словом, я резко почувствовала себя лучше. Что-то внутри напоминало, что неплохо бы как-то отреагировать на такую доброту, но с губ сорвалась только привычная резкость:
— Ты всегда незнакомым вампирам помогаешь?
— Первый раз видел такого молодого и уже умирающего, — пояснил он.
Мы замолчали. Я подумала, что надо сказать еще что-то. Может быть, стоит представиться?
— Катарина.
— Красивое имя, — он улыбнулся. — Виктор.
1
Ночной город, вопреки расхожему мнению, не спит. Но и не бодрствует, вопреки мнению не менее популярному. Где-то вдалеке проедет машина или протарахтит на своем монструозном «харлее» байкер. Прокричат пьяными голосами люди — или нелюди. Кто-то засмеется своему мимолетному ночному счастью и пойдет дальше, стараясь не думать о том, что наступит день и все изменится.
Ночной город не спит. Он наблюдает.
Где-то вдалеке, за облаками, светит луна, и ее свет сочится вниз, падая на лица, волосы, плечи… Его можно не видеть, но если ты принадлежишь этому городу, если ты видишь его ночью лучше, чем днем, — то почувствуешь это мягкое, бархатистое касание.
Даже воздух пахнет в городе иначе. Что за растения расцветают ночью, откуда приносит ветер эти будоражащие запахи — кто знает? Но город превращается в Город — место, откуда все мы родом.
Провода не закрывают небо. Они — крыша Города, и, где бы ты ни был, ты всегда дома.
С того момента, как во «Всевидящем оке» в меня вогнали нож по самую рукоять, прошло два года.
В больнице я провела три месяца. Каждый день ко мне заходил Борменталь — маленький и лохматый, он создавал комическое впечатление, но было в нем что-то, что заставляло его уважать. Он брал анализы, интересовался не только моим физическим, но и моральным состоянием — и никогда не говорил о том, как мне удалось выжить. Поначалу он пытался представить официальную версию, но, видя, что я не верю, просто замолчал. Я пыталась что-то узнать, но вскоре махнула рукой: в этом крохотном существе твердости было больше, чем в айсберге, на который напоролся «Титаник».
Хотя ранили мне сердце, травма задела все важные функции организма. Я едва шевелилась, о превращении не могло идти и речи. Я больше не чувствовала легкости движений, к которой, оказывается, успела привыкнуть. Я будто снова стала человеком, и теперь мне предстояло снова пройти путь до нелюдя.
Они не приходили. Когда я впервые открыла глаза — через три дня после самого нападения — на тумбочке лежала короткая записка. Ветвистый косой почерк Шефа я узнала сразу. Там было всего несколько слов: «Животное, мы с Оскаром жутко рады, что ты все-таки выжила! Будем воспитывать тебя дальше, чтобы ты наконец уже смогла за себя постоять. Любим-обнимаем, Ш. и О.» — это было все.
Ко мне заходили почти все, с кем я успела познакомиться: Черт и Михалыч, причем последний топтался в ногах и немного краснел; Крапива и несколько незнакомых мне эмпатов — пытались организовать какое-то там экспериментальное лечебное «впрыскивание» в меня энергии — я ничего не почувствовала, но была им благодарна; Вел появлялась у меня почти каждый день с охапкой свежих новостей; даже вечно занятые лисички забежали пару раз справиться о моем здоровье; но только не Оскар и не Шеф.
Мне было грустно, что тут скрывать. Я обиделась на них, обиделась как никогда. И хотя головой понимала, что этому есть объяснение, это ничего не меняло. Вел сказала мне, что Город перешел на военное положение и что они наверняка очень заняты, но я по глазам эмпата видела, что она недоумевает так же, как и я.
Как-то Борменталь наткнулся на меня в таком состоянии. Я лежала, отвернувшись от двери и уткнувшись носом в подушку.