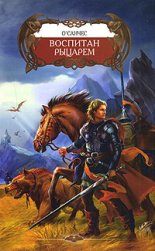Невозможные жизни Греты Уэллс Грир Эндрю Шон

– Но, – начала я, – я думала, они уехали…
Она потрепала меня по руке:
– Хорошо, что ты вернулась. Моя собственная Грета безутешна. Ты правда хочешь кофе? У меня внизу только шампанское.
– Что случилось в той лачуге? – спросила я, когда мы добрались до теткиной квартиры.
По словам Рут, это была ее последняя бутылка шампанского. Я умоляла не открывать бутылку до более подходящего случая, но она, конечно же, ответила, что это очень на меня похоже – ждать более подходящего случая. Нельзя вступать в связь с такими надеждами, они не будут тебе верны.
– Она не смогла этого вынести, – объяснила Рут, стоя у стены с обоями в серебряных решетках. В зеленой вазе стояли новые цветы – лилии. – Не смогла давать Лео обещания, которые была не в силах сдержать.
Я попыталась представить их в заснеженной лачуге: Лео устроился на полу и говорит что-то своим низким страстным голосом, я сижу на кровати и качаю головой. И все равно выходит как-то несуразно. Что, если я все поняла не так, если на самом деле она не любит его?
– Какие обещания? – спросила я.
– Он, понятное дело, хотел, чтобы она ушла от Натана, – сказала Рут, доставая шампанское из бара в книжном шкафу. – А она не хотела.
– Понимаю, – сказала я, недоуменно оглядываясь. – Но это не похоже на нее.
Я сердилась на ту, другую, себя почти так же, как сердятся на себя из-за пьяной выходки, которая на следующий день кажется бессмысленной и глупой. Надо же – сидеть там, в хижине, и отказывать себе в том, чего хочешь больше всего!
Рут взяла бутылку и засучила рукава кимоно.
– У тебя на ее месте все могло бы получиться. Ведь именно ты рискнула, ты помогла ей уехать с Лео. – Она улыбнулась. – Я была так счастлива после этой войны, этих смертей. Ты внесла оживление в жизнь. Думаю, ты могла бы его удержать после возвращения Натана. – Пробка вылетела из бутылки: хлоп! Рут взглянула на меня из-под свежеокрашенных бровей. – Но она – не ты.
Я стояла молча, пока она наливала шампанское в маленькие чайные чашки.
– Она не ты, – повторила Рут, отпив вина. – Она по-настоящему его любит.
– Да, – согласилась я, глубоко внутри себя признавая, что Рут права. – Да, это так.
Шампанское было теплым.
– Она сказала, что это нечестно по отношению к нему. И она боится того, что может с ним сделать Натан, – с сожалением поведала Рут. Мне это показалось очень странным: бояться такого мягкого человека! – Но Лео она сказала совсем другое. Любовники не расстаются, пока есть хоть какая-то надежда. Она просто велела ему никогда не возвращаться. И это разбило ее сердце.
– Как грустно.
– Как ужасно смотреть на разлученных возлюбленных, которым не следовало разлучаться…
Похоже, Рут была поглощена этой мыслью, и некоторое время мы сидели молча. Я представляла, как Грета бросает Лео на Центральном вокзале, а он стоит, повторяя ее имя; представляла, как она уходит, стараясь не оглядываться. Я хорошо понимала, какую боль она испытывает, ведь я пережила то же самое с Натаном. Та и другая боль были не схожи друг с другом, а совершенно одинаковы.
– А с ним что будет? – спросила я.
– Вероятно, женится. Молодые люди обычно поступают именно так. Мне ли не знать. – Она посмотрела в окно, и я задумалась о том, какое воспоминание всплыло у нее в голове. – Они женятся, а через несколько лет ты получаешь письмо с просьбой встретиться еще раз, просто ради старых воспоминаний, – сказала она, глядя мне прямо в глаза. – Не советую. Ты же не захочешь видеть, что у него на лице. Ты будешь сидеть в кафе, ожидая тех же цветов и того же проникновенного взгляда. Все это будет, но при виде тебя он не скроет своего потрясения.
– Ну да, ведь его чувство умерло.
– Нет, – грустно сказала она, – просто ты постарела.
Тетя Рут смотрела в чашку с шампанским, которую держала обеими руками. На фоне обоев она выглядела настоящей восточной женщиной. Судя по всему, она задумалась, а потом спросила меня с сочувственным взглядом:
– А ты могла бы полюбить его?
Я подумала об этом красивом молодом человеке, о его прикосновениях под аркой, о его поцелуе, о наших объятиях среди развешанной одежды, о том, как он выглядел утром. Если мое второе «я» отвергло его, я должна была сделать то же самое.
– Мое сердце принадлежит Натану.
Она нахмурилась.
– Не знаю, на кого похожи другие Натаны, – сказала и взмахнула рукавом кимоно. – Но помни, что этого ты еще не видела.
Завтра начнется война. Завтра радио прервет репортаж о матче «Доджерс» [23]и объявит о нападении японцев, а позже передаст заявление президента. До войны оставалось несколько часов. И никто этого не знал.
Утренние крики, утренние газеты, профиль Натана во время бритья, мой сонный сын, слоняющийся по коридору. Яичница с беконом, ярко-красный джем. Множество улыбок. За малую плату – салями солдату. Мне хотелось растянуть эти мгновения, прежде чем все навеки развалится. Растянуть появление миссис Грин, источавшей запах корицы, поцелуй Натана перед уходом, хозяйственные заботы, спотыкание об игрушки, которые приходилось убирать с пола, постоянное ощущение гипса на руке. Растянуть последние часы размеренной жизни.
– Пока, жена моя! – сказал Натан, нахлобучивая фуражку в дверях. – Хорошего дня!
Быть женой Натана! Мое прежнее «я» принимало эту идею в штыки. Мы всегда закатывали глаза при упоминании о браке, прекрасно зная, что это заканчивается появлением двойных кофейных чашек, двойных детей («один для меня, другой для тебя»), а следом идет загородная тюрьма для белых воротничков, где наши тела чаще будут общаться с автомобилями, чем друг с другом. Мы были выше этого и не женились, чтобы не превращать свои отношения в бизнес. Мы жили беспорядочно, неустойчиво – и были счастливы.
И все же – все же! – здесь у меня не имелось выбора: приходилось быть его женой. Признаюсь, это было приятно – гулять по Гринвич-Виллиджу с сумочкой, в шляпке и с золотым обручальным кольцом, делая каждый шаг с достоинством замужней дамы. Я была современной женщиной восьмидесятых, но очень скоро привыкла к странному женскому белью, оборкам и чулкам той эпохи. Все это я считала признаком моего высокого общественного положения, статуса замужней дамы, чем-то вроде академической мантии или формы Женского армейского корпуса. Иногда я брала сына за руку и вела в парк, иногда я ходила по магазинам и рылась в кошельке в поисках мелочи. Моя шляпка была из соломки и роз: ничего яркого. Меня ужасно забавляло, что я такая правильная и чопорная. Все было для меня в диковинку: полицейские приветственно кивают, мужчины открывают передо мной двери, дети уступают дорогу, завидев жену богатого врача, с ее широкими юбками. Подумать только! Согнешь палец, и официант несет тебе вино! Поднесешь руку ко лбу, и тебе уступают место в метро! Смех, да и только. И это Грета Уэллс, которая маршировала в поддержку поправки о равных правах и без лифчика гуляла по парку Вашингтон-сквер. Я стала одной из тех женщин, которых раньше ненавидела. До чего же мне это нравилось!
Я поправляла салфетки на креслах, облизывала палец, чтобы стереть пятно с лица протестующе глядевшего Фи, смотрела, как он устраивает на ковре гонки двух ботинок – своего и моего, прикасалась к тому и сему. Как придать устойчивость вещам перед землетрясением? Никто не знает. Даже я не знала, ибо предстояло еще одно землетрясение, непредвиденное для меня.
Наступил вечер, и миссис Грин, приготовив очередной куриный пирог в горшочке, собирала свои вещи перед уходом (с тех пор как я впервые ее увидела, она связала не меньше пяти свитеров, все для армии и все отвратительного зеленого цвета). В это время позвонил Натан и сообщил, что снова задерживается в клинике.
– Ой, какая досада, – сказала я, повесила трубку, а затем, наматывая шнур на палец, повернулась к миссис Грин и спросила, не может ли она остаться еще на часок. Я хотела сделать Натану сюрприз и принести ему ужин. Клиника была близко, сразу за углом, это не отняло бы у меня много времени и труда.
– Осмелюсь посоветовать, мадам… – начала она, как всегда. – Будет лучше, если мистер Михельсон поужинает сам.
Я помотала головой, полагая, что она ничего не смыслит в любовных отношениях.
По пути я всматривалась в странный мир, к которому начинала привыкать, – мир на грани войны. В противовес миру 1918 года, где лихорадка внезапно отступила, пациент встал на ноги и смерть была навсегда изгнана, здесь улицы кишели людьми, не знавшими, что завтра начнется война. В витрине булочной красовалась рукописная листовка: «У Америки свой путь!», – а за углом, в магазине бытовой техники, – плакат: «Вестингауз [24]: Э значит ЭЛИТА! Служит флоту, готов сражаться!» Похоже, путей было два: один вел к войне, другой – к мирной жизни. Этот мир пытался пойти сразу по обоим, наподобие невесты, которая готовится к двум свадьбам сразу – в зависимости от того, кто первым сделает предложение. Одна я знала, кто сделает предложение этой невесте: смерть. Везде попадались юноши в военной форме; девицы в кафе, хихикая, восхищались ими. Как быстро они забыли прежние страдания! Их отцы и деды стали калеками, а их матери и бабушки оплакивали сыновей и братьев. Но они все равно сидели у витрин, потягивая молочные коктейли, – как девушки прошлого, должно быть, наблюдали за легионами, проходившими мимо них по римской дороге. И точно так же они махали руками, хихикали, вздыхали от восторга. Раньше я думала о том, где найти Кассандру, которая их оповестит. Но этой Кассандрой была я сама.
– Он ушел час назад, как всегда, миссис Михельсон, – сказал мне медбрат в регистратуре. – Разве он не позвонил вам?
Я стояла, рассматривая горшок с белыми цветами рядом с его пухлой левой рукой. Жесткие зеленые стебли, яркие маленькие лепестки, уже подсыхавшие по краям. Я наклонилась вперед, но запаха не уловила. Снова услышав свое имя, я плотнее запахнула пальто, потом взяла горшочек с ужином. Да, сказала я, да, муж мне звонил, простите за беспокойство. Я вышла и выбросила ужин в мусорное ведро: у меня слишком дрожали руки, чтобы нести его обратно.
– Где он? – напустилась я на миссис Грин.
Она стояла на кухне, в простом длинном платье розового цвета, скрестив руки и плотно сжав губы, словно боялась проговориться. Чайник стоял на синем кольце газа. Сын уже лег. Она снова и снова показывала глазами на закрытую дверь в его комнату: мальчик спал чутко. Но пока я кричала, она не проронила ни слова.
– Вы точно знаете, где он. Я уверена. Вы с ним в сговоре.
– Миссис Михельсон, – сказала она спокойно. – Позвольте дать вам дружеский совет…
– Вы мне не друг! Вы скрываете от меня правду, выгораживаете его!
– Нет, мадам, – сказала она, сцепив перед собой руки наподобие застежки от сумки.
– Это так! – орала я.
Сквозь тонкие кухонные шторы я увидела, что у соседей в окне зажегся свет. Миссис Грин, должно быть, тоже это заметила, но не сдвинулась ни на дюйм, не расплела рук. Она стояла, освещенная этим новым светом, и глядела на меня так, словно знала: сказанное ею сейчас изменит навсегда нас обеих, не только меня. Женщинам надо следить за тем, что они говорят друг другу. Мы – это почти все, что у нас есть.
Миссис Грин стояла, тщательно подбирая слова.
– Нет, мадам, – проговорила она медленно, не отрывая от меня взгляда. – Я только хочу защитить вас.
На огне задребезжал чайник, и она скосила глаза в ту сторону.
– Скажите, где он.
Она вновь перевела на меня взгляд и сказала тихо:
– Не ходите. – Чайник сражался с огнем. – Вы не помните, что случилось, так? – Она с любопытством прищурилась.
Я запротестовала:
– Нет-нет, я…
– Раньше мы говорили об этом, вы и я. – Ее рука наконец потянулась к плите, чтобы спасти вопящий чайник, поставить его на деревянный брусок, где он еще несколько секунд содрогался и шипел. – Я знала, что вы снова все обнаружите.
– Скажите мне, где он.
– Не ходите, – сказала она, опять глядя на меня. За ее спиной лился свет из соседского окна. – Грета, не ходите.
Впервые за все время она назвала меня Гретой.
Вспоминается коктейльная вечеринка в 1985 году, через несколько месяцев после того, как меня оставил Натан. Там я познакомилась с очаровательной женщиной, одетой во все белое, как оказалось – декоратором: после краткой беседы ни о чем она стала рассказывать о своей последней работе. «Вряд ли вы знаете моего клиента, некоего Натана», – сказала она, но этот некий Натан, конечно, был моим Натаном и жил со своей новой подругой в квартире, о которой шла речь. Ничего не говоря о себе, я стала расспрашивать ее о работе в той квартире, о мебели, спальне, ванной – и не отпустила ее, пока не узнала все. Я сделала это, хотя каждая подробность была для меня как нож в сердце. Зачем? Какая магнетическая сила притягивает нас к боли, к словам, которые ранят? «Ты уже видела это, – говорила я себе, направляясь к той квартире. – Ты это видела, ты все это пережила, не надо тебе туда». И все же я шла. Горе всегда проходит, но не раньше, чем заставит нас проделать эти глупости, причинить себе боль, навлечь на себя страдания. Этот паразит – горе – меньше всего хочет умирать, а возвращается к жизни он только тогда, когда мы переживаем эти страшные мгновения.
Но на этот раз страх был другим. Покидая Патчин-плейс, я воображала, как встану перед тем же многоквартирным домом, низким, кирпичным, в пятнах от дождя и сажи, с зигзагообразной улыбкой пожарной лестницы, и знала, что это будет то самое горящее окно. Они расположились возле горящего камина, в халатах, с бокалами виски или вина в руке, волосы ее рассыпались по подушке, как щупальца осьминога. Он улыбался и выглядел счастливее, чем со мной. Это не было болью измены – она уже прошла: в этом месте у меня наросла мозоль, и он не мог больше мне навредить. Нет, с той болью было покончено. Я не могла испытать ее заново, даже если бы захотела. На этот раз боль возникла от осознания того, что этот Натан ничем не отличается от хорошо знакомого мне. Я думала, что небольшой временной сдвиг изменил его, как и Феликса: если бы не мое невнимание, если бы не наша внебрачная жизнь, он мог бы стать лучше. Во многом он и стал лучше: добрее, внимательнее, нежнее. Но обстоятельства нашей жизни были здесь ни при чем. Это не зависело от того, как мы жили, что говорили или делали. Это происходило не из-за того, что время, в котором мы жили – со свободами, которые не были свободами, с эгоизмом, с новомодными шумами и страхами, – изуродовало нашу любовь. Проклятый порядок вещей. Почему я вообразила, что он может измениться?
И все же одно отличие имелось: я. Я изменилась. То, что сделал он, я уже сделала сама. Я испытывала тогда одиночество свободной женщины, гнет войны и брака – и упала в теплые объятия, как только они раскрылись. «Почему бы и нет?» – думала я. Какой ущерб я нанесла тому, другому, миру, я еще не знала, но могла оценить его размеры здесь. Я пережила это с обеих сторон. Разум, однако, всего лишь подставное лицо: настоящий, и притом тайный, диктатор – это сердце. Оно никак не помогло мне справиться с гневом или с болью оттого, что Натан ускользает от меня снова и снова
Я вернулась на кухню, вымокнув под дождем. Бумажные цветы на моей шляпе были безнадежно испорчены – все краски смешались. Миссис Грин была в гостиной и разглядывала капли на окне: внутри каждой скрывался крошечный уличный фонарь. Она повернула голову ко мне.
– Я не пошла, – сказала я. – Не стоит.
Она кивнула:
– Что вы будете делать, Грета?
– Ничего. Ровно то же, что и всегда.
– Да, – проговорила она серьезным тоном.
Я выразилась так, имея в виду свой мир, где я позволила Натану идти своим путем. Но она-то имела в виду этот мир. Внезапно я кое-что сообразила и сама удивилась этому:
– Это та же самая женщина?
Она промолчала.
– Женщина из парка? Я ее видела, она наблюдала за мной и Фи. В клетчатом пальто.
Миссис Грин достала сигарету и закурила, окружив себя завитками дыма.
– Да, это она.
Той ночью он вошел в дом очень тихо, посмотрел на меня с испуганным видом и улыбнулся, складывая зонтик, атласно мерцавший от капель. Я сидела в ночной рубашке, читая роман Колетт (из всех книг я выбрала именно эту) при ярком свете лампы. Он поцеловал меня и спросил сигарету, я дала ему, мы сидели и курили вместе, а дождь набрасывался на окно, как раскапризничавшийся ребенок. Он сказал, что ночь была долгой, что, судя по предупреждениям от военных, надо готовиться к прекращению работы в клинике: придется посвящать свое время призывникам. Это уже почти решено. При Рузвельте разговоры о неучастии в войне поутихли, но ведь в армии всегда говорят о войне и никогда – о мире. Я не видела смысла рассказывать ему о том, что скоро случится, и просто кивнула. Это миссис Грин снова напугала меня? «Нет, – сказала я. – Нет, мы подружились». Он улыбнулся и сказал, что это хорошо, ведь каждому нужен союзник. «Я думала, что мой союзник – ты». Он улыбнулся, подтвердил, что он – мой союзник, поцеловал меня и ушел готовиться ко сну. Я долго смотрела на корзинку с вязаньем миссис Грин, на красный шерстяной помидор с вонзенными в него спицами.
Лучшее место. Совершенное место. Я думала, оно отыщется здесь, в этом мире, где тоже есть Натан. Я обманывала себя, думая, что если в каком-то мире мужья не уходят от жен, это предполагает определенную верность с их стороны – как наличие воды на планете предполагает присутствие жизни. Но для жизни необходимо маленькое чудо: даже в самых лучших обстоятельствах нужна некая блуждающая искра. А здесь, похоже, чуда не было. Он не любил меня в моем мире: почему здесь все должно быть по-другому?
На следующий день я расплакалась, когда радиопередача была прервана словами: «Новости от Нью-Йоркского отделения Эн-Би-Си. Президент Рузвельт выступил сегодня с заявлением о том, что японские…»
Разве можно знать, что принесет война? Не успела я передохнуть и нескольких недель, как война для меня началась снова – и снова с Германией. Я считала, что подготовлена к ней лучше других.
Но я ошибалась. Я предполагала, что, как и в прошлый раз, будут сплошные флаги и сплошной ужас, но на самом деле ужасаться было некогда. Война гораздо меньше, чем нам представляется. Наш разум уменьшает ее. Мы кричали бы от ужаса, если бы не могли разбить войну на части: начистить мужу обувь, подобрать ему носки, наловчиться печь торты без сахара, масла или муки, упражняться с винтовками, научиться надевать противогаз. Завтрашний день невозможно предвидеть, вы планируете только на сегодня, только на ближайший час, пьете яд по глоточку.
И всюду янки идут, там и тут…
Разве можно знать, кого заберет война? Я и предположить не могла, что это будет Феликс.
В баре «Бумажная куколка» в Гринвич-Виллидже провели облаву и арестовали двадцать человек за сексуальную распущенность. Имена их появились в газете вместе с адресами. Среди задержанных был и мой брат Феликс.
– Вы обеспокоены, понимаю, – сказал Алан, которому я позвонила. – Но я уверен, что с ним все в порядке.
– Нужен залог?
После небольшой паузы он сообщил, что Феликса не отправили в тюрьму вместе с остальными. ФБР держит его в другом месте.
– Не понимаю.
– Облава проводилась, чтобы задержать известных личностей из числа немцев и японцев. Это война, Грета. Феликса не искали специально, но взяли, когда он подвернулся.
– Алан, ему необходима ваша помощь, – сказала я.
Да, он понимает и сделает все возможное.
Миссис Грин стояла в прихожей рядом со мной, одной рукой упершись в бок, а другой нашаривая сигареты в кармане передника. Не глядя она достала пачку и закурила. Я подумала, что в отчаянных обстоятельствах такую женщину хорошо иметь рядом.
– Какие новости? – спросила миссис Грин.
– У каждого паранойя из-за Пёрл-Харбора. Хватают подряд всех немцев и…
А что дальше? Я не знала. Его задержали в гей-баре, и ясно, что в полиции будут обращаться с ним скверно. Вдруг его сокамерники узнают об этом?
– Мистер Тэнди, должно быть, расстроен, – донеслись до меня ее слова. – Я знаю, как дорог ему ваш брат.
Я повернулась и внимательно посмотрела на нее.
– Да, – подтвердила я. – Да.
Полагаю, она была проницательной женщиной, которая понимала суть вещей и молча несла бремя своего понимания. Должно быть, это невероятно грустно – видеть, что все остальные слепы или притворяются слепыми, когда все так очевидно: надо просто смотреть на людей, слышать, что они говорят, замечать, что они делают, и прикладывать немного усилий, представляя себе, как они живут. Большинство из нас разводит руками, не умея понять другого человека. А миссис Грин, стоявшая рядом со мной, все понимала – и страдала от невозможности что-то сказать или сделать. Ей оставалось лишь наблюдать за тем, как разворачиваются события.
– Думаю, на мистера Тэнди можно положиться, – осторожно сказала она.
– Миссис Грин, – сказала я, – я верю, что могу положиться и на вас тоже.
Она выслушала это с непроницаемым видом, держа в правой руке сигарету, а левой убирая пачку обратно в карман. Затем она произнесла только два слова:
– Спасибо, мэм.
Самой большой из моих неприятностей был арест брата. Поэтому я испытала большое облегчение, когда позвонил Алан и сообщил, что знает, где Феликс: как ни удивительно, того отвезли на остров Эллис. Алан задействовал свои связи и добился для меня свидания – сегодня во второй половине дня, если я захочу. Я оделась настолько благоразумно, насколько возможно, – блузка и жакет без воротника, с поясом: этот наряд казался мне самым подходящим для правительственной тюрьмы. Алан, широкий и седовласый, улыбнулся, увидев меня в дверях.
– Настоящая американская девушка, – пробормотал он. – Хорошо, очень хорошо.
Сам он был в костюме с флажком на лацкане и с повязкой: золотая статуя Свободы на синем фоне. Я спросила, что это значит. Оказалось, во время прошлой войны он служил в 77-й Манхэттенской дивизии. Почему-то мне никогда не приходило в голову, что ветераны минувшей войны вполне могут поучаствовать и в следующей. Алан взял меня под руку:
– Ну что, едем?
Сначала мы ехали на такси, потом на пароме – мимо зеленой, пятнистой и, как всегда, удивительной статуи Свободы. На острове пришлось пройти длительную процедуру выяснения личности. Какое-то время мы ждали в красивом главном зале, а потом меня провели в небольшую приемную, где за столом сидел Феликс с кривой усмешкой на лице. Одетый в серую форму, он выглядел ужасающе худым. Испытав внезапную радость оттого, что снова вижу брата, я ворвалась в комнату и обняла его.
– Как Ингрид? – первым делом спросил он. – И Томас?
Он имел в виду своего сына.
– Оба у отца Ингрид, в Вашингтоне. Алан послал им телеграмму, что мы едем тебя навестить, – протараторила я и добавила: – У них все в порядке.
– А где Алан? – спросил он, оглядываясь, хотя в комнате были только мы двое и рыжеволосый охранник, который курил и пялился на мои ноги.
– Ему пришлось остаться снаружи. Свидания разрешены только родственникам. – Я пристально и сердито посмотрела на охранника, но тот в ответ лишь улыбнулся. – Как ты? Как это случилось? Боже мой, я так рада тебя видеть! Боялась, что тебя увезли в Вайоминг.
Феликс махнул рукой:
– Все хорошо, я в порядке. Здесь скучно, как в аду, пышечка.
Что-то в его глазах подсказало мне, что дело не только в скуке. Правда, неизвестно, как долго могут скучать люди вроде него.
– Мы вытащим тебя отсюда, – пообещала я, взяв его за руку. – Не я, ведь я почти ничего не могу. Но Алан обязательно вытащит.
– Посмотрим. Пока я даже не знаю, за что меня сюда бросили.
– Это все паника. Хотят показать, что они принимают меры. Алан говорит, что некоторых арестованных, самых благонадежных, уже отпускают домой на испытательный срок. Надо убедить их, что ты такой же.
– Я был просто паинькой.
Я заметила, что это для него необычно, и он наконец засмеялся. Он не отчаялся – пока еще не отчаялся. Было не похоже, что его легко сломать.
Охранник объявил, что свидание окончено, и открыл дверь. Я неохотно встала.
– Скажи Ингрид, что я люблю ее, – сказал Феликс, сжимая мою руку. Мы остановились. – И передай Алану… – начал он и совершенно спокойно встретил мой взгляд. – Передай, что я ему благодарен.
– Держись. Мы тебя любим.
Я пошла к двери вслед за охранником.
– Я скучаю по тебе, пышечка.
Охранник взял меня за руку, но я вырвалась, повернулась и сказала:
– Феликс, я все время скучаю по тебе.
– Он никому ничего плохого не сделал, – изливала я свое возмущение Натану, вернувшись домой. – Он не состоит в Германо-американском союзе [25], ни в чем таком.
Натан кивнул. Нас разделял круглый стол с бортиком, где едва хватало места для двух толстых запотевших стаканов. Одетая в простое шерстяное платье, я растирала ноги слегка неуверенными движениями, как многие женщины, проходившие весь день на каблуках. Натан был в старом сером свитере с замшевыми заплатками на локтях, перевязанном искусными руками миссис Грин, которая оставила едва заметные птичьи следы спущенных петель на груди. Он достал трубку. Я видела, что он хочет дать отдых и телу и голове. Думал ли он о войне? Или о другой женщине? Мы не говорили об этом. Мы говорили о Феликсе.
– Он писатель, – сказал Натан. – Писатели их всегда беспокоят.
Я нашла носовой платок и высморкалась.
– Он журналист. Американский журналист, который пишет для американских газет.
– Легкая мишень. По многим причинам.
– Что ты имеешь в виду?
– Ему следовало быть осторожнее.
Я сидела, потрясенная его словами. Казалось, он сам испугался того, что сказал, и занялся своим виски и трубкой, не поднимая на меня глаз. Я слышала, как он бормочет о положении в Америке после вступления в войну, о том, что наши друзья из числа творческих личностей должны вести себя обдуманно; слышала, как он старательно заметает следы невольно вырвавшихся слов. Почему-то я полагала, что в ту эпоху люди, подобные моему брату, были немыслимы, что такое не приходило в голову обычному человеку. Оказалось, что немыслимым это не было – всего лишь неприличным. Педик в семье – как паршивая овца в стаде. Его видели выходящим из печально известных баров, в компании мужчин, за которыми тянулась дурная слава; в конце концов, город был не так уж велик. Как давно мой муж, наблюдательный врач, знает об этом и ничего не говорит мне? Сколько раз, встречаясь или ужиная с Феликсом, он изучал его, ставя диагноз? Вздыхал ли он про себя, размышляя над нашей семейной тайной? Все мы жалеем других за то, что происходит в их семьях и чего они не видят. А может, он втайне улыбался? Мне очень хотелось намекнуть, что я все поняла. И если можно насмехаться над моим братом, то можно открыть огонь по каждому, кто разыгрывает женатого мужчину, но прячет свое сердце вне семьи. Если так, Натан должен быть расстрелян первым.
– Натан… – начала я.
Однако для откровенного разговора на эту тему пришлось бы разорвать все стежки, которыми мы заштопали наш брак. Пришлось бы открыто обсуждать и секс, и любовь, и горе, и унижение, и желание, и все прочее в этом духе. Перед нами должно было лежать разъятое человеческое сердце, со всеми пружинами и шестеренками. Мне хотелось поговорить об этом, но время было неподходящее. Слишком поздно для выяснения отношений: пусть все пока остается как есть.
– Хочу убедиться, что у тебя есть все необходимое, – сказала я.
Так происходит при расставании, когда следует все сказать, но ничто уже не разрушит заклятия, не распутает того, что сплеталось часами. И вот я смотрела на него, вспоминая, что купила ему по совету миссис Грин. Одежная щетка из щетины с ручкой, пришитой стежками внакидку; перчатки из овчины; трубка для урагана, не гаснущая на ветру, и такая же зажигалка; несколько пар теплых английских носков; набор для письма в футляре из свиной кожи; так называемый полевой фонарь: ручной фонарик с зеркальной крышкой для бритья в темноте, чтения в палатке и передачи закодированных сообщений. Теперь я могу сказать, что набор выглядел по-дурацки. Но это было все, что мы придумали – старая дева шведского происхождения и путешественница во времени, не знавшая своей истории.
– Думаю, я готов, – сказал он, сделав последний глоток и поставив стакан на стол.
На самом деле было уже слишком поздно. Он уезжал через несколько дней, а у меня планировалась двенадцатая процедура. Я тоже уезжала. Он не знал, что это было прощание.
– Нам надо немного поспать, – сказал он. – Завтрашний день будет долгим, мне надо разобраться со всеми делами.
– Конечно.
– Алан позвонит. Завтра мы будем знать больше.
– Надеюсь.
Он долго смотрел на меня, явно желая сказать что-то еще, и тут, конечно, зазвонил телефон. Он не сразу взял трубку. Слова, которые просились наружу, были слишком важными, чтобы отказаться от них, – но только не в этой жизни, рассчитанной по минутам. Я встала. Телефон зазвонил снова. Я услышала, как Фи заворочался в своей спальне. Натан стоял, положив руку на перила и сжав губы.
Я сказала:
– Может, это Алан.
Он кивнул. Телефон зазвонил снова.
– А может, пациент, – заметил он. – Почему бы тебе не прилечь? Я скоро.
Я пошла в спальню и придала себе тот же облик, что и при моем первом пробуждении здесь: кремовая ночная рубашка, длинные, тщательно расчесанные волосы. Входная дверь открылась и закрылась: он снова вышел. Я легла на кровать. У меня оставалась последняя ночь здесь, вместе с ним. Я знала, что перемещусь, как только закрою глаза, ощущала дуновение холодного ветра, проникавшего сквозь щели вокруг маленькой двери. Через несколько мгновений дверь откроется и меня сдует. Но я не позволяла себе заснуть. Прошло чуть больше часа, прежде чем я услышала, как он входит в дом. Знакомый звук – он вешает пальто и шляпу. Шаги в коридоре – не такие, как всегда: неуверенные, неровные.
Я вышла в коридор и увидела полоску света под дверью в ванную. Было слышно, как он там споткнулся.
– Дорогой! – крикнула я, и звуки прекратились. – Дорогой, это ты? У тебя все в порядке?
– Все хорошо! – крикнул он.
Я видела свою сумочку, лежавшую на обычном месте – на подзеркальнике, прямо под шляпой, что висела на крючке. Казалось, эти вещи говорят о нас все. Шляпка, сумочка. Луна, гора. Он сказал, что устал и примет ванну, что беспокоиться не о чем.
– Может, мне войти?
Нет, входить не стоит. Щелчок замка, шум льющейся воды. Только муж мог не знать, что замок уже давно сломался. Я подкралась по коридору к ванной, мимо полок со стеклянными и глиняными фигурками животных, с выстроенными в рядок ягнятами. Затем я приложила ухо к старой двери, которую покрывала белая краска, неизменная во все времена. Вода ревела, как тигр, но за этим шумом любой, кто захотел бы, услышал бы его. Отчаянные, почти нечеловеческие рыдания разбитого сердца.
Все это уже было: в этом же доме, в это же время суток. Отчетливо вспоминалось, как я сижу в кресле с книгой, а на медленном огне варится суп из белой фасоли. Вспоминалось его лицо – он вошел с таким видом, будто стал свидетелем убийства. Капли, сверкавшие на его бороде. Его плач – он рыдал, как мальчишка. Скрипки, кружившиеся вокруг него. И я – в кресле, с книгой, – и большая латунная лампа, что отбрасывала золотой круг на мои колени. И мое желание рассказать ему о своей обиде, своей боли, своей благодарности. И то, как я не пошла к нему. Все это уже было раньше, от и до.
Неужели мне придется переживать все трижды?
Я слушала, прижавшись щекой к холодной двери. Вода хлестала, мой муж рыдал, нелепые зверюшки на полках дребезжали от напора в трубах. Один маленький кентавр едва заметно двигался к своей гибели. Я стояла в тогдашнем коридоре, к которому за последние несколько недель успела привыкнуть, – с вырезанными силуэтами Фи-младенца и Фи-мальчика; с луной над горой; с баночкой крема для лица, который сама купила (примула: «Будет юною шея – жить до ста, хорошея!»); с зонтами, готовно торчащими из стойки; с видами на кухню, спальню и гостиную; со всеми непривычными сценами моей жизни. Кто я такая и для кого я все это храню? Как я могла мечтать, что усовершенствую этот мир? Здесь, за плохо запертой дверью, был человек со своей болью. В другом мире я сидела в соседней комнате и читала книгу, пока он не успокоился, не вышел, не выпил виски и не поел суп; мы никогда не говорили о том, что случилось. Так или иначе, в другом мире он ушел от меня. Я стояла в коридоре, готовая уйти. Вода не переставала литься. Рыдания не прекращались. Кентавр преодолел последние полдюйма и рухнул на пол, снова разделившись на лошадь и человека.
И тогда я вошла к нему.
Медленно, с глубоким вздохом я проснулась и оглядела голые, белые, современные стены своего дома образца 1985 года. «Феликс, – подумала я, – Феликс в беде. И Натан…» Моя настоящая жизнь теперь представлялась чем-то странным: не было ни портрета свекрови, ни балдахина над кроватью, ни хромированной мусорной корзины, ни туалетного столика с разбросанными кружевами и нейлоновыми чулками. Простой бело-черно-красный интерьер, в котором я обитала не один год. Я все выбирала сама, но почему-то он выглядел фальшивым. Строгие фотографии, красная лакированная лампа, единственный черный мазок на восточной стене. Казалось, здесь живет женщина, которая притворяется художницей. Женщина, которая притворяется, что у нее нет сердца.
– Смотри-ка, ты вернулась!
Рут открыла мне дверь и засияла знакомой озорной улыбкой. На ней были полосатый кафтан и крупные бусы из бирюзы. Видимо, она выпустила попугая Феликса на свободу: тот сидел на декоративной свинье, склонив набок свою головку. Рут обняла меня и принялась рассказывать о том, какими печальными были на этот раз другие Греты.
– Которая из них? – спросила я.
– Обе. Та, что из восемнадцатого года, не стала говорить почему. – Рут взяла мою руку. – А та, что из сорок первого, сказала. Она скучала по сыну. И по Натану.
Я представила себе Грету середины века, сидящую в этой комнате с чашкой тепловатого чая, приготовленного Рут. Мать, коротающая очередной день в мире, лишенном всего, что составляло ее жизнь: ее мужа и ребенка. Страшный кошмар для этой женщины.
Рут улыбнулась и отпустила мою руку, направляясь к дивану, где складывала белье.
– Скучала по нему так сильно, что встретилась с ним.
Я покачала головой:
– Следовало ожидать. Когда?
– На прошлой неделе, – сказала она, поправляя подушки. – Они вместе обедали – наверное, в «Гейте» [26], там чудесные коктейли…
– Боже мой. С Натаном? Боже мой.
Рут раздраженно поморщилась.
– Конечно с Натаном, – сказала она. – Она думает о нем как о своем муже и не на шутку рассердилась, что ты умудрилась упустить его. Вот так-то!
Я глубоко вздохнула:
– Она пытается все изменить, но ей невдомек…
– Хорошо, что ты вернулась, дорогая, хоть на какое-то время, – сказала она, собирая разбросанное белье. – У меня такое ощущение, будто я имею дело с расщеплением личности. В одну мою подругу по имени Лиза в самые неподходящие моменты вселялся воинственный дух Гида…
– Я слишком привязываюсь ко всему. Я не просто… вселяюсь в этих женщин. Я становлюсь ими.
– Вегетарианка и вдруг спрашивает красного мяса, – закончила Рут, складывая наволочку вчетверо.
– Я становлюсьженой Натана. Матерью Фи. Становлюсьлюбовницей Лео. То есть становилась.
Рут приняла озабоченный вид:
– Что ты имеешь в виду?
Я грустно улыбнулась:
– С этим покончено.
– Что случилось? – нахмурилась Рут.
– Она не могла причинять ему боль, делая это, и не хотела бросать Натана. А почему ты выпустила попугая из клетки? Ты же знаешь, что Феликс этого не любит.
– Наш Феликс умер, дорогая.
– Он в тюрьме.
– Что, опять?
Я объяснила ей, что это другой Феликс и я страшно боюсь за него. Я рассказала о Натане, о его любовнице, о том, как он снова ее оставил. Но на этот раз кое-что изменилось. Я стала другой…
– Грета, я хочу, чтобы ты честно призналась, – перебила меня Рут, вцепившись в свои бирюзовые бусы и пристально наблюдая за моим лицом. – Почему никто из вас не говорит, что происходит со мной в других мирах?
– Я говорила: ты осталась точно такой же. Единственная, кто не изменился. Тюрбаны, вечеринки и…
– Только не в том мире. Не в сорок первом.
Кошка принялась тискать мою ногу: я не возражала, пока она не царапнула меня коготком. Я снова посмотрела на Рут – та улыбалась.