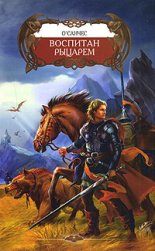Невозможные жизни Греты Уэллс Грир Эндрю Шон

– Там я умерла, да?
Надеюсь, вам никогда не придется говорить человеку, что он умер, что для него нет бесконечного числа возможных миров и воплощений – и по крайней мере в одном из миров он просто не существует.
– Меня направили к доктору Черлетти, – начала я, уставившись на свои колени, – потому что у меня был нервный срыв после аварии. Мы с тобой ехали в машине, которую задело такси. Я сломала руку, а ты…
– А меня смяло и смело в нирвану.
– Да. Мне очень жаль, Рут. Из-за этого и начались мои перемещения.
С улицы донесся вой полицейской сирены.
– Я это поняла, – сказала она, – по тому, как вы вели себя со мной, особенно эта, последняя. Все время хваталась за меня, носилась со мной как с ребенком. Наверное, ты так же ведешь себя с Феликсом.
– Я не знала, как сказать тебе это. Надеялась, что не придется…
Она встала и снова начала сортировать белье.
– Странно. Получается, здешнее существование – что-то вроде загробной жизни. Где-то я мертва. Наверное, во многих мирах, даже в большинстве из них. Мы такие хрупкие существа, хотя никогда об этом не думаем.
– Мне очень жаль.
До чего странно приносить мертвецам соболезнования по поводу утраты, когда утрата – это их смерть.
Рут повертела головой:
– Это так маловероятно – быть живой, правда? Определенная температура, гравитация, нужное сочетание атомов в нужный момент… кажется, что этого никогда не случится. – Она стояла, глядя на картину и приложив руку к щеке, а затем перевела взгляд на кошку, кравшуюся к попугаю по спинке дивана. – Жизнь так маловероятна! – Рут снова повернулась ко мне. – И она гораздо лучше, чем мы о ней думаем, правда?
Я навестила доктора Черлетти с его аппаратом – «наблюдается положительная динамика, осталось всего шесть недель» – и легла спать, зная, что не увижу Натана, отправляющегося на войну. Я попаду, как всегда, в 1918 год и пробуду там до следующей недели. В далеком 1941-м Натан соберется в путь, но я не смогу с ним попрощаться. Стоять в дверях и махать вслед мужу-солдату будет Грета 1918-го, которая уже делала это раньше.
Натан. Прошлым вечером я была в 1941 году и слышала, как мой муж пришел домой, рыдая. Я вспоминала, как вошла к нему. Открыв сломанный замок, я обнаружила, что Натан лежит обнаженный на полу и рыдает рядом с потоком воды, сжавшись так, что виден был только его затылок, коротко, по-военному, подстриженный. Я вспоминала его лицо, когда он поднял голову, – как странно, что мы не способны предсказать выражение лица, даже если это лицо любимого! Больное, изуродованное горем: передо мной был другой человек. Он выставил руки – «нет, пожалуйста, нет». Я встала на колени, обняла его, поцеловала в лоб, и его тело расслабилось, когда он обнял меня: слишком слабый, чтобы протестовать, слишком обнаженный. «Я знаю», – повторяла я беспрестанно. Натан бормотал «нет-нет» и не мог больше ничего сказать сквозь слезы. «Я знаю, знаю, знаю», – шептала я снова и снова, гладя его по голове, потому что все знала, потому что в другом воплощении у меня тоже был любовник и я тоже ушла от него. Наши побуждения были разными, но не все ли равно? «Ты любил ее». Я вспомнила, что он не стал отрицать этого. Оба предательства, мое и его, почему-то стали равны друг другу и взаимно уничтожились; мы сидели обнявшись рядом с грохочущим потоком воды.
На следующее утро, несмотря на мороз, мы с тетей Рут пошли к парку Вашингтон-сквер. Лошади, которых прогуливали там для разминки, блестели, как свежевыделанная кожа; рождественские сосновые ветки, украшая собой все вокруг, напоминали о том, что когда-то это была деревушка под Новым Амстердамом. В отдалении строился оркестр из музыкантов в форме – наверное, Армия спасения. Я заметила женщину в ярко-зеленой шали, наблюдавшую за ними, но сама разглядела только огромный барабан на худеньком юноше.
На мне был плащ с бархатным капюшоном. Рут, в шляпе и черном турецком пальто из овечьей шерсти, шла рядом и поигрывала кисточками на поясе.
– Послушай, не сменить ли нам имена? У всего немецкого сейчас дурной привкус, и он пройдет не сразу.
– Почему Феликс не хочет меня видеть? Я звоню, а он не отвечает.
– Может, ему нужны тишина и покой, – сказала она. – «Уэллс», конечно, звучит совсем не по-немецки. Но можно отказаться от «Рут». Ты не могла бы называть меня «тетя Лили»?
На стене висела газета. Мое внимание привлекли некрологи: эпидемия гриппа нарастала. Гудвин Гарри, 33, скоропостижно, в среду вечером. Кингстон Байрон, 26, скоропостижно, у себя дома. Читать стало невыносимо: это могло случиться любым утром страшного 1985 года. «Бум, бум, бум» – загрохотал барабан.
– Я просто пытаюсь ему помочь. Его опять арестовали. В сорок первом.
Рут выглядела озабоченной:
– Феликса? За что?
Я не знала, как ей объяснить, и поэтому сказала:
– Там началась другая война, Рут.
Она уставилась на меня – между бровями появилась складка – и повторила:
– Другая война.
Затем Рут моргнула, и я поняла, что она выбросила это из головы. Ей не нравилось думать об ужасных вещах, с которыми ничего нельзя поделать.
– Не забудь, что я теперь Лили, – напомнила она. – Ты, пожалуй, можешь стать Маргаритой. А Феликс – Джорджем.
– Лео вернулся?
– Она не отвечает на его письма. Не знаю, что с ней делать. Она так тоскует! Я очень хочу, чтобы ты чаще здесь бывала: у тебя выходит лучше.
– А что слышно о Натане? Когда он вернется?
Рут пожала плечами. Я хотела рассказать ей о том, как я жажду увидеть этого третьего Натана. Почему-то мне казалось, что война его закалила и изменила к лучшему. Но, пожалуй, не время было говорить об этом, ведь другая Грета так сильно тосковала о возлюбленном…
Мы подошли к арке. Здесь таилось то, о чем знали только мы с тетей: в мраморе есть дверь, юноша может провести меня внутрь, даже у холодного города может быть потаенное сердце. «Извини, что так получилось с Лео, – хотела сказать я Грете 1918 года, когда смотрела на арку. – Прости меня: я начала то, что закончилось для тебя болью. Но может, все еще поправимо». Возможно, это было всего лишь ложным окончанием любви: она протянет ему руку, и он придет, точь-в-точь как раньше. А что, если написать в газету, дать одно из этих личных объявлений: «ХОЛ. Почему ты не пришел в воскресенье? Весь день мне было так одиноко… ПЕРЛ». В конце концов, сердце способно расслышать только одно слово…
Я снова сменила тему:
– Мы с Феликсом спорим, но он не хочет ничего слушать. – Рут тихо вздохнула, и я повернулась к ней. – Ты знаешь о нем, не так ли?
Наши глаза на миг встретились. Взгляд Рут был таким проницательным, что я вспомнила, как ребенком просила ее взять меня в театр, а она дотошно разглядывала меня, видимо оценивая мою готовность.
– У него трудная судьба, дорогая. Не знаю, как ты можешь помочь человеку вроде него.
– Рут, я прекрасно его знаю.
– Тетя Лили.
– Тут другое. Он не пытался скрывать этого, не собирался жениться.
Рут теребила кисточки на поясе.
– Некоторые из этих мужчин, – сказала она, – могут жить так, как им нравится. Здесь, на юге Манхэттена. Надо только иметь деньги и мужество. Есть балы в Гарлеме, есть маленькие подпольные бары и другие заведения. Ты встречала кое-кого на моих вечеринках, ты знаешь, что я отношусь к ним хорошо, защищаю их. Это смелые люди. Но твой брат не согласится жить так, как они. Ему нужно…
– Ему нужны постоянные отношения. В моем времени у него был любовник по имени Алан.
– Алан.
Итак, я это сказала, и она это сказала, и мы наконец поняли друг друга. Торжественная процессия с барабаном вышла из парка.
– Ты могла бы один раз проследить за ним ночью, – прямо посоветовала она. – А потом поговори с ним: он не сможет ничего отрицать. Если ты действительно хочешь этого…
Я услышала лай. Оказалось, в парке гуляет друг Лео, Руфус, с двумя великолепными ирландскими волкодавами. Это с его длинным нижним бельем, висевшим на веревках в одолженной нами спальне, я познакомилась так близко. Он был одет в потрепанное енотовое пальто и имел решительный вид. Собаки несли его вперед, словно лошади, запряженные в сани, – казалось, он меньше удивлен встрече со мной, чем своим подопечным, утаскивающим его вдаль.
– Руфус! – окликнула я его. – Я Грета, подруга Лео. Мы познакомились в ночь накануне Перемирия.
– Да! – крикнул он с вымученной улыбкой. Возможно, он меня не помнил, мы все тогда крепко выпили. Но потом он назвал мою фамилию: – Миссис Михельсон. Я помню.
– Руфус, это моя тетя, мисс Рут Уэллс. – Я опять забыла ее новое имя, и тетка укоризненно цокнула языком, но я не стала обращать внимания. – Это ваши собаки? Такие красивые…
– Одна богатая дама платит мне за то, что я с ними гуляю.
Руфус кивнул тетке.
– Вы могли бы на них ездить, – заметила я.
Он не засмеялся.
– Да, – сказал он, – да.
Рут сказала:
– Я видела вас в «Шляпнике». Вы, кажется, играете на трубе.
Я откинула с лица бархатный капюшон. Стало холодно. Я постаралась улыбнуться как можно спокойнее:
– Вы видитесь с Лео? Я ничего не слышала о нем с того времени. Надеюсь, он нашел работу: война закончилась, театры снова открываются. Он очень талантливый актер.
Взгляд у Руфуса был таким же замороженным, как арка над нами. Собаки обнюхивали нас сверху донизу.
– Я… Мне очень жаль, – проговорил, запинаясь, молодой человек. – А вы его не видели?
Итак, он все знал. Ну конечно, Лео рассказал ему – молодые мужчины, напившись, всегда рассказывают друг другу о своих женщинах. Я посмотрела на плоское серое небо. Весь день мне было так одиноко…
Я объяснила, что была в отъезде.
– Мне очень жаль, – повторил он тихим голосом.
Я старалась притворяться как можно лучше. Пожав плечами, я рассмеялась и стала ласкать собак.
– Уезжала далеко. Не могли бы вы передать ему записку?
– Нет, – сказал он с прежним, замороженным видом, способный повторять только, что ему жаль, очень жаль. А потом он все мне рассказал.
На другом конце парка оркестр заиграл песню, но до нас доносился только звук барабана: бум, бум, бум.
Дома, в коридоре, я обнаружила сиявшую улыбкой Милли – ни дать ни взять газовый светильник, включенный на полную мощность.
– Пока вас не было, вам пришло два письма, – сказала она, краснея: здесь была какая-то личная тайна.
Действуя как автомат, я сняла пальто, усыпанное каплями воды, отдала его в маленькие руки Милли и положила на место шляпу. Сражаясь с моим пальто, Милли вытащила письма из кармана фартука. Глядя на меня исподлобья, она сказала, что одно из них, кажется, от молодого актера, друга моей тети.
– Это невозможно, – глухо проговорила я, направляясь в спальню.
– Простите, я заметила обратный адрес и подумала…
– Это невозможно, – твердо повторила я. – Он заразился гриппом. И умер два дня назад.
В шесть часов утра мой муж ушел на войну.
Вернее, мне сказали об этом позже. Я, конечно, была далеко, в 1918 году, наводя порядок в каждой из пустых комнат. Вместе с Милли я отдраила и вымыла все вещи, отскребла каждый след, который оставила в этом мире. Стоя на коленях, Милли отчистила винные пятна с ковра. Мы промыли окна водой с уксусом, так что они сверкали даже в зимнем свете. Ничего лучшего я не придумала. Я не могла встретить другую Грету и осторожно сообщить ей страшную новость, – новость о том, что ее любовник умер. Я могла только подготовить ее мир, как готовят постель для потерпевшего.
А за несколько дней до этого Руфус говорил: «Казалось, во вторник ему стало лучше, но затем поднялась температура…» Рут поддерживала меня, а я стояла на холоде, уставившись на Руфуса и слушая его ужасный рассказ: «В среду вечером его не стало». Морозное небо с царапинами облаков, голые деревья парка, барабанный стук внутри меня. Нет-нет, продолжал настаивать мой разум, он не мог умереть. Это невозможно, невозможно. Я как раз собиралась ему написать!Как будто чужая жизнь длится до тех пор, пока мы не ушли из нее. Я повернулась к Рут, чье лицо сморщилось от горя. «О-о дорогая, – сказала она, – ужасно, просто ужасно. Такой молодой, такой милый». В глазах моей старой тетки, видевшей столько смертей, блестели слезы. Собаки затеяли возню на мерзлой земле, оркестр в дальнем конце парка снова заиграл.
Что лучше: слышать о смерти или быть ее свидетелем? Я испытала то и другое, но не могу ответить на этот вопрос. Когда человек умирает у вас на руках, это слишком реально, как удар по голове, но слышать об этом – все равно что ослепнуть: тянуться и спотыкаться, надеясь прикоснуться к истине. Это невозможно, невыносимо – то, что жизнь готовит каждому из нас.
Милли оказалась права: письма были от Лео. Должно быть, он послал их до того, как заболел, или сразу после начала болезни, лежа в своей кровати под шипевшей лампой; рядом сидел Руфус, менявший ему холодные компрессы. Первое письмо оказалось холодным по тону: Лео сообщал, что собирается переехать, и, если у Греты остались его вещи, пусть она отправит их… и так далее. «Я в восторге от новой пьесы моего друга» – этими словами заканчивалось письмо. Второе он, видимо, написал сразу после отправки первого. Начиналось оно так: «Разве уже поздно? Напиши мне, и я сразу же приду. Скажи мне, что еще не поздно».
Одет как солдат Союзной армии [27], улыбка на лице, блестящие набриолиненные волосы, цветы в руке.
Я пришла на его могилу в Бруклине – там долгое время хоронили нью-йоркских мертвецов. Громадное поле с каменными плитами, где собралось множество дородных мужчин, глубоко нахлобучивших шапки из-за холода, так что видны были только бороды. Они объяснили мне с ирландским акцентом, куда свернуть. Грабли, прислоненные к одной из могил, разбросанный снег, похожий на пепел, и вот он – Лео Бэрроу. Родился в 1893-м. Казалось невероятным, что такой молодой человек мог родиться так давно. Умер в 1918м. Возлюбленный сын.
«Скажи мне, что еще не поздно». Никто не знал, что именно так все и было.
«А я смогла бы его полюбить?» – спрашивала меня Рут. В недавно вырезанных буквах собрался снег. Я положила свои цветы среди других, уже побитых морозом. Я думала о его проницательных глазах под подвижными бровями, о полных губах, изогнувшихся в напряженной, иронической улыбке. Наконец пришло воспоминание, не дававшее мне покоя все это время: я обнимаю его в ту нашу единственную ночь. С веревок над нами свисает светящаяся одежда. Длинные ресницы закрыты, волосы неукротимо торчат, фонарь освещает мочку уха. Я вижу, как замедляется его дыхание, когда он задремывает на восходе солнца. А я лежу и не понимаю, где больше золота: на небе за окном или на румяном лице спящего.
«Ты его не любила», – сказала я себе на кладбище: так взрослый ругает невнимательного ребенка, которого лишь счастливая случайность уберегла от опасности. Я повернулась и пошла по длинному, запорошенному снегом склону к реке. «А она любила».
Надо ли оставаться здесь? Надо ли отказаться от процедуры и запереть дверь в этот мир – как сделала другая Грета, – пока все не наладится, пока я не подготовлю место, где она сможет горевать? Нет, я так не могла. Это был не мой мир, а мне еще многое надо было успеть в других мирах.
И я устроила генеральную уборку. Я хотела, чтобы все было готово для нее, для другой Греты, когда она вернется и обнаружит, что ее жизнь разбита вдребезги. Но, кроме того, я готовила для нее другую жизнь.
Пройдено больше половины пути. Тринадцать процедур. Двенадцать впереди.
Было уже темно и очень поздно, когда в дверь неожиданно позвонили: за порогом стоял он. «Не знаю, на кого похожи другие Натаны». Узкое лицо, шрам на подбородке. Он был чисто одет и выбрит: их встречали на Центральном вокзале и селили в хороших отелях, где можно было выстирать и починить одежду, вымыться, избавиться от паразитов. «Но помни, что этого ты еще не видела». Я спрятала письма в карман платья и улыбнулась. Его плечи были темными от дождя. Конечно же, он был без зонта, но это его не беспокоило.
– Натан, – сказала я.
Он коснулся рукой моего лица.
Шесть часов вечера: мой муж вернулся с войны.
Часть третья
С декабря и до конца
Назовите хоть одну женщину за всю историю человечества, которая любила бы одного и того же мужчину трижды.
«Где моя девочка?» – так говорил Натан 1918 года по утрам, в первые дни после возвращения. Я входила с кофе и овсянкой, он надевал очки; на длинном узком лице, теперь отмеченном шрамом, появлялось подобие улыбки. Все было ровно наоборот по сравнению с 1941 годом, когда я болела и он приносил мне кофе. Настала моя очередь играть роль сиделки. Он мало походил на человека, с которым я попрощалась в другом мире, и гораздо больше – на моего прежнего Натана. Рыжевато-каштановая бородка с проседью, выросшая за время войны, нордическое лицо, беспокойные морщинки у глаз, залысины на лбу. Самые обычные вещи стали для него чем-то редкостным. «Сделай мне сегодня стейк, Грета, я не пробовал стейка с прошлого Рождества», – сказал он однажды, и я попросила составить список того, по чему он больше всего скучает. Он покорно записал все и показал мне. Пункт первый: «моя жена». Он мог быть далеким и задумчивым, как мой первый Натан, осторожным и внимательным, как второй. Как оба они, этот Натан чуть ли не двадцать раз в день ощупывал бумажник в нагрудном кармане! Но он не был ни первым, ни вторым. «Не знаю, на кого похожи другие Натаны». Забывать об этом было опасно.
Еще кое-что новое: он не улыбался. Не мог улыбаться – из-за осколка, застрявшего в челюсти.
– Мы вернулись к прежней жизни, – сказал он однажды утром, стоя на пороге в пальто и шляпе, со своей пушистой бородкой. В тот день он оделся, готовясь снова приступить к работе в клинике.
– Да, – сказала я, не зная, разумеется, что это была за жизнь.
Он нахмурился:
– Я даже не был уверен, что найду тебя здесь, когда вернусь.
Я склонила голову набок, поднимая чашку с кофе:
– Само собой, я здесь.
Он опустил глаза:
– Я не был уверен, вернусь ли я.
Я грустно улыбнулась.
– Прости, что я был таким суворым, – сказал он, пожимая плечами, а потом подошел и поцеловал меня. Суровым. Та самая ошибка, от которой давно избавился мой прежний Натан: как будто домой вернулся промокший под дождем кот.
Он покупал цветы на улице и вручал их мне с самым серьезным видом. Что за коленца выкидывала жизнь? И никаких «решай сама». Мы, двое супругов, вместе решали, как лучше всего восстановить разрушенный мир.
Я размышляла о другой женщине Натана в этом мире, об их оборвавшемся романе, но никогда не спрашивала его об этом. Была ли она такой же, как в других мирах? И что остановило этого Натана?
– Я скучал по Нью-Йорку, – признался он однажды ночью, сильно устав за день, после клиники. – Боже, как я по нему скучал!
– Город изменился?
– Да, конечно. Но то, по чему я скучал, не изменилось. Метро такое же, и особый завтрак в «Гувере» пахнет так же. – Он закрыл глаза, предавшись воспоминаниям. – И Рут не изменилась.
– Только не говори, что ты скучал по Рут!
Он пожал плечами:
– Да. Я соскучился даже по твоей сумасшедшей тетушке Рут.
И еще. Кое-что причиняло мне боль: садясь ужинать, он содрогался. Это было одной из тем, которых мы никогда не касались.
– Плохо сегодня? – спрашивала я.
Он закрывал глаза и ничего не говорил. Я долго ждала в молании.
– Думаю, мне нужно поспать, – говорил он, и я кивала. В его голосе звучало незнакомое мне упрямство.
«Мне нужно поспать». Эти слова он произнес первым делом, когда вошел в эту дверь в 1918 году, вернувшись с войны: эти слова он обычно произносил вечером, после ужина. Сильное, покрытое шрамами лицо морщилось, губы становились жесткими, и я видела, что он замыкается в себе, как улитка в раковине. «Мне нужно поспать», – констатировал он. Я понимала, что сейчас я не собеседник, а жена, медсестра, отводила его в спальню и раздевала, меж тем как он разглядывал фотографии на стенах.
«Я люблю тебя, Грета, – шептал он, засыпая. – Я очень тебя люблю, Грета». Шепот был столь отчетливым, что я сознавала: именно это он говорил каждую ночь в своем блиндаже, чтобы успокоиться, прежде чем завеса сна скроет мир его кошмаров.
Ему действительно нужно было поспать. Но война не оставляла его и во сне – она была внутри его. Он бормотал что-то непонятное – возможно, на иностранном языке, – вскрикивал от малейшего шума с улицы. Иногда я просыпалась и обнаруживала, что он не сводит с меня глаз, но совсем не так, как смотрит по утрам нежный любовник. Нет, это был взгляд, который направляют на привидение.
Пожалуй, его ночи походили на мои больше, чем я полагала. Он тоже переносился в другой мир, тоже пробуждался в другом месте и, может быть, рядом с другой женщиной. Или на больничной койке, чтобы перехватить несколько минут сна, прежде чем его снова вызовут в операционную. Или в окопе, лежа наполовину в воде и наблюдая за фейерверком боя. Можно сказать, что его миры были другими и все они находились в его голове. Но что вообще это значит? Разве хоть что-нибудь не находится «в голове»?
Однажды ночью я разделась перед моим новым Натаном, сидя на нашей кровати с балдахином. Пока он возился с пуговицами пижамы, с усмешкой глядя на мою закрытую сорочку, я чувствовала себя молодой женой во время медового месяца. Так и было: устав от войны, он еще не занимался со мной любовью. Лежа в постели, я была застенчива, как невеста. Мне было одиноко, я нуждалась в прикосновениях. Этот Натан заменял того, кто ушел на войну, он хотел лишь одного – жить со мной под одной крышей и смотреть на мое неуклюжее вязание. Взяв мою руку чуть более страстно, чем прежний Натан, он коснулся меня чуть грубее, и в глазах его горел дикий огонь. Он был другим. Натан из сороковых отличался от Натана из восьмидесятых, то же самое и здесь: этот человек смотрел, пахнул, улыбался и целовался, как мой прежний возлюбленный, но не был им. Опять все заново. Мужчина, которого я знала лучше всех на свете, оказался в моих объятиях впервые.
Мы сидели в гостиной вокруг карточного стола, покрытого белой кружевной скатертью. Тетя Рут была одета в фиолетовое шелковое платье, сверху донизу расшитое переливающимся стеклярусом. Она раскладывала пасьянс, и, когда сосредоточивалась, белые волосы падали ей на глаза. Напротив нее сидел Феликс, в сером костюме и белой рубашке с новым воротничком. В углу, с трубкой во рту, весь в синем, сидел Натан. Каштановая бородка с проседью постепенно скрывала его шрам, и он становился тем Натаном, которого я знала в своем мире. В середине стола стояла стеклянная ваза, вокруг были разбросаны белые цветы – розы, наперстянки и другие, названий которых я никогда не знала. Я пыталась хоть как-то поместить их в вазу, что забавляло Феликса. Все они, потерянные в других мирах, были сейчас со мной: не на войне, не в тюрьме и не умерли. Все сидели в гостиной, где в окна лился яркий свет зимнего солнца, а из фонографа звучала музыка Брамса. В чашках – «чай» из коньячных запасов Рут.
– Наверное, сейчас не стоит слушать Брамса, – сказала Рут, не отрывая взгляда от карт. – Особенно немцам. В «Таймс» пишут, что это «способствует пробуждению духа». Полагаю, неправильного духа.
Натан склонил голову:
– Я вернулся с фронта. И я люблю Брамса.
– Я слышал, что и Бетховена жгут на улицах! – сообщил Феликс. И он посмотрел через стол на моего мужа.
Я знала: Феликс боится, что Натан презирает его, ведь он не воевал.
– Что ж, Бетховен – дело другое… – сказал Натан.
Рут приостановила игру:
– На прошлой неделе я ходила на концерт. Кучка старых фрицев, тупицы этакие, играли немецкую музыку. А группа солдат вмешалась и потребовала сыграть «Звездное знамя». Браво!
– И что, сыграли? – спросил Натан.
Конечно сыграли, ответила Рут: они же американцы.
Моя семья снова была дома. У меня снова появился соблазн дотянуться до Феликса и вцепиться в него. Но я просто смотрела, как дергаются усы на его розовом лице, как поднимаются брови, пока я укорачивала стебли белых роз.
– Ты совсем потеряла глазомер, пышечка, – укорил меня он, качая головой. – Стебли должны быть на треть длиннее вазы.
– Откуда ты знаешь?
– Так говорит Ингрид. Она давно занимается декорированием. Говорит, что я декорирую как холостяк.
Мы с Рут переглянулись. Я подумала о нашем разговоре во время прогулки под аркой Вашингтон-сквер. «У него трудная судьба, дорогая. Не знаю, как ты можешь помочь человеку вроде него».
Я почувствовала приближение Натана, обернулась и обнаружила, что он наклоняется, желая поцеловать меня. Знакомое прикосновение усов к щеке: то, чего сейчас нет в двух других мирах. Знакомый запах моего Натана.
– Мне нужно поспать, – прошептал он. – Увидимся позже.
Я спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, но он лишь поцеловал меня в щеку, коснулся моих волос и кивнул всем остальным. Когда он повернулся, я увидела, что выражение его лица изменилось, раненая челюсть двигалась, лоб нахмурился. «Другой», – напомнила я себе.
В тишине доносились только Брамс и шуршание карт на столе. Мы услышали, как закрывается дверь в спальню. Рут подняла голову и на этот раз переглянулась с Феликсом. О чем они говорили, когда меня не было рядом? Она спросила:
– Его все еще мучают кошмары?
– Да, – подтвердила я. – И головные боли.
Феликс улыбнулся мне: я обрезала цветок так, как посоветовал он.
– Я рад, что он вернулся. Знаю, тебе было трудно без него.
Рут сказала:
– Нью-Йорк полностью переменился, когда ребята вернулись домой. Это как весна после зимы. Повсюду вылезают тюльпаны, и непонятно, как мы жили без них.
Откуда-то снаружи донесся дребезжащий звон колокольчика.
– Еще не сжульничала? – спросил Феликс у Рут; она испуганно посмотрела на него. – С пасьянсом?
Колокольчик продолжал звонить.
– Рут, – сказала я, – это не твой телефон внизу?
– Ах да! Никогда его не узнаю. Все время кажется, что на лестнице уронили молоток. – Рут встала. – Сейчас вернусь, малыши. Не выпивайте бренди сразу. Его надо растянуть. – Смеясь, она подошла ко мне, чтобы поцеловать, и прошептала: – Все будет в порядке. Вот увидишь. У меня предчувствие. – И удалилась, окруженная ореолом загадочности.
Я повернулась к рыжему Феликсу в сером костюме, слишком тесном для него. У Милли был выходной, так что мы остались с ним наедине, и в наших чашках плескалось бренди Рут. Лицо его горело от выпивки и от каких-то невысказанных мыслей. Я наклонилась к столу, но отшатнулась, почувствовав боль в груди. Я поставила в вазу розу, а затем длинный цветок, похожий на колокольчик, потом еще одну розу и, в завершение, папоротник.
– Должно быть, тебе хорошо с Натаном, – сказал он наконец.
– Он только привыкает ко всему. Ко мне тоже. И я к нему привыкаю.
Держа руки на столе, заваленном стеблями, Феликс сказал:
– Мне очень жаль, Грета.
После этого он положил ладонь на мою руку. Я сидела и смотрела на его красное лицо, полное неподдельной скорби.
– Ты о чем?
– Я знаю. Слышал. О твоем друге.
Снежная пыль и свежие цветы на простой могильной плите.
– Откуда?.. – начала я, и он показал глазами на дверь.
Я и вообразить не могла, что Рут с такой легкостью выбалтывает мои секреты, но, возможно, так оно и было.
Я убрала свою руку и вернулась к цветам.
– Он умер, – сказала я, стараясь не заплакать.
– Об этом я и слышал. Просто знай, что я тебе сочувствую. Тебе, должно быть, очень тяжело.
Держа в руке цветок, я подняла взгляд и увидела его простое, серьезное лицо, ярко-розовое на фоне свежего белоснежного воротничка. Видел ли он меня в горе? Может, Грета 1918 года пришла бы в его холостяцкие комнаты, упала на пол, раскинув широкие шелковые юбки, и, обхватив его колени, стала оплакивать смерть возлюбленного? Она рыдает, Феликс гладит ее по голове, приговаривая одно и то же: «Ну ладно, ладно тебе». Это выглядело правдоподобным. В годы своего одиночества, до знакомства с Аланом, он позволял себе примерно то же самое.
– Мне уже лучше, – сказала я и взяла розу, лежавшую между нами. – Доктор Черлетти мне помогает.
– Я наговорил тебе лишнего на вечеринке у Рут, – сказал он, поднимая голову так, словно произносил отрепетированную речь. Я предположила, что речь идет о вечеринке в день Перемирия, хотя могли быть и другие, которые я пропустила. – Я был пьян, сам не знал, что несу. Теперь мне стыдно.
Почти чудесная перемена в характере. Неужели смерть Лео породила у него столько сочувствия ко мне? Или отклик вызвало что-то другое, запрятанное глубоко в нем? В этом мире мужчина вроде Феликса, похоже, не мог так пристально вглядываться в себя самого. Он наклонился вперед, и я увидела, что он смотрит на розу, дрожавшую в моей руке; один лепесток слетел на стол. Потом его глаза поднялись и остановились на мне.
– Он тебя любил?
«Твой брат не согласится жить так, как они. Ему нужно…»
Зачем он спрашивает меня об этом?
– Думаю, да.
– Да, ему, должно быть, пришлось тяжело. Любить замужнюю женщину…
Феликс застыл, напряженно ожидая моей реплики, и выглядел таким грустным, словно это он лишился близкого человека. Мне так хотелось взять его за руку и все выложить, как я сделала в 1941-м! Но я не находила слов, уместных для этого мира, – казалось, он не приспособлен для откровенных разговоров. А я, не подготовленная к его правилам и тонкостям, чувствовала, что не вынесу, если мой брат разъярится. Поэтому я промолчала. После долгой паузы он очень тихо сказал, уставившись в стол:
– Если бы только мы могли любить тех, кого следует…
– Феликс… – начала я.
Он с улыбкой встал из-за стола:
– Мне пора. Приехал отец Ингрид. Хочет как следует надраться.
Положив розу и ножницы, я тоже встала, но он жестом велел мне оставаться на месте. Вот сейчас можно поговорить о таких вещах.
– Феликс!
– Загляну к тебе завтра, – сказал он, поцеловал меня в щеку и отстранился, одернув пиджак. Затем посмотрел на огонь в камине, который потух и едва светился. Прежде чем уйти, он повернулся и с улыбкой объявил: – Через месяц я женюсь!
Я опустила цветок в вазу и попыталась отдышаться, заканчивая приводить в порядок букет со всей возможной аккуратностью. Что-то в нем промелькнуло – что-то от прежнего Феликса, которого я знала. Итак, это было в нем, но мне не хватило смелости добраться до этого. Следовало найти другой способ.
«Ты могла бы проследить за ним однажды ночью».
«Блумингдейл» [28]в 1918 году демонстрировал послевоенное изобилие, витрины кричали: В Париже цветы означают счастье! Из-за сверкающих прилавков улыбались девушки в белоснежных блузках. Каждая из них сжимала в руке пенни, чтобы постучать по стеклу и вызвать магазинного детектива, если среди глазеющих женщин обнаружится воровка. Высоко над ними сновали миниатюрные гондолы – корзинки, куда продавщицы клали деньги, отправляя их в будку кассира для размена; как великолепны вещи, ушедшие навсегда! Дамы в длинных черных платьях предлагали французские духи… «Салют нашим солдатам, мадам?» Но я покачала головой: мои уши были закрыты для их песен. Мне надо было попасть на три этажа выше, в отдел мужской одежды.
И вот я там, где мальчишка-лифтер выкрикивает на весь этаж: «Вечерние костюмы! Дорожные костюмы! Головные уборы, перчатки и ленты!» Тем вечером я проследила за своим братом от его дома до «Блумингдейла». Я замаскировалась: надела норковое пальто и шляпку, тоже норковую, со спущенной вуалью, похожей на пчелиные соты. Под шляпкой – маска от гриппа. Не одна я была в маске: лифтер тоже надел ее, будто собирался на операцию, и в одном месте уже появилось желтое пятно от жевательного табака. «Мужская одежда! Шляпы, плащи, обувь, всякая всячина!» Лифтер потянул рычаг, открыл двери и выпустил меня в мужской мир.
Он не блестел и не сиял, как женский мир на нижних этажах. Нет, он простирался, залитый тусклым свечением, как апрельское небо, – кроваво-красные и серые поля из шерсти и кожи. Вместо ярких новинок, как у нас, здесь предлагались утонченные изделия: воротнички округлые и зубчатые, манжеты французские и простые. Невооруженный глаз не заметил бы никакой разницы. Я встала за ширмой, рассматривая перчатки, разложенные наподобие листьев в ботаническом гербарии. Мужчины схожи с одеждой: различия усматривает только внимательный взгляд. Где-то там, среди них, был мой брат.
Как и все другие покупатели в тот вечер, он почему-то оделся так, будто шел на прием. Рыжеусый, он стоял перед безголовым манекеном, облаченным в костюм примерно его размера, и небрежно улыбался, засунув руки в карманы. Вот он снял с себя пиджак. Вот он медленно, почти любовно, протянул руку и стал расстегивать пиджак на манекене, но не сразу, как бы испрашивая разрешения снять одеяние с искусственных плеч. Манекен остался в одной рубашке, и мой брат надел пиджак. Затем, с той же милой улыбкой, он принялся снимать с куклы галстук-бабочку, пока узел не развязался и концы его не упали на рубашку, тогда он умелым движением пальца расстегнул ворот. Он не мог видеть меня через решетчатую ширму из красного дерева. Однако я его видела, как и другие мужчины в магазине, – казалось, они бесцельно оглядываются, поднимая куски шелка, сукна и перкали, оценивая материал. Только внимательный взгляд уловил бы, что каждый из них – например, вон тот, разглядывающий на просвет длинный белый шарф, чтобы проверить качество, – все время косится на моего брата, который раздевает своего возлюбленного.
Раздался звук вылетевшей пробки. Феликс повернул голову. Я впервые обратила внимание на юношу с длинным сантиметром на шее, стоявшего за прилавком, чисто выбритого, с розовым шрамом на подбородке и гладкими каштановыми волосами. Ему было лет девятнадцать-двадцать. Феликс разглядывал портного за прилавком, а тот словно врос в землю, укоренился в ней, как растение, и изумленно созерцал моего брата в пиджаке.
Я снова подумала о времени, которое уносит все – к примеру, гондолы, переносившие деньги лишь потому, что продавщиц не считали достаточно сообразительными, чтобы выдать сдачу. Оно унесет и этот ритуал, создававшийся на протяжении многих лет, тщательно и любовно, – как некогда вырезали из камня храмы высоко в яванских скалах. Чувствовалось, что здесь витают не только желания, но и надежды. Не так много времени оставалось до того, как все это исчезнет – будет сметено, рассеется или заменится чем-нибудь другим, – но сейчас все соответствовало эпохе: никто не считал возможным выдавать свои желания.
Портной посторонился, и Феликс, расстегивая манжеты, прошел мимо него в примерочную. Видимо, там с него снимали мерку – или занимались чем-то еще. Я чуть не рассмеялась. Мужчины в зале задвигались и взъерошили перья от зависти или желания, двое принялись разговаривать. Я улыбнулась и покачала головой, подумав еще раз о Феликсе и обо всех, кто участвовал в немой сцене. Подумать только! Примерочная в «Блумингдейле». И тощий портной – вообще не во вкусе брата!
Уходя, я увидела плакат, не замеченный мной при выходе из лифта: его скрывала стойка с пальто, которую теперь откатили. Я решила, что позволю Феликсу поразвлечься – как всегда, верно? – и что время для откровенного разговора настанет позже. Мной овладела странная, романтическая мысль: я могла бы сдвинуть все с мертвой точки. С помощью Рут. Вот он, способ улучшить этот мир. Я пробралась обратно мимо шарфов и перчаток, мимо испуганных мужчин, которые лишь теперь заметили меня. Выглядело это так, будто полицейский вторгся в их потаенную рощу, предназначенную для утех. Я стояла в ожидании лифта и смотрела на плакат с весенней сценкой: два огромных шмеля сидят на ярком цветке и смотрят друг на друга.
– Феликс едет домой, – сказал мне Алан по телефону тем утром. – Его выпускают с испытательным сроком.
– Боже мой! Как вы этого добились?