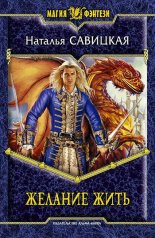Второй после Бога Ауст Курт

Томас с огорченным видом сел рядом со мной.
– Петтер, тебе надо отдохнуть. Я не знаю, что так на тебя подействовало, но…
– Молчи! – просипел я, глубоко вздохнул, и голос вернулся ко мне. – Не важно, что со мной, важно, что юнкер Стиг похитил Сигварта. – Я показал ему серебряный крест. – Сам Сигварт никуда бы не ушел без него.
– Но зачем ему?.. Я хочу сказать, зачем юнкеру Стигу похищать Сигварта?
– Не знаю. – Я встал. – Вот найдем его, и ты задашь ему этот вопрос.
Томас вошел со мной в дом. Я приготовил теплую одежду и плащ.
– Что ты собираешься делать, Петтер? Ты знаешь, где они могут быть? До рассвета еще далеко. Тебе надо отдохнуть.
Томас ничего не понимает, они мне не верят.
– Нет, я не знаю, где они. – Я упрямо взглянул на него. – Но надо что-то делать. Юнкер Стиг не знает эту местность, как я ее знаю … – Я замолчал, так и не натянув сапог до конца.
– И что? – Томас в ожидании смотрел на меня.
– Просто я вспомнил, как Олав говорил, что показывал окрестности юнкеру Стигу, когда они несколько дней назад ездили с Сарой в Тёнсберг. Те места юнкер знает. Я начну с них.
– Позовите ко мне работника Олава! – скомандовал Томас, довольный, что может начать действовать. Заспанный помощник судьи отправился в конюшню и разбудил хозяина, тот вскоре явился, притащив с собой Олава, который только что продрал глаза и бурно протестовал.
– Олав! – Я посадил его на стул. – Где вы были с юнкером Стигом три дня назад, когда ты показывал ему окрестности?
Олав протер глаза и с удивлением уставился на нас с Томасом.
– Мы осматривали Лёвёйен, самые недоступные места. – Он зевнул, увидел окруживших его людей, смотревших на него с нескрываемым любопытством, и оживился. – Я показал ему церковь и святой источник, рассказал об Олаве Святом, о том, как он нас охраняет, нас, местных жителей. Потом мы по ущелью спустились к Бухте Иисуса, я рассказал о разбойниках и показал ему их пещеру. Потом мы вернулись…
– Пещера разбойников! – прервал я его. – Ты показал ему настоящую или другую?
– Настоящую, – сказал Олав, словно это было само собой разумеющимся, и вдруг засомневался. – А что за другая, я даже не знаю.
– Ты показал ему ту, которая хорошо видна из Бухты Иисуса?
– Ясное дело, но это же и есть та пещера.
– Именно, что не та! – возразил я. – Вот где они сейчас! – Я схватил карту и начал рисовать, показал Томасу и помощнику судьи, где находится Пещера разбойников.
Помощник судьи был настроен скептически.
– На кой черт ему прятаться в этой пещере? – спросил он.
– Может быть, вы и правы, – отозвался Томас и огляделся в поисках плаща. – Но, с другой стороны, все это дело весьма абсурдно. Я имею в виду, зачем ему таскать с собой какого-то старого, еле живого работника.
В это время кто-то снаружи подошел к двери и постучал. Это был хозяин Брома и его работник.
– Все лошади на месте, – сказал он мне, и я объяснил Томасу, что я разбудил хозяина Брома, чтобы узнать, не слышал ли он чего-нибудь о краже лошадей по соседству.
– Значит, они вдвоем едут на одной лошади, так им далеко не уехать, – уверенно сказал я. – Я сейчас же отправляюсь на остров. Поспею туда еще до рассвета.
– У нас есть какое-нибудь оружие? – спросил Томас. Хозяин Хорттена кивнул и тут же принес собственное ружье, пистолет и шпагу. У помощника судьи его шпага была при себе, и пистолет тоже.
– Хорошо, – сказал Томас. – Отправляемся прямо сейчас. Петтер, ты сумеешь в темноте найти дорогу?
Я кивнул. При необходимости я мог бы найти эту дорогу даже с завязанными глазами. А тут дело касалось Сигварта.
– Как думаешь, он имел в виду Сигварта, когда говорил, что кто-то должен умереть? – крикнул я Томасу. Мы проехали мимо усадьбы арендатора у Олебаккен и, свернув на север, поехали вдоль берега. Ветер усилился, стал штормовым и с северо-запада дул нам в лицо. Плащи взлетали у нас за спинами, как куры, гонимые лисицей, приходилось их придерживать руками.
– Ничего я не думаю! – крикнул в ответ Томас. – Я уже ничего не понимаю.
Неожиданно я вспомнил, что несколько минут назад, в гневе и отчаянии из-за пропажи Сигварта, крикнул Томасу: “Заткнись!” Мне стало стыдно, и я хотел извиниться, но темнота и ветер помешали мне это сделать. Нужно было подождать более удобного случая.
Когда мы добрались до Драгсунда, я уже продрог до костей, волны в белых шапках не предвещали добра. По мелким проливам мы на лошадях вброд перебрались на Лёвёйен. Вскоре зарядил дождь. Я надвинул шляпу на лоб, заметил слева от нас очертания церкви и поехал дальше, по узкой тропинке через лес. Остров Лёвёйен представляет собой две горы, маленькую и большую, последняя занимает почти весь остров, между ними через весь остров вьется тропинка. Пещера, к которой мы направлялись, выходит прямо в море, и нам следовало обогнуть большую гору с запада, чтобы подъехать к бухте – той, которой в старые времена дали имя Сына Божьего, – и к Пещере разбойников. Пока мы ехали по ущелью, где ветер уже не имел той силы, я напряженно вглядывался в темноту. Ветер злобно выл над нашими головами, словно сердился на то, что мы укрылись от него в ущелье. Но для нас это была только небольшая передышка, потому что вскоре тропинка спустилась к воде, деревья расступились и отдали нас на волю ветра. Дождь перестал, но мы были мокрые и продрогшие.
– Лошадей придется оставить здесь, дальше им не пройти! – крикнул я Томасу. Он передал это остальным. К нам подъехали хозяева Хорттена и Брома, и я предложил идти вдоль кромки воды – тогда, как только рассветет, мы увидим пещеру. Олав подтвердил, что они с юнкером шли как раз этой дорогой. Должно быть, негодяй считал, что это единственный путь, решили мы. Но хозяин Хорттена заявил, что не такой юнкер дурак, чтобы самостоятельно не найти тропинку через гору, и он не допустит, чтобы у этого подлеца была хоть какая-то возможность бежать, проревел он. Кончилось тем, что хозяин Хорттена и помощник судьи залегли в укрытие в конце тропы, чтобы отрезать юнкеру путь к отступлению.
– Здесь спрятана лошадь! – неожиданно сквозь рев бури крикнул хозяин Брома и скрылся за деревьями. Вскоре он вернулся с серым в яблоках жеребцом, который выглядел полуживым от голода и усталости. Мы привязали его к другим лошадям в маленьком распадке, куда не доставал ветер, и пошли дальше.
Желтый край полной луны помогал нам не сбиться с пути, но вот он скрылся за горизонтом, унеся с собой последний свет. Я успел увидеть пролетевшую мимо белую неясыть и облака, быстро несущиеся над нашими головами, потом всем завладела ночь, залепив, точно смола, наши веки. Наступил черный час перед рассветом.
Я вспомнил, что Сигварт однажды сказал, будто белые неясыти предвещают смерть.
– Придется подождать! – крикнул я и с отчаянием огляделся, но ничего не увидел. – Слишком темно.
Хозяин Брома ответил мне, что он захватил с собой несколько факелов. Я поблагодарил его.
И мы стали осторожно пробираться вдоль кромки воды с факелами в руках. Через некоторое время скалы отступили и местность как будто выровнялась – мы миновали самый трудный участок пути. Подобно огромному светлячку мы ползли через лес и пересекли последнюю часть острова.
Добравшись до Бухты Иисуса, мы погасили факелы, чтобы юнкер нас не обнаружил, и спустились к самой воде. Вода была выше обычного, пенистые волны, как невысокие призраки, с ревом обрушивались на берег, в своем гневе они дотягивались почти до деревьев. Мы нашли скалу, которая хоть как-то укрыла нас от ветра, и сели, прижавшись друг к другу, чтобы сохранить тепло.
Я смотрел в ту сторону, где, по моему мнению, когда рассветет, мы увидим Пещеру Разбойников, и ощущал только холод и усталость, голову теснили дурные мысли. “Зачем юнкеру Стигу понадобился Сигварт? – спрашивал я себя. – Что он сделал? Найдем ли мы их в пещере, или я повел всех по неверному следу, как было с моей безумной идеей с париком? Что я вообще за человек, если все это устроил? Неудачник и путаник, который всем приносит несчастье? Бог выпустил меня из своих рук, предоставил идти своими путями, потому что я забыл о Нем, перестал молиться Ему и спрашивать у Него совета. Даже когда я сидел в узилище и душа моя была в полном отчаянии, даже тогда уста мои не произнесли Его имени, не попросили Его сжалиться надо мною и послать мне утешение. Я не помнил о Нем тогда, когда Он был мне особенно нужен. Может, уже слишком поздно, может, Он уже отвернулся от меня навсегда?”
Глаза мои, устремленные на черное небо, не находили ни света, ни ответа, я чувствовал только соленые капли, летевшие с моря мне в лицо. Непослушные пальцы зашевелились и сами собой сложились для тихой молитвы: Господи Боже мой, сущий на небесах! Возьми меня грешника из грешников, упавшего в темноту, где я уже не вижу Тебя, но борюсь, чтобы выбраться оттуда. Услышь мою молитву, о, Господи…
– Глубокомысленное глубокомыслие кажется еще более глубокомысленным благодаря методам, к которым прибегают схоласты.
– Что?! – Я с трудом повернулся и увидел Томаса. Его мокрое лицо ухмылялось.
– Так говорил Эразм Роттердамский! – крикнул он мне. – Эразм не слишком жаловал теологов, считал, что они готовы все превратить в тему для дискуссий и неразрешимые проблемы. А что он говорил о спорах вокруг крещения! Примерно это звучит так: Апостолы многих окрестили, но ни разу не обмолвились ни единым словом о том, какова формальная, материальная, действующая и конечная причина крещения и в чем состоит его изгладимый и неизгладимый характер. Хе-хе! Изгладимый и неизгладимый характер, ты только подумай! Можно сказать, что теологи помимо всей той чуши, что они несут, обладают еще и впечатляющей фантазией. Вспомни все их глубокомысленные идеи, за которые мы должны быть им благодарны. Такие идеи не приходили в головы даже апостолам. Я думаю, что лозунг теологов звучит так: “Все, что не является проблемой, должно ею стать!”
Что, интересно, происходит сейчас в голове Томаса? Мы сидим в засаде, подстерегаем убийцу, который к тому же похитил моего лучшего друга…
– А еще Эразм сказал, что они так красочно и живо описали нам ад, словно сами провели там долгие годы!.. – прокричал он мне в ухо.
Я сделал вид, что не слышу. Уставился в землю между ногами и хотел продолжать молитву, мой разговор с Богом, хотел выяснить с Ним отношения, чтобы я мог опять надеяться на Его поддержку… однако что-то вдруг сбило мои мысли, картины чистилища, пылающий адский огонь… женщина, охваченная пламенем… Мне пришлось протереть глаза, и я подумал, что огонь часто связан со злом, например, огонь в жилище дьявола, ибо он – дело рук Сатаны. Ну, а свет? Свет от Бога, свет ведет нас через темноту, светит нам в фонаре, на столе в лампе темными осенними вечерами, или огонь в очаге, на котором мы готовим пищу, или в печи, которая нас согревает. Может ли быть, что в мире существуют два разных огня, добрый и злой? Или в свете Божием прячется Дьявол, и всегда ли всюду присутствует Бог, в том числе и в аду Дьявола?
В висках у меня стучало, в груди шевельнулось удушье.
У меня за спиной Томас переменил положение и заворчал, жалуясь на холод. Глубокомысленное глубокомыслие, подумал я, скривившись. И услышал слова Томаса о том, что непригодная система мышления рождает только чувство вины и бессилье. Я поднял глаза.
Незаметно посветлело, и я уже мог разглядеть что-то большое на другом берегу бухты.
– Там наверху пещера! – воскликнул я и показал через бухту. Прямо из моря поднималась отвесная скала, темная и величественная.
– Какой она высоты? – крикнул Томас.
Этого я не знал: может, как две Круглые башни в Копенгагене, поставленные друг на друга?
– Пятьдесят футов, – сказал я, чтобы что-то сказать.
– Что? Пятьдесят футов до пещеры?
– Нет, вся скала имеет в высоту пятьдесят футов. Пещера находится на высоте десяти или двадцати футов, не больше. – Нет, пятидесяти футов до нее не будет, думал я по мере того, как скала возникала из темноты. Она не такая высокая. Хотя и не маленькая.
– Как туда попасть?
– Там есть расселина. – Я показал на противоположный берег бухты. – Чуть выше по всему ущелью вдоль горной стены тянется карниз, он доходит до самой пещеры. Но он очень узкий, по нему надо идти с большой осторожностью.
“Я должен пойти туда один, – подумал я. Для крупного Томаса этот карниз слишком узкий, а хозяин Брома слишком стар, и у него больные ноги. Да и работника Брома я знал достаточно хорошо, чтобы не считать его дельным помощником. – Нильс! – подумал я. – Вот кто хорошо знает это место и легок на ногу!” – Я огляделся, но его нигде не было.
– А где Нильс?
– По-моему, он остался вместе с хозяином, – ответил Томас. – А что?
Я пожал плечами.
– Какая она, эта пещера?
– Не особенно глубокая. Собственно, это не настоящая пещера. Просто углубление в горе с одной колонной, заменяющей стену. От колонны до края один или два фута. И обрыв.
Томас что-то буркнул.
Я наклонился к нему и переспросил, что он сказал.
– Если бы у меня был бинокль, я бы отсюда разглядел эту пещеру. Есть ли там кто.
Я взглянул на небо.
– Надо идти, пока не стало слишком светло, а то юнкер нас увидит.
Томас кивнул и встал. Остальные последовали его примеру. Пересекли бухту и, обдуваемые ледяным ветром, стали карабкаться по скользким камням и скалам. Мы договорились, что не будем разговаривать, – мы находились уже слишком близко к пещере, и ветер мог донести туда наши голоса.
У меня за спиной неожиданно охнул Томас. Поверх моей головы он смотрел на вход в пещеру, часть которого была уже хорошо видна в утреннем свете; этот вход с моря выглядел как раскрытая пасть какого-то чудовища.
И это чудовище держало в зубах добычу.
– Сигварт! – с отчаянием выдохнул я и бросился вперед. Этот чертов злодей выставил Сигварта с внешней стороны колонны. Сигварт был привязан к бревну почти у самого обрыва, ясно была видна палка или жердь, грозно упершаяся ему в спину, казалось, что он в любую минуту рухнет вниз. Другой конец палки тянулся мимо колонны и скрывался в пещере. “В руках юнкера Стига”, – в ужасе подумал я.
На дне расселины я показал своим спутникам на ее левую сторону, где, карабкаясь вверх, можно было ухватиться за растения. Вообще вся расселина была завалена обломками камней и скал, обрушившихся с горы, при малейшем прикосновении к ним они могли продолжить свое падение. Я вытер руки о штаны и начал карабкаться вверх. Томас последовал за мной, но хозяин Брома медлил, дожидаясь, чтобы мы добрались до верха.
– Дальше я пойду один, – просипел я, когда мы с Томасом присели на корточки перед карнизом. Пещеру от нас загораживали деревья. – Надо напасть на него неожиданно, чтобы он не успел ничего сделать с Сигвартом. Как и следовало ожидать, Томас открыл рот, чтобы протестовать. Я опередил его:
– Карниз слишком узок, по нему может идти только один человек, мы будем мешать друг другу.
– Я пойду за тобой и не буду тебе мешать. – Томас был настроен решительно, и по его голосу я слышал, что спорить бесполезно.
– Пошли!
Сначала тропинка была широкая, она надежно тянулась между скал, огибая их. Кругом росли невысокие деревья и кусты, за которые можно было ухватиться и удержаться от падения. Но вскоре она сузилась, растения исчезли, и слева от нас мы увидели пропасть, на дне которой пенились волны. И не важно, сколько до них было футов. Их было достаточно, чтобы несколько раз разбиться насмерть.
Я завернул за очередной выступ и увидел впереди вход в пещеру. Опустившись на четвереньки, я пополз обратно в укрытие. При этом я не спускал глаз с Сигварта, надеясь, что он почувствует мое присутствие. В лицо мне летели капли дождя, они текли по носу и подбородку, сливались друг с другом и под шейным платком стекали по шее. Сигварт стоял ко мне вполоборота, лицом к морю. Он должен был уже давно промокнуть насквозь.
Меня грызли сомнения. Юнкер знал, что мы будем искать его, и знал, откуда мы можем появиться, – другой дороги в пещеру не было. Как я мог думать, что мне удастся спасти Сигварта?
Мне захотелось снова молитвенно сложить ладони и предоставить все на волю Бога, но в ту минуту на Сигварта налетел порыв ветра и бревно угрожающе закачалось. Я разом забыл о своих сомнениях и нерешительности. Нельзя было терять ни минуты – выбора у меня не было.
“Передвинь тень” – это выражение употреблялось, когда человек не понимал, что собирается предпринять его враг.
Я вдруг вспомнил это выражение, вычитанное мною из книги, найденной на полках Томаса. Книга была о фехтовании и стратегии нападения. Помню, что в этой фразе объяснялось, как следует нападать, если ты не имеешь представления о планах противника. А я в эту минуту не имел о них ни малейшего представления. “Передвинуть тень” означало, что надо создать впечатление, будто ты нападаешь, а потом в середине нападения изменить тактику. Это собьет врага с толку и разоблачит его намерения. Так говорилось в книге.
Сделать вид, будто я нападаю на юнкера, а вместо этого убрать палку, подумал я.
Вот как следует поступить. Если убрать палку, Сигварт упадет на спину, назад в пещеру, и будет спасен. А тогда уже я смогу сосредоточить свое внимание на юнкере.
Вопрос был в том, успею ли я это проделать до того, как юнкер ударом ноги сбросит меня в море.
Ответ был прост: едва ли.
Ко мне подполз Томас. Я с трудом повернулся на узком уступе и прокричал ему в ухо свой план. Он должен следовать сразу за мной и напасть на юнкера, как только я отползу в сторону. Ветер сотрясал нас и выл с такой силой, что мне пришлось повторить свои слова дважды, чтобы он понял мою мысль.
Следующая часть карниза огибала гору и пряталась в маленькой трещине, а потом выныривала оттуда уже совсем рядом с пещерой. К счастью, ветер прижимал нас к горной стене, пока мы пробирались по карнизу вперед.
В трещине карниз сузился и неожиданно пропал. Один из обвалов увлек его за собой в море. Я на глаз прикинул расстояние до пещеры. Можно было прыгнуть. Ведь прыгнул же Сигварт! Или обвал случился этой ночью? Я осторожно топнул ногой по камню, на котором стоял, он немного поддался. Подполз Томас, я в страхе остановил его, чтобы он не слишком приближался. Нас двоих камень мог не выдержать. Я отполз к нему в более безопасное место и объяснил, что случилось. Объяснил, что мне придется напасть на юнкера в одиночку.
Томас взглянул вниз и покачал головой.
– Внизу вода! – крикнул он. – Упавший необязательно погибнет. Я пойду за тобой! – Он подмигнул мне. – На расстоянии.
Прыгать было страшно, я сомневался, что скала, на которой я стоял, выдержит мою тяжесть, но она оказалась прочной. Я махнул Томасу и полез дальше.
Приблизившись к последнему выступу, я опустился на колени и осторожно выглянул из-за камня. Ветер вцепился в мою шляпу, но я успел удержать ее. До пещеры оставалось три или четыре локтя открытого пространства. К счастью, тропинка была широкая, но в конце она поднималась вверх к входу в пещеру, так что ворваться в пещеру неожиданно было невозможно.
Прищурившись, я вгляделся в темноту за колонной, однако разглядеть, что там, было нельзя. Ждет ли юнкер Стиг нападения, вооружившись ружьем? Может, упер палку в какой-нибудь камень, чтобы лежа мог целиться в того, кто появится из-за края выступа?
Я снова спрятался за выступ. И пытался убедить себя, что у юнкера нет огнестрельного оружия, только шпага.
Стало светло, как бывает светло при пасмурной погоде. С северо-запада бежали черные облака, предвещавшие дождь. Надо действовать, подумал я. Если начнется дождь, тропинка станет скользкой и прыгать будет уже опасно.
Томас осторожно прикоснулся к моей ноге, я поднял на него глаза. Он был серьезен. Кивнул.
Сейчас или никогда. Я в последний раз выглянул из-за выступа, рассчитал, куда должен буду поставить ноги, глубоко вздохнул, проверил, насколько прочен камень, на котором я стою, быстро сосчитал до трех и прыгнул.
Потом я лучше всего помнил ветер. Ветер, воющий мне в лицо, ошарашил меня. Он не позволил мне бежать, схватил мою шляпу и с диким завыванием швырнул ее в никуда. Он приказал мне согнуться перед ним в три погибели, так что я мог лишь медленно протискиваться к пещере.
Если бы юнкер Стиг хотел меня застрелить, он бы уже давно это сделал. Приладил бы ружье, прицелился бы в сердце и спокойно спустил курок. Но у него не было ружья.
Если бы он хотел, он мог бы встать у колонны, укрывшись от сильных порывов ветра, и спокойно ждать меня, а потом просто столкнуть с обрыва. Но он не прятался за колонной.
Он мог бы столкнуть Сигварта в море до того, как я добрался до него, до того, как я вышиб палку, все это он мог бы сделать. Тысячу раз мог. Но у него не было таких намерений.
У него были совсем другие намерения.
Я смутно помню, что, загородившись рукой от ветра и вбежав в пещеру, я увидел, что юнкер Стиг лежит и ждет меня. Помню, я что-то крикнул Сигварту, что я вышиб палку, так что Сигварт и бревно покатились по земле и чуть не сорвались в пропасть. Что я бросился на них, пытаясь выхватить нож, перерезал веревки, которыми был привязан Сигварт, и освободившееся бревно исчезло в пучине. Что я, тяжело дыша, лежал на Сигварте и каждую секунду ждал, что шпага юнкера вонзится мне между ребер.
Но она не вонзилась. Юнкер не появился. У него была другая цель. Все это время у него была другая цель. И он ее достиг. Я это увидел, когда отошел от Сигварта и обогнул колонну, готовый драться, лягаться, разить, кусаться, что угодно, лишь бы скрутить этого злодея, этого коварнейшего демона из всех, каких я когда-либо встречал. Это стало ясно, когда я бросился на него и увидел, что он лежит неподвижно, уставив неподвижный взгляд в потолок пещеры и закутавшись в плащ, чтобы защитить свое холодеющее тело от еще большего холода. Я все увидел, но тем не менее мне хотелось колотить его руками и ногами.
– Он что, умер? – крикнул Томас у меня за спиной и упал на колени.
Помню, что я выпрямился, не ответив ему, и снова подошел к Сигварту. Он лежал на том же месте, где я отвязал его от бревна, лежал лицом вниз и смотрел на море.
– Сигварт, – прошептал я, и ветер заглушил мои слова. – Ты свободен. Ты вернешься домой. – Я перевернул его, и его голова безвольно повернулась ко мне, глаза были водянистые. – Сигварт, ты вернешься домой, – снова прошептал я и погладил его по холодной щеке. – Вернешься, я тебе помогу. – Я склонился над ним и прижал его к себе. – Мне так жаль, Сигварт, жаль, что я вернулся домой. – Я качал его, обнимал, пытался согреть, тем временем пошел дождь. – Мне следовало держаться подальше от Хорттена, Сигварт, не нужно было возвращаться сюда. Тогда бы этого никогда не случилось.
А больше я ничего не помню.
Ноябрь
Год 1703 от Рождества Христова
Глава 43
Я лежал неподвижно. В своем алькове. У меня болезненно стучало в висках, я смотрел в потолок, а демоны царили в темных долинах моей души и рвали на части мои внутренности. Я был не в силах стоять, не в силах есть, не в силах говорить и из всего ощущал только заполнившую меня черноту.
Позже я всегда вспоминал эти первые дни ноября как “мои католические дни”. Именно в эти дни огонь чистилища особенно бушевал во мне, в эти дни я исповедался во всех своих грехах, и в эти дни Томас был объявлен святым.
Я не был болен, не был ранен, кости мои были целы, лихорадка не трепала мое тело, организм не был поврежден. Только голова.
Каждый день и каждую ночь, каждый час и каждую минуту я видел падающий в сено фонарь, слышал, как мама кричала мое имя, она передвигалась, подобно живому факелу, и кричала; и еще я видел, как юнкер пришел за Сигвартом, сдернул его с кровати, видел, как Сигварт стоял у входа в пещеру, привязанный к столбу, и мерз, пока не замерз насмерть.
“Огонь и холод! Огонь и холод!” – с упреком твердил громкий голос у меня в голове. “Огнем и холодом ты убил тех, кто был тебе дорог. Позволил им умереть от огня и от холода”.
Но Томас был несносно упрям. Час за часом, каждый день и каждый вечер он сидел возле меня, разговаривал со мной, задавал вопросы и требовал, чтобы я отвечал на них, требовал, чтобы я произносил слова не только об огне и холоде, уговаривал меня не быть слишком высокого мнения о себе, не думать, будто я – дьявол, несущий смерть и уничтожающий все, где бы я ни появился, но вместе с тем и не думал, будто я – сын Божий, который в приступе доброты взвалил на себя все грехи, что восьмилетнего мальчика нельзя упрекать за то, что похотливый мужик поставил горящий фонарь на такое идиотское место, как край телеги с сеном, – здесь Томас обычно бормотал что-то о насилии, – и еще сказал, что, когда он как лекарь осматривал Сигварта, тот фактически был уже при смерти, и речь тогда шла даже не о неделях, а о днях, которые ему осталось прожить. И Томас потребовал, чтобы я рассказал ему все о той ночи на сеновале четырнадцать лет назад, и я повторял свой рассказ раз за разом. Он спрашивал обо всех подробностях, о малейших деталях – движениях, расстоянии, о том, где какие вещи находились, и в конце концов заключил, что это хозяин ногами толкнул телегу с сеном и потому был виноват в том, что фонарь упал на сено.
Не знаю, верил ли я ему. Я ведь никогда не думал о том, что там произошло на самом деле. Моя голова в те дни была на это не способна. Но понемногу я начал есть, а в один прекрасный день сел и начал вырезать буквы и числа на двух крестах, которые неожиданно оказались возле моей кровати, когда я проснулся. Томас сказал, что эти кресты, никому ничего не сказав, сделал Нильс, и впервые за эти мои католические дни я почувствовал в груди что-то похожее на тепло.
– Мы предаем прах твой земле, а душу твою Господу. Аминь.
Старый пастор Глоструп сотворил крестное знамение и кивнул нам сквозь сетку дождя. Мы медленно опустили гроб в могилу. Я видел, как он погрузился в жидкую грязь, послышалось бульканье, и гроб встал немного криво.
Все отступили на несколько шагов, но я этого не заметил, как не слышал и последних слов пастора, мой взгляд был прикован к гробу в могиле, и я ощущал такую пустоту, словно его содержимое было извлечено из моей груди. Подошел пастор Глоструп, молча пожал мне руку и серьезно поглядел на меня, я был рад, что именно он проводил Сигварта в последний путь, что он согласился на это, когда я его попросил. Он же хоронил и мою мать.
Прихожане постояли недолго, ровно столько, чтобы не показаться невежливыми, и, спасаясь от дождя, поспешили каждый к себе.
Томас сказал, что он и другие обитатели Хорттена пойдут в церковь. Подождут меня там в притворе. Я кивнул. И остался, глядя на черную открытую могилу. Дождь барабанил по гробу, словно посылая ему последний привет перед тем, как его поглотит тишина, которая будет длиться уже вечно. – Спасибо, – проговорил я. – Ты всегда утешал меня.
Подошел могильщик и, откусив кусок жевательного табака, начал засыпать могилу землей. Земля кучками ложилась на крышку гроба, кучки росли, постепенно скрывая грубые доски, которые хозяин Брома дал на гроб.
Я взглянул на соседнюю могилу.
Петрине Олюфсдаттер† 2. фебруариус 1689Сосудом грешным пребывала,Теперь невестой Божьей стала.Призри ее Господь
Я стоял и ждал, глядя, как могила наполняется грязью и камнями. Могильщик харкнул и сплюнул в могилу коричневую слюну. Не отдавая себе отчета, я подошел и схватил его за шиворот, сказав, что если он еще раз плюнет в могилу, то будет следующим, кого похоронят на этом кладбище. Он покосился по сторонам, что-то буркнул и продолжал работать, не глядя в мою сторону.
Прислоненный к ограде крест Сигварта ждал, когда его поставят на место. Могильщик соскреб остатки жидкой земли и положил их на могилу, потом взял крест и воткнул его в мокрую землю.
– Я его укреплю, когда прекратится дождь, – сказал он и ушел.
От его рук на кресте остался толстый слой грязи. Дождь медленно смыл ее, обнажив красивый узор, который Нильс вырезал сверху на кресте. Просмоленный, блестящий крест гордо стоял, как близнец креста на соседней могиле. Как будто Сигварт и моя мать были мужем и женой, подумал я. И вслух прочитал матери то, что было написано на его кресте, потом попрощался с обоими, низко им поклонился и ушел.
Сигварт Хестхаген† 29. октябрь 1703Он узы ярма твоего развязалСвоею десницей святоюИ ею ж тебя в Книгу Жизни вписал.
Я снова лежал в постели, недомогание и забытье путали действительность с реальностью. Демоны снова шептали мне свои огненные и ледяные слова и лишали меня сил, я был не в состоянии встать и прогнать их. После похорон прошло два дня, Томас уехал, чтобы узнать, не идет ли какое-нибудь судно в Копенгаген. А демоны тем временем вернулись и завладели моей головой, которая лихорадочно пыталась заставить двойников Томаса, все время появлявшихся у меня в комнате, помочь мне.
В дверь постучали, и, должно быть, я что-то сказал, потому что нунций вошел ко мне, затворил за собой дверь и с огорченным лицом подошел к алькову. Ничего не говоря, он взял тряпку, смочил ее в миске с холодной водой и вытер мне лоб.
– Спасибо, – прошептал я, чувствуя, что его присутствие заставило чудовищ притихнуть.
– Я пришел проститься с вами, – сказал он, подвинул к кровати стул и сел. – Господин Томас сообщил, что для меня есть место на судне, идущем в Копенгаген из Тёнсберга.
– Но я… мы… – Я попытался сесть.
– Нет-нет, лежите. – Нунций осторожно снова уложил меня в постель. – Господин Томас считает, что вы еще не в состоянии совершить столь нелегкое путешествие. Вам еще рано вставать. Так что вы оба приедете немного позже. Так он сказал. – Я с облегчением услышал, что Томас не уедет, пока я не поправлюсь.
Я выдавил улыбку.
– Но кто поможет вам, если у вас случится морская болезнь?
– Господь пошлет мне помощника, чтобы поддержать меня в трудную минуту, – сказал нунций и тоже выдавил улыбку, но она тут же исчезла и на его лице опять появилось озабоченное выражение.
– Вы возвращаетесь в Копенгаген? – поспешил я спросить, мне не хотелось видеть его сочувствие и страх, хотелось только одного: чтобы Томас вернулся обратно.
– Да, я обещал господину Томасу передать письмо королю. – Нунций был бледный, щеки у него ввалились. Я знал от Томаса, что он провел несколько дней в своей комнате и почти ничего не ел и не пил. Он помолчал. – Как вы…
– Когда вы посетили Юстесена во Фредрикстаде, – прервал я его и немного приподнялся в постели – теперь я полулежал, опираясь на стенку алькова, – что вы плеснули ему в стакан?
Этот вопрос оказался для нунция неожиданным, прежде чем ответить, он пошарил в кармане и вытащил из кармана четки.
– Вы… вы видели, как я что-то налил ему в стакан?.. – пораженный, проговорил он.
– Да, – виновато признался я. – Я должен был вас охранять и слышал, как вы ночью вышли на улицу. И хотел убедиться, что с вами все в порядке. Поэтому я стоял под окном Юстесена и видел, как вы что-то плеснули…
Четки проделали четверть круга, четка за четкой скользили у него между пальцев, пока он приходил в себя от удивления.
– Это… это была святая вода, – проговорил он наконец и поднял глаза. – Святая вода, которая должна была благословить господина Юстесена и наставить его на путь Божий.
– А он этого не хотел?
Нунций глубоко вздохнул и медленно выдохнул из легких воздух.
– Нет, – сказал он. – Юстесен не хотел возвращаться в католицизм. Как вам, должно быть, известно, он стал католиком, когда генерал Сисиньон жил в этой усадьбе…
– В усадьбе Тросвик?
– Да-да, в усадьбе Тросвик. В то время там жил патер-иезуит Веймерс, он служил в церкви и был духовным отцом всех католиков, которые жили в этой округе. В тысяча шестьсот девяносто первом году патер Веймерс вернулся в Рим, и с тех пор католики в Норвегии остались без руководства и поддержки Католической Церкви. Во время своей поездки по Норвегии я хотел связаться с этими одинокими верующими и поддержать их, дать им возможность исповедаться и получить отпущение грехов. Когда я назвал Юстесену имя патера Веймерса – вы, наверное, помните, мы встретили Юстесена на дороге, – в нем проснулся интерес, и тем же вечером он встретился со мной, чтобы узнать новости. Он был искренне привязан к патеру Веймерсу и хотел еще раз услышать, что с ним все в порядке. Я думал, что Юстесен остался католиком, но оказалось, он вернулся в лютеранство и не хотел, чтобы я стал его духовным наставником. – Нунций замолчал, его руки сжимали четки. – Поэтому я плеснул ему в стакан святой воды, чтобы она… – Нунций замолчал.
– …чтобы она подействовала помимо его воли, – закончил я его фразу.
Пальцы нунция нервно перебирали четки.
– Да… Возможно, это была ошибка с моей стороны. Не знаю. Все получилось не так, как я хотел. Я растерялся и сожалел о своем поступке, когда узнал о его смерти. Сами подумайте, я мог быть в ней повинен.
Я не хотел слушать о чьей-то вине и чьих-то грехах, мне было достаточно и своих.
– А Туфт? Что случилось у него?
Нунций выпрямился, его лицо просветлело.
– Господин Туфт был необыкновенно рад моему визиту. Он поддерживал жизнь в небольшом кругу католиков при… – Он замолчал, сжался и хотел встать.
– Я никому ничего не скажу. – Я прикоснулся к его руке. – От меня никто не узнает, что в этом районе еще остались католики. Обещаю вам.
Он посмотрел мне в глаза, конечно, он понимал, что независимо от того, что я скажу, уже поздно брать свои слова назад, ему оставалось только надеяться на мою порядочность. Он медленно откинулся на спинку стула.
– Господин Туфт долго мечтал, чтобы Господь Бог подал ему знак, одобрил бы то, чем он занимался. Туфт увидел этот знак в моем приезде, и перед моим уходом от него мы договорились, что я отслужу мессу для католиков.
– Но он умер…
– Да.
Мы помолчали, я думал о Туфте и о знаке, которого он ждал. Думал о том, что вместо этого знака от Бога Туфт получил привет от Дьявола.
– И что будет, когда вы вернетесь в Копенгаген? – спросил я, чтобы нарушить молчание.
– Отвечу вам словами блудного сына: Я ухожу отсюда и возвращаюсь к Отцу своему, – твердо сказал нунций. – Мне нужно исповедаться, открыться Господу, чтобы я мог начать заново.
– Начать заново?.. – повторил я, не совсем понимая, что он имеет в виду.
– Я виноват в смерти двух людей. По-своему, я виноват и в смерти юнкера Стига. – Я запротестовал, но нунций жестом остановил меня. – То, что случилось, достаточно сложно и вызвано многими причинами. Когда человек возвышен над всем, ему трудно разобраться в своем деле, быть объективным. Я не могу сам решать, что грешно и противоречит желанию Господа, а что – нет, это должен решить мой духовный отец. Можно сказать, что все случилось против моего желания и без моего ведома, но, безусловно, из-за меня. Если бы я сюда не приехал, эти люди остались бы живы. – Он вздохнул, и четки снова замелькали в его пальцах. – Все это питает мою душевную скорбь, и пусть исповедник решит, что является неумышленным грехом или грехом, совершенным под влиянием чувств, а что есть сознательный грех, который следует замолить и за который следует понести наказание.
Он наклонился, снова смочил тряпку и дал мне, чтобы я положил ее себе на лоб, а потом продолжал:
– Иисус установил святость воскресения, святость исповеди, вечером в день Пасхи. Это время, чтобы смотреть вперед, а не оборачиваться назад и не копаться в прошлом, не искать грехов и не пережевывать их по четыре раза, как корова. – Я невольно улыбнулся этому образу, он тоже улыбнулся. – В исповеди человек целиком и полностью открывает перед Богом всю ношу скопившихся у него грехов. Тогда Господь уничтожает все плохое, что было у человека в прошлом, и делает для него доступным новое, все опять становится для него возможным. Когда Господь прощает человека – а Он всегда прощает его, когда человек доверчиво приходит к Нему со своими грехами, и принимает на Себя последствия этих грехов.
Нунций выглянул в окно, хотя там его ничто не могло интересовать. В нем появилось что-то благостное, словно он говорил с самим собой. Словно он понял, что и ему тоже простятся его грехи. И ему тоже…
Если он согрешил. Словно это прощение было дано ему уже при одной только мысли, что он получит его, когда придет к исповеди.
– Человек говорит: “Давай больше не говорить об этом, давай об этом забудем”, – сказал нунций и снова повернулся ко мне. Его щеки зарделись, глаза блестели, как от лихорадки. “В данном случае от лихорадки преданности, – подумал я и почувствовал укол ревности. – Его Бог говорил с ним, не отверг его, простил. А мой…”
– Господь прощает, но не забывает, Бог не прикрывает наши грехи. Прощение Божие – это новое творение, новая жизнь, в которой наши прежние грехи и роковые последствия этих грехов претерпевают изменения и становятся добром. Подумайте об этом, господин Петтер, самый большой грех в истории – убийство Иисуса Христа – стал спасением для нас для всех. – Он требовательно посмотрел на меня. – Не все сразу можно назвать добром, но все может им стать.
Меня потрясли его слова, тепло, звучащее в его голосе, уверенность, которую он, судя по всему, испытывал. Мое чувство вины росло, потому что я не мог быть уверенным в таком же прощении моих грехов. К кому мне пойти, кому исповедаться? В моей Церкви нет исповеди. К кому мне обратиться, к моему Богу? Может быть?.. Нет, это невозможно…
В полном смятении я посмотрел на нунция.
– У нас один и тот же Бог?
Он серьезно кивнул головой.
– Да, у нас один и тот же Бог. Просто мы по-разному понимаем некоторые места Священного Писания. По-разному верим, но Бог у нас один.
– Могу я исповедаться вам, Ваше Высокопреосвященство?
Вопрос сорвался у меня с языка, прежде чем я успел подумать о последствиях. Я только смотрел на человека в темном одеянии, видел, как на него снизошел покой, пока он говорил. Тогда как мою шею сжимала хватка отчаяния.
Он долго смотрел на меня, хотел было что-то сказать, но, видимо, передумал и опустил глаза на лежавшие у него на коленях четки.
– Подождите, – сказал он, встал и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся со своим саквояжем и открыл его. Развернул покрывало, достал распятие и поставил в ногах алькова, потом надел на шею широкую шелковистую ленту или шарф, поцеловал и произнес что-то по-латыни, после этого снял его и положил обратно в саквояж. Горячий комок в груди заставил мои глаза увлажниться, и я зажмурился, чтобы скрыть слезы. И тут же демоны заворчали, что я вот-вот совершу большой грех; я в страхе открыл глаза и увидел, что нунций с ожиданием смотрит на меня. Увидел распятие и Иисуса Христа, который страдал ради меня, и попытался расслабиться.
Нунций спокойно, ничего не говоря, кивнул мне. Он не торопил меня. А его взгляд говорил, что, если надо, он готов ждать сколько угодно. И, уже не думая ни о чем, я начал исповедоваться. Я говорил не губами. Вернее, не только ими. Мне казалось, что я говорю всем телом, что оно открылось перед своим слушателем и обнажило все, что пряталось в старых уголках и в новых укрытиях. Тело рассказало о моей матери и о пожаре, который из-за меня случился на сеновале в Хорттене. О Марии, во рту у которой я увидел дьявола и потому ушел от нее, предоставив ее смерти. Об Анне, которая любила меня так сильно, что явилась перед Господом обнаженной, из-за чего я изменил ей, ибо счел, что она меня опозорила. О куске кожи, который я бессовестно украл у мертвого человека. О Сигварте – меня не оказалось рядом с ним и я не защитил его, когда он в этом нуждался, о смерти, которую я привел прямо к нему…
Мария.
Я смотрю на лежащую передо мной бумагу, луч осеннего солнца, прорвавшись сквозь тяжелые от влаги тучи, выглядывает из-под коротких занавесок, падает на мои слова и освещает их, словно для того, чтобы я лучше понимал то, что пишу. Рука кладет перо на стол, и я откидываюсь на спинку стула, чтобы дать отдых спине. Мария. Я говорил о ней в своей исповеди, да, я никогда ее не забывал, хотя ее жизнь оборвалась уже очень давно. Она была той женщиной, которая сделала из меня мужчину, образно говоря, показала мне тропку на седьмое небо. Моя первая любовница. Мария, молоденькая служанка, с которой я познакомился в трактире в Ютландии, когда мы с Томасом расследовали первое убийство в 1699 году. Мария, девушка, женщина, от которой я бежал, удовлетворив свое желание, потому что у нее были гнилые зубы, потому что я был молодой и незрелый, потому что она была не той девушкой, о которой я мечтал. А когда через день я вернулся, она была уже мертва – погибла от руки убийцы. Я считаю себя виновным в ее смерти.
Обо всем этом я поведал нунцию. И об Анне тоже.
Я рассказал ему и о ней. Она была деревенской девушкой, мне казалось, что я люблю ее так сильно, что ради нее мог бы невооруженным вступить в схватку с волками. Но когда она стояла в церкви нагая, чтобы защитить свою любовь, я повернулся к ней спиной. Ее поступок вызвал у меня стыд и гнев. Увы, все так и было. И это тоже случилось в тот раз, когда мы с Томасом расследовали убийство, на этот раз был убит управляющий большой усадьбы под Виборгом в Ютландии. И это тоже случилось много лет тому назад.
О Марии и об Анне я писал в своих первых рукописях.
Эти женщины и мое непростительное поведение в молодости, не они ли, собственно, и заставили меня писать? Не с тех ли пор я так же изменял и любви, и другим чувствам?
Я тяжело дышу и хватаюсь за стакан, стоящий возле чернильницы. Вода холодная, ее охладил сквозняк, дующий из окна, и у меня начинает ныть больной зуб. Я делаю еще глоток, полощу зуб этой ледяной водой, чувствую, как боль ударяет мне в голову, и думаю, что должен это вытерпеть, ведь, умышленно или нет, я много боли причинил другим. Я глотаю воду, и мне становится стыдно. Неужели я все еще не избавился от этих глупых мыслей? Неужели тот сон про норну Скульд все еще гложет меня? Уже давным-давно следовало освободиться от подобных древненорвежских верований.
Нет, надо писать дальше, пока у меня не началась головная боль, от которой приходится несладко не только мне самому, но и всем окружающим.
Я говорил долго, из глаз у меня текли слезы, а нунций слушал меня, не произнося ни слова. Когда я наконец исчерпал все слова и признался во всех своих грехах, я откинулся на подушку, охваченный невыразимой усталостью. Меня мутило, и лихорадка обжигала лоб.
Должно быть, я погрузился в легкое забытье, потому что вдруг услышал тихий голос нунция, объясняющий, какие из грехов я совершил бессознательно, а какие являются серьезными. К своему удивлению, я узнал, что иногда люди совершают грехи, которые не требуют прощения Господа Бога, ибо совершаются неумышленно и не являются сознательным действием, направленным против воли Божией. Я не хотел сжечь сеновал, свою мать и хозяина, это был несчастный случай. Я не желал смерти Марии, так получилось помимо моей воли, я не мог знать, что это случится. Кусок кожи я взял, потому что находился в состоянии аффекта, не подумав о том, что делаю. Я не мог знать, что убийца похитит Сигварта. Напротив, я сделал все, чтобы его спасти.
Единственное, в чем нунций был не уверен, так это справедливо ли я обошелся с Анне из Бредструпа, которая прошла нагая через церковь. Ею руководила любовь, считал он, и хотя любовь иногда заставляет людей совершать странные поступки, отвратительные или суеверные, злого умысла у нее не было. А вот мое поведение можно расценить только так, что я повернулся к любви спиной. Ибо то, что Бог есть любовь, важнее всего. Бог есть любовь. Мой страх перед позором, перед тем, что скажут люди, заставил меня повернуться спиной к любви Бога и Анне. В страхе перед позором я даже попытался оправдать свой поступок тем, будто хотел защитить честь Бога, но думал я тогда только о собственной чести.