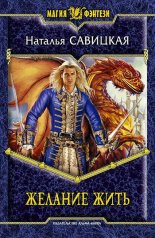Второй после Бога Ауст Курт

Ее жених! Этим женихом не мог быть никто, кроме юнкера Стига, подумал я, тем не менее сконфуженный этим известием. Действительно, юнкер был необычайно внимателен к фрейлейн Саре, но… Но мне почему-то не приходило в голову, что они могут быть помолвлены. Дворянин и дочь богатого купца? А что тут такого? Подобные браки случались и раньше, особенно если дворянский род прозябал в бедности, а бюргеры жаждали получить титул.
Я вздохнул, кивнул на прощание Крамеру и вслед за лепетавшим что-то судьей вышел из аптеки. И все-таки странно, что за всю поездку они ни словом не обмолвились о своей помолвке. И еще одно обстоятельство удивляло меня: странно, что она прибыла из Амстердама, а он – из Копенгагена. Но, может, они заранее договорились встретиться в Ольборге?
Неожиданно я заметил, что возле меня стало тихо, и обнаружил, что судья Мунк смотрит на меня исподлобья. Я догадался, что он задал мне вопрос, на который я не ответил, и, заикаясь, извинился и попросил повторить вопрос. Он повторил. Вопрос был пустяковый, и судья, не дождавшись моего ответа, с блаженной улыбкой снова что-то залепетал, а мне оставалось только удивиться крепости аптекарского бренневина. Этот бренневин вдохновил красноречие судьи и послужил причиной того, что я на время прервал свои размышления.
– Если Крамер не найдет в бутылке яда, я буду считать, что Юстесен умер естественной смертью, – заявил судья Мунк и набил рот хлебом, мы уже сидели в харчевне мадам Колбьёрнсен. – Вы не воз…жаете? – спросил он с открытым ртом.
Я выудил из своей каши вылетевший у него изо рта кусок хлеба и отодвинул тарелку из доступной ему зоны попадания.
– Нет, – сказал я, скрывая, что у меня стало легче на душе. – Мне нечего к этому прибавить. Достаточно того, что есть. – Мышцы шеи, которые весь день были у меня напряжены, немного отпустило.
Все-таки мне удалось направить его мысли в другом направлении. Если Крамер ничего не найдет в бутылке, – а я был уверен, что он ничего не найдет, – судья Мунк уже не будет думать о яде. И я с чистой совестью смогу утверждать, что он сам, без моей помощи, отказался от мысли об отравлении. Другими словами: нунцию больше не грозила опасность, а то, что угрожало бы ему, угрожало бы и мне, иначе и быть не могло.
Я достал нож Юстесена и отрезал себе ломоть хлеба. Судья Мунк сказал, что все земное имущество Юстесена будет продано с аукциона, поскольку у него не осталосьнаследников, которые могли бы на него претендовать, а вырученные деньги достанутся магистрату, то есть городу, заметьте, за вычетом налога. Мой собственный нож следовал с моим багажом по дороге в Мосс, и я спросил у судьи, нельзя ли мне купить нож умершего. Цена, о которой мы договорились, была более чем умеренной, потому что у ножа была неудобная ручка. Еще в аптеке у Крамера судья выписал мне расписку, чтобы никто не мог обвинить меня в том, будто я что-то украл у покойного.
Однако кое-что у него я все-таки украл.
Обжигая меня, как огненный укор больной совести, у меня в кармане лежал лоскут кожи, который я присвоил без разрешения судьи и при полнейшем его неведении, и, пока мы ели, этот лоскут болезненно жег мне бедро, а если бы кто-нибудь об этом узнал, я был бы опозорен. Кража у покойного считалась самым низким поступком. Даже кража жалкого длинного лоскута кожи, который я сунул себе в карман скорее бессознательно, чем обдуманно. Я не знал, зачем взял его и зачем он мне нужен. Но знал, что, вместе со всеми другими вопросами, меня мучил вопрос, засевший у меня в голове: зачем больной человек, испытывавший страдания и страх, понимавший, что он умирает, взял в руки этот кусок кожи? Будь то влажная тряпка, Библия или даже ведерко на случай рвоты, я мог бы это понять. Но лоскут кожи?
После обеда судья Мунк собирался отправиться в усадьбу Стенбекк, чтобы все там осмотреть, и согласился взять меня с собой. Однако его планы изменились после того, как какой-то подросток вбежал в харчевню и схватил судью за руку. На площади случились волнения: один крестьянин размозжил топором голову горожанину и тут же сам был пронзен шпагой в грудь. Они не могли договориться о цене за курицу. Судья Мунк закатил глаза, поспешно проглотил кашу, схватил с собой остаток хлеба и исчез из харчевни, даже не расплатившись. Мадам Колбьёрнсен с укором посмотрела на меня, когда я заплатил только за себя, и я со вздохом выложил ей еще два шиллинга. Она великодушно кивнула мне, и я вышел на дождь. Выходя, я заметил в углу харчевни грузную фигуру коменданта Шторма, беседующего с каким-то грубого сложения человеком с лошадиным лицом. Я вспомнил, что видел этого человека накануне вечером – он смеялся вместе с другими гостями за столом у аптекаря Крамера. И смех его был похож на лошадиное ржание, со злобой подумал я. Комендант наклонился над столом и тихо о чем-то с ним разговаривал. Никто из них не видел, как я покинул харчевню.
Переехав на другую сторону фьорда, я взял напрокат у одного крестьянина лошадь и плащ – и то и другое я должен был не позже чем завтра оставить в Моссе на постоялом дворе – и самостоятельно отправился в усадьбу Стенбекк. Найти ее оказалось легче, чем я думал, и через полчаса я уже стоял на дворе усадьбы перед конюшней, бывшей в то же время и хлевом для скота, и курятником. Я обошел вокруг этого строения, но не увидел никаких признаков жилого дома. В конюшне рядом со стойлом было устроено из сена подобие ложа, еще там были рабочие инструменты, лошадь, несколько коров, овцы и куры, очаг находился снаружи. Я накормил животных, понимая, что судья еще не скоро попадет сюда. Когда я уже сел в седло, чтобы, не спеша, вернуться в город, пришла кошка, важно уселась возле колодца и стала следить за мной. Уехав оттуда, я помнил только ее желтые глаза с черными зрачками.
Стенбекк не дал мне ответа ни на один из моих вопросов, но я понял, почему Юстесен каждую ночь ночевал во Фредрикстаде. Стенбекк был слишком убогим местом.
Однако дом на жалком заднем дворе у стены крепости тоже нельзя было назвать привлекательным.
А может, я просто уже привык к нему?
Закутавшись во взятый напрокат плащ, я с грустью смотрел на местность, по которой ехал. Да, мои усилия, которые я потратил на то, чтобы заставить городского судью забыть, что Юстесен умер от яда, увенчались успехом. Это оказалось даже слишком легко, мелькнуло у меня в голове, но я не придал значения этой мысли. Похоже, что со стороны судьи мне уже не угрожала опасность разоблачения. Но факт оставался фактом: Юстесен умер от яда! И я знал, кто его отравил!
Когда накануне Томас объяснил мне мои обязанности, я думал, что во время этой поездки по Норвегии мне придется защищать нунция дей Конти от нападения разбойников или диких животных, но теперь оказалось, что скорее я должен защитить Норвегию от нунция дей Конти. Почему он лишил жизни бедного крестьянина? Что он за человек, если оказался на это способен? Если он раньше не знал Юстесена, зачем ему понадобилось его убивать? Они жили практически в разных мирах, расстояние между ними было не меньше тысячи миль, если не больше. Кто он, этот нунций, волк в овечьей шкуре, закоренелый преступник, обманом добившийся расположения Папы? Должен ли я относиться к нему как к убийце? Должен ли был разгадать по его бледному продолговатому лицу, что он обладает темной душой и таит злобные намерения?
В последние годы Томас работал над описанием людей, их осанки, выражения лица и мимики, чтобы определить, кто из них преступник или, возможно, имеет преступные наклонности. Изучая особые признаки, повторявшиеся у закоренелых преступников, которых он наблюдал на Бремерхольме, где в кандалах содержались мужчины, или в Спиндехюсет[4], где содержались женщины, он надеялся, что со временем только по лицам и манере поведения сможет определять людей, затаивших в душе зло, до того как они осуществят свои преступные намерения. Иначе говоря, что их плоть покажет ему их душу.
Теория Томаса заключалась в том, что порочность души отражается в движениях тела и внимательный взгляд способен это заметить. Он считал, что, если бы наблюдателя было возможно поместить в человеческие тела, которые изначально бывают одинаковыми, добрая и злая душа произвели бы на него разное впечатление.
Я принимал участие во многих опытах Томаса, который сажал рядом осужденных преступников и честных людей, не зная заранее, кто из них кто, и пытался выявить среди них преступников. Вначале это было легко, но, когда Томасу пришло в голову, что бремерхольмских преступников следует отмыть, побрить и одеть в одинаковое со всеми остальными платье, дело не заладилось. Я смотрел на их глаза – смотрит ли человек исподлобья, отводит ли взгляд или косится в сторону. На губы – опущены ли у человека углы губ, кислое ли у него выражение лица, мелькает ли в его улыбке что-то злое, не скалит ли он зубы. Смотрел, низкий или высокий у человека лоб, какие у него морщины, какие волосы. И два, а иногда и четыре раза из десяти оказывался прав. Должен признаться, мой улов преступников был невелик.
Томас действовал иначе. Он подходил к людям, спрашивал у них, совершили ли они преступление, и наблюдал за тем, как они ему отвечали. Им разрешалось отвечать только “да” или “нет”, потому что Томас знал, что, если они заговорят, он легко узнает преступников по грубой лексике, – даже те, которые раньше ее не знали, вполне могли овладеть ею на Бремерхольме. Так он считал. Его интересовал не язык. Он понимал, что все ответят “нет”, скрыв свою вину, и потому обращал внимание на то, как именно они произнесут это “нет”, его интересовало выражение лица, движение бровей, внезапное подергивание в уголках губ, слабое дрожание ноздрей во время ответа – вот что было для него главным. Он считал, что видит, когда они лгут, а когда говорят правду. Если после первого ответа он еще сомневался, он задавал второй вопрос: “Вы крали или убивали?” Таким образом, по его мнению, можно было отличить узников Бремерхольма от честных граждан. Шесть раз из десяти ему это удавалось. Но этого было слишком мало, чтобы пользоваться его методом при определении преступников, и через два года опытов он все еще сомневался, сможет ли оказаться прав восемь раз из десяти, что было его непременным условием.
По иронии судьбы сомневаться Томаса заставило именно его сомнение. Он сомневался в том, что христианский Бог единственный и всесильный на всей земле. В последнее время он изучал народы, поклонявшиеся другим богам и имевшие другие моральные ценности, нежели те, что считались ценностями в христианском мире. Народы, у которых, к примеру, мужчины могли иметь по нескольку жен, не нарушая при этом норм морали и не вызывая неприязни или осуждения у своих собратьев. “Если мораль меняется от народа к народу, откуда я могу знать, что моральные устои в душе не меняются от человека к человеку?” – говорил он. Хотя его мысль и была основана на теории об общей основополагающей морали и на том, что отношение души к этой морали отражается во внешности и в поведении человека, вечное сомнение Томаса и его недопустимое убеждение, что другие религии и боги обладают той же ценностью, что и христианская религия (правда, у него хватало ума не обсуждать это ни с кем, кроме своего секретаря, который умел держать язык за зубами), оказались зыбкой почвой для его теории о преступниках – эта почва колебалась у него под ногами и не могла служить ему надежной опорой.
Однако шесть из десяти тоже неплохой результат. Иногда Томас угадывал и семь раз, а однажды, когда должен был угадать, кто говорит правду, а кто лжет, – даже восемь.
Но это Томас, а я не был Томасом. Да и нунций дей Конти не был узником Бремерхольма. Как я мог разоблачить его, увидеть его преступные намерения? Определить, не лжет ли он? Как мог в будущем защитить от него кого бы то ни было? В том числе и самого себя? Мог ли я остановить этого человека, несмотря на то, что он был папским послом?
Другое дело, почему был отравлен Юстесен? Совершенно неизвестный человек, которого нунций встретил первый раз? Независимо от всего: почему нунцию понадобилось его убить? Эти вопросы, минуя отчеты и разговоры о внешней политике, завели меня в прошлое, к самому главному: а в чем, собственно, заключается цель поездки папского нунция по Норвегии? Является ли ликвидация некоторых персон – в таком случае, кого и почему? – целью этой поездки? От этой мысли меня прошиб холодный пот, и я вдруг пожалел, что не научился владеть оружием, чтобы уметь хотя бы защитить самого себя. С другой стороны, ни одна шпага или пистолет не защитят человека, если ему в пищу подмешают яд.
Дорога была длинная и невеселая, и меня одолевали навязчивые вопросы, на которые у меня не было ответа.
Глава 10
К вечеру я приехал в Мосс, оставил лошадь и плащ на постоялом дворе у пристани, спросил, не проезжали ли здесь люди, направляющиеся в Вестфолд, и узнал, что четыре благородного вида персоны наняли днем карету и отправились на остров Йелёйен. Я кивнул, попросил принести мне бумагу, письменные принадлежности, сургуч и сел к столу. Хозяин принес мне также пива и хлеба, что было весьма кстати.
Мосс, 25 октября, год 1703 от Рождества Христова.
Неожиданный смертельный случай во Фредрикстаде. Мой господин и повелитель в опасности.
Завтра утром пересекаю Осло-фьорд.
С глубоким уважением и верой в Вашу помощь.
Петтер Хорттен.
Я запечатал письмо сургучом, написал на конверте имя Томаса, адрес, по которому он должен был находиться в Христиании, и подошел к хозяину.
– Нет ли у вас какого-нибудь мальчишки, без которого вы могли бы обойтись ночью и который не прочь заработать пару шиллингов?
Хозяин крикнул что-то в заднюю дверь, и вскоре к нам явился долговязый парень с сеном в волосах, он зевал во весь рот. Я положил ему в руку две марки и велел как можно скорее доставить письмо лично в руки Томасу Бубергу. Широко раскрытыми глазами парень уставился на деньги, и я видел, что у него за спиной хозяин прикидывает в уме, сколько он может потребовать за предоставление лошади.
– И еще столько же за лошадь, – сказал я хозяину и бросил ему деньги. Он усмехнулся и взял их. Парень поспешно скрылся в конюшне – дорога до Христиании была не близкой, – а я скрылся в темноте ночи. До усадьбы Пера Хестеберга, куда завтра утром должен был прийти паром, было далеко.
Дождь прекратился. И ветер тоже. В облаках мелькала нарождающаяся луна; я то спускался, то поднимался на холмы и шел через лес, не обращая внимания на темноту. Места были знакомые, я был почти дома.
Ноги сами находили дорогу, и я не мешал мыслям идти своим путем, который привел их обратно во Фредрикстад. Они вернулись к дому Халвора Юстесена, где я снова и снова стоял у окна и видел, как нунций достает из складок одежды пузырек и поднимает его над столом. И каждый раз эта картина останавливалась в моей голове, обращаясь в лед, – рука нунция висела над бутылкой с бренневином и бокалом, висела неподвижно, пока наконец не растворялась в воздухе, и я видел мертвого Юстесена, лежавшего в алькове. Он лежал скрюченный, и каждая его черта свидетельствовала о боли.
И, тем не менее, меня грызло сомнение. Независимо от того, сколько раз эта картина вставала у меня перед глазами, из пузырька так ничего и не вылилось.
Возникал естественный вопрос: а вылил ли вообще нунций из него хоть каплю? И попало ли это в бокал Юстесена? Если да, то что это было? И зачем?
Я позволил себе считать, что на первые два вопроса я уже ответил. Ибо зачем держать пузырек над стаканом, так ничего в него и не вылив? Это было бессмысленно. Было бы логичнее ответить на эти вопросы “да” – да, он что-то налил в стакан.
На третий вопрос следовало ответить: “яд”. Я видел у Юстесена все признаки отравления – на теле, на языке, в глазах, не говоря уже о случившемся у него поносе и рвоте, столь сильной, что его блевотина забрызгала всю портьеру алькова. Я был уверен, что Томас тоже пришел бы к такому же заключению. Но сказать более точно, что это был за яд, я не мог, мои познания в токсикологии были крайне ограниченны.
И на последний вопрос сейчас было так же трудно ответить, как и тогда, когда я подъезжал к Моссу. Ответ на него знал, по-видимому, только сам нунций дей Конти, но у меня не было никакого желания задавать ему этот вопрос. Больше всего мне хотелось забыть о том, что мне было поручено, и уехать куда-нибудь подальше от папского посла и всех неприятностей, шедших за ним по пятам.
Хотя я хорошо знал окрестность, в игре лунного света мне начала мерещиться всякая чертовщина. Сердце никак не желало успокаиваться, и постепенно я сообразил, что все дело в том, что моя шея панически боится петли.
Во время осмотра трупа я пришел к твердому выводу, что нунций дей Конти виновен в смерти Юстесена. Кто другой мог случайно оказаться в доме бедного крестьянина, плеснуть ему яду в бокал и оставить умирать именно в ту ночь, когда его посетил папский посол, к тому же замеченный с подозрительным пузырьком в руке? Иными словами, человек, за жизнь которого я отвечал головой, был виновен в отравлении Юстесена. Когда это откроется – мне было страшно додумать эту мысль до конца, – народ возмутится, если этого человека не закуют в кандалы. Что, безусловно, коснется и меня, отвечающего за него. И если народ не получит одного, он захочет расправиться с другим. А если виновника и задержат, король будет вынужден отпустить его обратно к Папе – естественно, как персону нон грата, – но кто знает, как это скажется на шее Петтера Хорттена? Едва ли король будет в восторге от такого подданного.
Когда все это дошло до меня, я поспешил убедить городского судью Мунка в том, что Халвор Юстесен умер от внезапного недомогания или болезни и что я, секретарь профессора Буберга, как это ни прискорбно, неправильно использовал логику и метод дедукции. Моей уверенности в себе было нелегко проглотить такую пилюлю, но для моего здоровья в будущем это было необходимо. Так я рассудил во Фредрикстаде.
Однако и теперь, когда у меня было время спокойно все обдумать, не делая поспешных выводов, я пришел к такому же решению. Все указывало на нунция, однако посланец Папы должен был остаться на свободе.
Неожиданно в моих мыслях всплыла фамилия Молесуорт, и я понимал, почему, хотя это не давало прямого ответа на мои вопросы.
За несколько дней до моего отъезда в Норвегию мы с Томасом говорили о том, что король, несомненно, желает, чтобы папский посланец чувствовал себя в Норвегии как можно лучше. В своем циркуляре, разосланном чиновникам столицы, Фредерик IV обязывал их сделать все, чтобы наше государство предстало перед посланцем Папы в лучшем виде. “Король, несомненно, помнит то, что в последний раз писали про Данию”, – сказал Томас с жесткой улыбкой и объяснил мне, в чем дело.
Десять лет тому назад в Копенгаген прибыл английский посол Роберт Молесуорт, чтобы заключить договор о датских наемниках в Англии. Возникли трудности с оплатой войска, но Молесуорт добился такого решения вопроса, которое устраивало и короля Кристиана V, и нового короля Англии Уильяма. После переговоров Молесуорт остался в Дании в качестве посла. На свою беду, сказал Томас, который несколько раз встречался с этим темпераментным господином. Это был желчный холерик и вместе с тем весьма приятный и интересный собеседник, но только до тех пор, пока ему не возражали. На одном торжественном приеме Томас чуть не схватился с ним врукопашную, когда посол заявил, что датские законы Кристиана V, по сути дела, являются варварскими пережитками язычества. Их тут же растащили, и посол потом даже встречался с Томасом, но не для того, чтобы извиниться, а для того, чтобы на трезвую голову послушать, как Томас защищает датские законы.
Темперамент посла часто приводил к устным перепалкам и ссорам. Его даже обвиняли в том, что он избил часового, облил пивом подмастерье портного и выстрелил из ружья в одного крестьянина, ранив его в бедро.
– Однако посланники или послы иностранных держав не подчиняются нашим законам, как мы, – сказал Томас. – В худшем случае их высылают из страны, независимо от того, что они натворили. Так что любые обвинения вызывают у короля только раздражение, но не приводят к наказанию.
В конце концов посол впал в немилость. Он поссорился с самим Вольфом фон Хакстхаузеном, обер-шталмейстером старого короля, и налгал об этой ссоре с три короба, однако его ложь была тут же разоблачена, что привело к “незаявленной” прощальной аудиенции у короля и поспешному отъезду из страны. Томас не знал сути этой ссоры, но “незаявленная” аудиенция у короля явилась причиной того, что Молесуорт не получил на прощание ценного подарка, который обычно дарили послам, когда они покидали королевский двор. Посол написал из Англии и просил, чтобы ему выслали этот подарок, но это ни к чему не привело.
– Старый король уже устал от него, – сказал Томас.
Местью Молесуорта была написанная им книга о Дании. Злобное и оскорбительное описание этой страны.
– Положительным в ней был только раздел о законах и законодательствах, – не без гордости заметил Томас. – “Своей справедливостью, краткостью и четкостью они превосходят все, что мне известно… и написаны на языке этой страны”, – восторженно писал Молесуорт. Томас, естественно, был доволен этой похвалой. Не самими законами, а тем, что посол понял их ценность.
Я поинтересовался, не говорится ли в этой книге чего-нибудь и о Норвегии.
– А как же! – засмеялся Томас и достал книгу. – На целых полстраницы он перечисляет то, что считает мелочами. Видишь ли, он никогда не был в Норвегии, поэтому мог писать только о несущественных вещах. Но фактически он пишет не только об отрицательном. Вот послушай: “Норвежцы – выносливые, трудолюбивые и порядочные люди. Они уважают других людей, но себя уважают больше, чем датчан, которых презрительно зовут “ютами”[5]. – Томас посмотрел на меня поверх очков и засмеялся. – Он явно чего-то не понял, если считал, что называться “ютами” унизительно и обидно. Ха-ха!
Смех был неискренний. Может, у самого Томаса текла в жилах кровь ютов?
– Выносливые, трудолюбивые и порядочные, – повторил я. – Как я понимаю, знание людей было одной из его сильных сторон.
Томас замахнулся на меня книгой.
– Но они слишком уважают себя, – сказал он. – И здесь Молесуорт попал в точку. Самодовольные – вот, наверное, самое подходящее слово, что скажешь? Да и их трудолюбие тоже весьма сомнительно, если судить по тем норвежцам, которых я знаю. – Он подтолкнул меня к двери. – Где дрова, которые нужно было доставить из гавани? Что-то я их здесь не вижу. – Я выскочил за дверь и слышал, как он ворчал мне вслед: – Трудолюбивые, порядочные. Гм! Но хуже всего то, что они сами в это верят.
Книга, вышедшая из-под пера Молесуорта, сильно навредила репутации Дании за границей, и хотя один немец и один датчанин попытались описать Данию такой, какая она есть, это мало помогло. Произведение Молесуорта пользовалось большой популярностью и продолжало выходить все в новых изданиях.
Так что неудивительно, что король опасался, как бы и посол Папы не отозвался неблагоприятно о Дании.
В те недели, пока мы ждали отъезда в Норвегию, нунций дей Конти успел осмотреть в Копенгагене несколько мест – Верховный суд, университет, биржу, Круглую башню, и я не раз видел, как он сидел в университетской библиотеке и делал записи для своего предполагаемого отчета.
Тем не менее Томас не сомневался, что за приездом нунция скрываются другие, менее официальные причины.
– Не верю я в этот отчет, – упрямо твердил он. – Во всяком случае, он приехал сюда не только ради него. Сегодня я опять видел, как он направлялся на встречу с королем. В этой встрече принимали участие также старший секретарь Германской канцелярии Сехестед и тайный советник Отто Краббе. О чем, интересно, они говорили?
Как обычно, я пытался проверить правильность его утверждений с противоположной точки зрения.
Новый Дворцовый закон должен был быть принят в Акерсхюсе на другой год после посещения Норвегии королем. Для разработки этого закона была создана комиссия, и Томас входил в нее, из-за чего ему часто приходилось посещать королевские канцелярии. Благодаря этому он видел, слышал и знал все, что происходит вокруг короля, лучше, чем кто-либо другой, – порой делал кое-какие намеки, хотя я был единственный, с кем он делился своими наблюдениями. Работа над Дворцовым законом не доводилась до сведения общественности и должна была стать достоянием гласности не раньше нового года, тогда же король должен был официально объявить планы своих поездок на будущее лето.
Что касается многочисленных встреч нунция во дворце, Томас считал, что они только подтверждают, что целью его посещения была попытка выяснить, какие общие внешнеполитические интересы могут быть у Папы и у Датского королевства. Испанская война за наследство бушевала во Фландрии, на Рейне и даже в Италии, другими словами – в пугающей близости от Папы. Кроме того, войска шведского короля Карла XII бесчинствовали в Польше. Дабы усилить эту нестабильность, курфюрст Баварии вместе с королем Португалии предпочли поддержать Францию в этой войне за наследие, тогда как немецкие князья, например Фредерик Бранденбургский, поддерживали императора и англо-нидерландскую сторону. Другими словами, Европа снова лишилась равновесия и была близка к большому пожару. А потому, считал Томас, Папа хотел выяснить, на каких союзников Рим мог бы положиться. Официально – чтобы найти возможность повлиять на воюющие стороны или заставить их сесть за стол переговоров. Неофициально – чтобы укрепить владения Папы, если над ними нависнет угроза. Так считал Томас.
– А они немалые, – сказал Томас, имея в виду владения Папы.
И он назвал вдовствующую королеву. Все знали, как самоотверженно старая королева Шарлотта-Амалия старается спасти сына от ловушек, расставляемых ему женщинами-католичками. Говорили, что она угадала его интерес и к ним, и к обрядам Католической Церкви после того, как он, будучи кронпринцем, во время своей образовательной поездки долго оставался в Италии и вел там “приятную жизнь”, как выразилась королева-мать. А эта старая дама все еще имела большое влияние на молодого короля, считал Томас.
Все это крутилось у меня в голове, в то время как лес и темнота постепенно сгущались вокруг меня. И еще я пытался понять, действительно ли послу Папы дозволено совершать убийства, не неся за это наказания, и обязан ли его секретарь в таком случае предотвращать эти преступления? И обязан ли он разоблачить убийцу в тех случаях, когда предотвратить убийство оказалось невозможно? А главное, не будет ли выполнение этого долга, если я его выполню, грозить опасностью внешней политике и миру всей страны, а вместе с этим и хрупкой шее самого секретаря?
Темный осенний лес был неподходящим местом для таких мыслей, и я вместо этого начал думать о прелестной фрейлейн Саре, которая вместе со всеми спала сейчас в доме Пера Хестеберга. Я вспоминал ее темно-русые волосы, которые она иногда закалывала на макушке, обнажая стройную шею, не скрытую воротником, ее накидку на волосы, которая никогда не могла удержать на месте непослушные локоны, и широкую черную бархатную ленту, которую она повязывала на лоб, чтобы в дороге защитить нежную кожу. Она, безусловно, благородная дама, думал я, потому что такие повязки я видел в Копенгагене только у богатых женщин. Часто концы ленты были украшены тесьмой или жемчужинами. Дочь одного золотаря недавно приговорили к штрафу в пять риксдалеров за то, что она носила такую ленту для защиты кожи, хотя ее отец клялся и божился, что лента используется и куплена законно и за нее честно уплачено. Я вспоминал и другие части туалета фрейлейн Сары, а именно манжеты на рукавах, чья белоснежная вышивка или просто белая ткань весело порхала вокруг ее рук, которые ни минуты не находились в покое. И задавался вопросом: возможно ли представить себе, чтобы жалкий секретарь когда-нибудь обручился со столь прекрасной барышней?
Как ни глупо, но это занимало мои мысли. Хотя ответ, к которому я неохотно пришел, не сделал эту ночь менее темной.
Наконец лес отступил, открывая путь в Тронвик и к фьорду, и я подумал, что там, прямо на противоположном берегу, находится усадьба Хорттен. Теперь, продолжая идти на запад, я уже думал только о ней, и когда проходил мимо сеновала Пера Хестеберга, и когда поднимался по лестнице на сеновал, и когда наступил на руку Герберта и слушал, как он бранится по-датски – все-таки он умел говорить, – и когда зарылся в сено, и, пока меня не сморил усталый сон, я думал только о том, что нахожусь сейчас так близко от усадьбы Хорттен, что могу уловить даже ее запах.
Трудолюбивые. Порядочные. Выносливые. Так написал Молесуорт о норвежцах. Мы уважаем себя. И мы самодовольны.
Самодовольны. Неужели я самодоволен? Неужели мы самодовольны? Надеюсь, ко мне это не относится. Но мы, безусловно, уважаем себя, а от уважения себя до самодовольства, наверное, не так уж и далеко.
С другой стороны, многие датчане отличаются большим самомнением и уважают себя куда больше, чем норвежцы, и это известно всем. Так что, кто кого должен упрекать в искаженном представлении о себе?
Должно быть, это свойственно большинству людей – они высоко ставят себя и низко других, и сие врожденное качество необходимо, дабы народ выжил и сохранился как народ.
Я выпрямляю спину, стараюсь, чтобы подушка, на которую я опираюсь, не сбилась. Барк уже рядом, он берет подушку, взбивает ее и снова подкладывает мне под спину. Я ворчливо благодарю его, и он уходит на свое место. Он сидит у окна и что-то вырезает из дерева. Похоже, половник. У него золотые руки. Когда я неделю назад начал писать, – еще до того, как поправился и потому должен был оставаться в постели, – он смастерил мне пюпитр для письма, который крепился к бортикам кровати, чтобы я мог писать чернилами, сидя или лежа в постели. Это прекрасное приспособление, и я замечаю, что рука сама тянется к перу, как только я утром открываю глаза.
Прежде чем вернуться к словам о норвежском характере, – я растираю правую руку, – я невольно задумался над этими словами, и мне хочется не забывать их теперь, когда я решил рассказать о нашей поездке по Норвегии.
Английская рукопись со словами: “Всех слушай, но беседуй редко с кем. Терпи их суд и прячь свои сужденья”, – пробудила к жизни воспоминания и, тем самым, желание писать. Эта старая рукопись для меня загадка. Я спросил у торговца Бурума, откуда она у него. Он считает, что она пролежала в книжном шкафу не одно поколение, может быть, еще со времен его прапрадедушки. Он слышал от своего отца, что более ста лет тому назад, в 1640 году у острова Лэссёйен потерпел крушение один корабль и что на борту этого судна был ученый, англичанин, которого спасли люди местного торговца, а он в благодарность за спасение торжественно передал торговцу эту сильно поврежденную рукопись. Англичанин утверждал, что рукопись – это прямой список с оригинала и что это самая ценная вещь, какую он имеет. “И единственная”, – сухо заметил торговец, потому что все его имущество пошло ко дну вместе с судном. Бурум не знал, кто является автором рукописи, и, как и его предки, мало этим интересовался. В этом роду чтение не слишком интересовало людей. В доме были только счетоводные книги и один экземпляр Святого Писания на всех. Поэтому все эти годы рукопись оставалась нетронутой и непрочитанной, пока не попалась на глаза старому любопытному профессору.
Но вот и профессор отложил рукопись в сторону. Я повременю с чтением, пока у меня не будет достаточно времени.
А кто знает, когда это будет? Во всяком случае, не раньше, чем я закончу свою историю, думаю я и невольно хмыкаю. Первую из моих норвежских историй, уточняю я, верный долгу перед самим собой, чтобы не выглядеть слишком самодовольным.
Пятница 26 октября
Год 1703 от Рождества Христова
Глава 11
Ее поставили высоко на лестницу. Руки были связаны за спиной. Волосы и красные одежды развевались на ветру. Пока пламя разгоралось и тянулось к ее ногам, эта красная женщина что-то кричала людям. Крики становились все громче, это был уже невнятный рев, вой, люди смеялись, показывая на нее, отбегали в сторону, спасаясь от искр, а костер гудел все неистовее, наконец лестница наклонилась и женщина упала, как дерево, поваленное ветром. Она провалилась сквозь крышу одного из домов, и я видел, как она ходит там внутри, поглядывая на меня, пахло горелым мясом, запах становился все сильнее, мне пришлось отвернуться, но он преследовал меня, кисловатый и отвратительный, он драл мне нос, и я зажал ноздри, чтобы не чувствовать его.
– Отпусти же меня! – проговорил кто-то, и я проснулся.
Я отпустил чужую ногу и с отвращением уставился на грязный носок, что упирался мне в нос. Его вонь могла бы воскресить даже мертвого. Нога пошевелила пальцами и исчезла – Герберт повернулся на сене.
Дождь барабанил по крыше, я попытался забыть сон и лежал, привыкая к мысли, что сегодня увижу свой дом. Дом, настоящий. Мой дом. Усадьбу Хорттен. По мне пробежала дрожь радостного предчувствия. Крик снаружи заставил меня вскочить. Я, как мог, оправил на себе одежду, сунул под плащ парик, чтобы он не намок, и спустился по лестнице.
Двор усадьбы был пуст, но с берега поднимался взвод солдат. Один из них вел за собой лошадь. За лошадью я разглядел паром и двух человек. Одного из них я узнал и бросился на берег.
– Нильс! – заорал я, размахивая руками. – Нильс!
Он выпрямился и посмотрел на меня. Я, запыхавшись, остановился перед ним, не в силах сдержать улыбки.
– Это я, Петтер! Ты что, не узнал меня? Я дома!
Он шевельнул языком табачную жвачку, оглядел меня с ног до головы и сплюнул ее в воду.
– Вижу, – ответил он, продолжая разматывать веревку, которой была привязана лошадь.
Другой парень с любопытством смотрел на меня, и я представился:
– Я – Петтер Хорттен, работал тут в усадьбе вместе с Нильсом.
Он с подозрением оглядел меня, буркнул “Олав” и продолжал заниматься своим делом.
– Я вернусь в Хорттен вместе с вами, – сказал я Нильсу. – И пробуду в Хорттене до завтрашнего утра.
Он уложил веревку в лодку под среднюю банку и поднял глаза на флаг, развевающийся над усадьбой Пера Хестеберга, который сообщал о том, что приезжие ждут транспорта.
– Вижу, вижу, – раздраженно буркнул он. Схватился за мачту и хотел поднять ее – она лежала у правого борта. Я бросился ему на помощь.
– По дороге домой будет неслабый норд-ост, – сказал я. – Так что обойдемся без весел.
Нильс держал мачту, не спуская с меня глаз.
– Олав! – сказал он с многозначительным кивком. Олав отшвырнул черпак и, оттолкнув меня, схватился за мачту.
– Господин может запачкать одежду! – сказал он и помог Нильсу поставить мачту на место.
Я слегка оторопел, а потом пошел, чтобы разбудить нунция.
Оказалось, что в этом не было надобности. Все они уже сидели в парадной гостиной за завтраком, поданным им Хильде Хестеберг, – нунций дей Конти, фрейлейн Сара и юнкер Стиг.
Я поздоровался, фрейлейн Сара улыбнулась мне и ответила на мое приветствие. Нунций даже не поднял глаз от тарелки. Юнкер Стиг, явно не выспавшийся, спросил, в чем состояла моя помощь судье во Фредрикстаде. Я коротко рассказал, что там умер один человек, я помог в расследовании причины смерти и пришел к тому же выводу, что и цирюльник, – несчастный умер от болезни. Юнкер кинул на меня долгий взгляд, как будто ожидал чего-то другого. Но я молчал, и он с раздраженной морщинкой на лбу снова обратил свое внимание на завтрак. Остальные ели молча, нунций с таким завидным аппетитом, который показался мне даже неприличным, учитывая все то, что я теперь о нем знал.
Завтрак пошел мне на пользу, и настроение мое улучшилось, когда матушка Хильде, как я всегда ее называл, появилась из кухни, увидела меня и с радостным возгласом отставила блюдо со свежим сыром, чтобы обнять и потискать меня так, что я покраснел до ушей. Фрейлейн Сара от смеха поперхнулась пивом, и даже мрачная физиономия нунция на мгновение осветилась улыбкой. Юнкер Стиг наблюдал за этой сценой с надменным выражением лица, близким к отвращению.
– Петтер! Какой ты стал красивый! И как вырос! – Она немного отстранила, но не отпустила меня, и покачала головой. – Господи, неужели это ты? – Хильде вытерла катившуюся по щеке слезу и вдруг ужаснулась: – Боже, я совсем забылась! Как можно, господа ждут лепешки, они стоят у меня на кухне!
Она снова поспешила на кухню, где уже сидели Нильс и Олав, ожидая, что им тоже дадут поесть.
И хотя возле нунция на этот раз стояла не маленькая, а большая бутылка, я брал только те блюда, которые стояли от него подальше.
Юнкер Стиг выпил слабое, но вкусное пиво Хильде Хестеберг, рыгнул, прикрыв рот рукой, и обратился к нунцию.
– Куда Вашему Высокопреосвященству будет угодно направиться, когда мы переправимся через фьорд? – вежливо спросил он без присущих ему обычно гнусавых высокомерных ноток в голосе.
Нунций дожевал пищу, проглотил ее и вытер пальцем уголки губ – матушка Хильде не считала нужным подавать салфетки – на что тогда нужны рукава? – он глотнул пива, которое явно пришлось ему не по вкусу, встал и отошел в сторону.
– Но черт возьми! – воскликнул юнкер Стиг и раздраженно посмотрел ему вслед. Нунций надел шляпу, накинул плащ и вышел. Юнкер что-то буркнул себе под нос, обернулся к столу, положил руки по обе стороны от своей тарелки, посмотрел на свои растопыренные пальцы и, явно с трудом сдерживая себя, мрачно взглянул на меня: – Я солдат! – сказал он по-датски. – Меня учили защищать моего короля, бороться и воевать за него, и я разоружу или убью любого врага, которого обнаружу.
Я набил рот сыром, чтобы не отвечать ему, и в то же время был страшно удивлен, что этот высокомерный камер-юнкер обращается ко мне как к равному.
– Но, чтобы защитить своего короля, я должен знать, кто мой враг, – продолжал юнкер и с раздраженной миной глотнул пива. – А также знать, какие у моего короля планы. – Он отер пену с верхней губы и посмотрел на меня. – Понимаете, господин Хорттен, что-то не так. Не понимаю, что именно, но что-то не так.
Мне нечего было ему ответить. И я ограничился тем, что уставился в одну точку рядом с его тарелкой.
– Вчера я посетил коменданта Шторма, пока вы… – Он наморщил лоб, и взгляд его стал острым. – Да так… Вы знаете, что я думаю об этом деле, но… У коменданта Шторма мне не сказали прямо, но намекнули, что не хотели бы видеть Его Высокопреосвященство в городе, да и в других частях страны тоже, если на то пошло.
– Они знали, кто он? – с удивлением спросил я.
– Да, очевидно. Наверняка этот таможенник проболтался, хотя вы и просили его держать язык за зубами.
Я не стал напоминать юнкеру, что это он, а не я, сказал таможеннику, что нунций посланник Папы, а не обычный торговец.
– Почему они настроены против нунция дей Конти? – поинтересовался я.
– Об этом не говорилось, но и так ясно: многие были бы против его присутствия, узнав, что он католик.
Слова “были бы против его присутствия” прозвучали в моих ушах как “пожелали бы ему смерти”. Я чуть не рассказал юнкеру о вчерашних событиях, о том, что нам надо следить за действиями нунция больше, чем за тем, что замышляется против него. Но мы были не одни, фрейлейн Сара все еще сидела за столом, она молчала, повернувшись лицом к кухне, словно ее интересовало то, что матушка Хильде там делает. Я знал, что она не понимает по-датски, но лучше было не рисковать.
Юнкер Стиг допил пиво и снова налил себе из кувшина.
– Этот покойник, тот, которого вы осматривали… – Юнкер не поднимал глаз от кружки. – Вы уверены, что он умер от какой-то болезни?
У меня от лица отхлынула кровь, и я схватил нож, чтобы отрезать себе еще кусок сыра, мне нужно было что-то сделать.
– Городской судья… – Я покашлял, чтобы прочистить горло. – Городской судья Мунк в этом не сомневается. Так что… это точно.
– Вы уверены? – Юнкер Стиг не спускал с меня глаз.
Я кивнул несколько раз, это как будто убедило его, он потянулся за свежим хлебом и откусил большой кусок. Задумчиво жуя хлеб, он поднял глаза и хотел что-то сказать, но предупреждающе поднял руку и дожевал хлеб.
– Сегодня ночью… нет, я имею в виду прошлую ночь, во Фредрикстаде у аптекаря… не слышали ли вы чего-нибудь необычного? Понимаете, мне кажется, я слышал…
Его прервала фрейлейн Сара, которая встала так внезапно, что со стола чуть не упала тарелка. Быстрым шагом, без единого слова она вышла из комнаты. Мы оба удивленно смотрели ей вслед. В ту же минуту в комнату вошел Олав с шапкой в руке.
– Будет лучше, если мы отправимся не мешкая, пока ветер попутный, – сказал он.
Я кивнул.
– Сейчас идем.
Он все еще ждал, и мы встали из-за стола. Юнкер Стиг крикнул своего слугу, Герберта, и приказал перенести его багаж в лодку. Я попросил Олава помочь мне с багажом нунция.
Продолжать разговор с юнкером о той ночи во Фредрикстаде было уже невозможно, наверное, оно и к лучшему. По дороге к лодке, на свежем воздухе, я снова все продумал и решил ничего юнкеру не говорить, по крайней мере пока. Изменить что-либо он все равно был не в силах, а тайна уже не тайна, если ее знают двое, любил говорить Томас. А нас с нунцием уже было двое.
Кроме того, я не был уверен, что юнкер Стиг, когда все станет известно королю, будет так же заинтересован в том, чтобы спасти шею Петтера Хорттена, как свою собственную. В том же, что королю это станет известно и что главным героем будет человек благородного происхождения, я не сомневался. Юнкер Стиг наверняка придумает, как ему действовать, думал я, таская наши вещи в лодку Нильса. Придумает, как подать себя в выгодном свете, а меня сделать виноватым в том, что нунцию удалось совершить свое злодеяние.
“Лучше думать о людях плохо и ждать, чтобы они доказали обратное”, – презрительно думал я, влезая в лодку.
Переезд через фьорд прошел легко, как и следовало ожидать. Я сидел на носу, опустив руку в воду, и смотрел на знакомые места. С левого борта поднимался внушительный остров Бастёйен, с правого – маленький, словно встрепанный, Мёленёйен, который почти сливался с утренним туманом. Впереди к нам приближался мыс Хорттен, он рос на глазах, и я узнавал крутые склоны, большие камни, места, где я ловил рыбу, где разбил до крови колено, видел косулю или бегал за отвязавшейся скотиной. За деревьями виднелась усадьба, темные поля, спускающиеся к морю, еще не перепахали после того, как урожай был собран. Видно, хозяин немного затянул со страдой.
Скрытый от глаз остальных, сидевших у меня за спиной, я достал из кармана бумагу и развернул ее. Она затрепыхалась на ветру, приклеилась на мгновение к моим пальцам, и я смог прочитать слова: “…пожизненное заключение…” Ветер усилился, я испугался, как бы он не вырвал бумагу у меня из рук, сложил ее и снова сунул в карман.
Нильс предпочел пройти мимо Веалёса и войти во внутреннюю бухту, чтобы оказаться с подветренной стороны, когда будет причаливать к берегу, и я вспомнил, что при сильном ветре тут было трудно маневрировать плоскодонкой. Когда паром царапнул дно ниже Сёебудена, я под носом Олава схватил канат, спрыгнул на берег и привязал лодку к большой сосне, которая всегда нас здесь выручала. Олав побежал через лес, чтобы пригнать лошадь с телегой за нашим багажом. Дождь перестал, но мы все немного промокли и дрожали от холода на ветру, поэтому я предложил нунцию не ждать телеги. У него побелел кончик носа, лицо посинело, и я вдруг сообразил, что в качестве слуги плохо забочусь о своем хозяине, позволив ему совершить эту нелегкую поездку без всякой поддержки и слов сочувствия с моей стороны. Нунций молчал, и я сделал вид, что все в порядке. На самом деле я испытал даже недобрую радость от его несчастного вида и невольно вспомнил о Немезиде.
Когда мы уже шли под деревьями, я видел, что Нильс отвязал лодку от сосны, привязал ее к молодой ели и убрал мачту.
Мне было странно, что деревья стали выше, пышнее и в некоторых местах появился густой подлесок, но я как будто узнавал отдельные деревья и они на ветру даже кивали мне, когда я проходил мимо. Вскоре мы миновали большую прогалину, которую я всегда называл “садом”, потому что у нас в усадьбе не было настоящего сада, и осенние краски засверкали в лучах солнца, упавших на могучий каштан, росший посреди прогалины. Мне захотелось показать это моим спутникам, но нунций шел, погруженный в свои мысли, и не поднимал головы, а юнкер Стиг, поддерживаемый Гербертом, ковылял последним в своих башмаках на высоких каблуках.
– Schn, – пролепетала фрейлейн Сара и посмотрела на верхушку каштана. Она улыбнулась мне. – Как сказать это по-датски?
– По-норвежски, здесь мы говорим по-норвежски, – сказал я и покраснел. – По-норвежски мы говорим, что это “красиво”. – Или “мило” хотел я прибавить, но промолчал, не совсем понимая, что именно я вкладываю в это слово.
Когда мы поднялись на последний холм и оказались во дворе усадьбы, у меня перехватило дыхание, я оглядывался по сторонам, не в силах произнести ни слова. Оставалось надеяться, что хозяйка и хозяин помедлят и не сразу выйдут, чтобы приветствовать меня с приездом, – я боялся пустить слезу. Здесь ничего не изменилось, думал я, прохаживаясь по двору взад и вперед и узнавая знакомые вещи. Покосившееся окно в каретном сарае, потому что один угол просел на полфута, камень, на котором я нацарапал свое имя, когда научился писать, гнездо ласточки под кровлей хлева, колодец и корыто, крыша сеновала, которая еще совсем новой уже потребовала ремонта, жилой дом, дверь в него…
– Секретарь-помощник полагает, что мы будем стоять здесь, пока не простудимся? – спросил юнкер Стиг и зашагал к двери в дом. Он снова гнусавил.
В эту минуту появился Олав на телеге, чтобы ехать к лодке за нашими вещами, я остановил его и спросил, где хозяин. Он показал на окно большим пальцем:
– Думаю, он спит.
Пораженный, я вошел в дом, чтобы увидеть хозяйку. Она была не из тех, кто позволяет мужу спать до полудня. Хотя он порой и любил выпить, он исправно вставал засветло и своевременно делал все, что входило в его обязанности, как того требовала хозяйка. Ее самое было почти незаметно, и при чужих она почти не открывала рта, но дома, в четырех стенах, последнее слово всегда было за ней.
На кухонном столе стояла гора грязных мисок и тарелок. Ведерко в углу было пустое и сухое, словно прошло несколько дней с тех пор, как в нем последний раз разводили сыворотку. Пол и каменные приступки вокруг очага, по-моему, не подметались уже неделю, если не больше, пахло плесенью и тухлым мясом. Как только я подошел к столу, с него взлетел рой мух. Страшная мысль закралась мне в голову, я быстро прошел в комнату и откинул портьеру, скрывавшую альков хозяйки. Перина и подушка были застелены гладким, выглаженным покрывалом. Белым, чистым, не тронутым, края были подсунуты под тюфяк, отчего он был похож на куколку бабочки.
Я отпрянул от алькова.
– Где она? – крикнул я и откинул в сторону вторую портьеру. Хозяин лежал в своем алькове на спине у самой стены, на какое-то мгновение мне показалось, что это лежит Халвор Юстесен. Хозяин не разделся, рабочее платье было грязное, от него пахло перегаром и хлевом. Я начал его трясти и тряс, пока он не открыл глаза.
– Где она? – прошептал я сквозь слезы.
Он со стоном сел, потом оттолкнул меня и встал с кровати. И тупо смотрел на меня и на мой парик, который я держал в руке.
– Она умерла, Петтер, – сказал он наконец, откашлялся и сплюнул на пол.
– Когда? – шепотом спросил я и сел на край постели.
– В сенокос, в один из первых дней. – Он замолчал и уставился в пол. Глаза у него были чужие, лицо удивленное, словно он до сих пор не мог поверить тому, что засело у него в памяти. – Было жарко, очень жарко. Я только успел сказать, что теперь на Варфоломея у нас будет плохая погода, как она схватилась за грудь и упала. – Он взял со стола грязный бокал и налил себе из бутылки, выпил и задохнулся, когда бренневин обжег ему горло. Потом поставил бокал и бутылку на стол и пошел к двери.
– Когда я подошел к ней, она уже не дышала, – сказал он, обращаясь к двери, открыл ее и вышел из дома.
Глава 12
“Почему нож лежал у него под плечом?”
Эта мысль крутилась у меня в голове, пока я резал мыло и бросал его в лохань с водой. “Если Халвор Юстесен умирал от яда, зачем ему понадобился нож? Хотел защититься от чего-то или от кого-то? Или хотел порезать себе руку, чтобы выпустить яд? Каким образом он мог выронить нож так, что он оказался у него под плечом?”
Вопросы, вопросы, на которые нет ответа.
Пока я стирал белье, пришла фрейлейн Сара в переднике хозяйки и принялась помогать мне. Это удивило меня. Через несколько минут она взяла руководство на себя. Со мной в роли смешливого переводчика она на стреляющем немецком языке приказала Нильсу и Олаву вскипятить воду и приняться за стирку, даже Герберта, который неосторожно сунул к нам нос, она приспособила к делу. Уж стирать-то он умеет, считала она. Он ворчливо сказал, что это не его дело, тогда я, глядя на его отекшую от простуды пухлую физиономию, сказал, что в таком случае он пойдет чистить хлев, после чего его одежда наверняка потребует стирки, а уж тогда он заодно постирает и все остальное. При мысли о хлеве он дрогнул, недовольно отложил парик в сторону и начал стирать.
Стирка – женская работа. Так испокон веку считалось в этой усадьбе, как, безусловно, и во всех других. Но я не мог допустить, чтобы мой господин, посол, терпел всю ту грязь, которая нас здесь встретила. Когда усадьба Хорттен осталась без хозяйки, было бы естественно пригласить для уборки женщин из Сёебудлёккен или из Хагена, но, поскольку хозяин сам этого не сделал, я не мог распорядиться, чтобы они пришли сюда и занялись стиркой и уборкой. Как бы там ни было, а я больше не жил здесь.
Не ожидая ни от кого помощи, но, напротив, готовый к насмешкам и презрительному смеху, я сам затеял эту обычную осеннюю уборку, а что и как надо делать, это я хорошо знал. Признаюсь со стыдом, что мне уже приходилось этим заниматься. Фру Ингеборг в Копенгагене сразу переставала быть мне заботливой мамочкой, когда требовались руки с половой тряпкой, а единственные подчинявшиеся ей руки были у меня. И в последние годы именно они и занимались этим во время весенних и зимних уборок.
Насмешек не последовало, наверное, потому, что прекрасная фрейлейн Сара начала мне помогать. И еще потому, что она, к моему удивлению, заставила Нильса и Олава тоже заняться стиркой. Надо сказать, что они почти не противились, – грязь в доме надоела и им.
Стоило нам начать, и работа пошла как по маслу. Фрейлейн Сара поддерживала нас своей энергией, ее смех заражал нас и улучшал настроение, так что даже Олав оттаял и осмелился рассказать историю о служанке и солдате, которые устроились в сене. История оказалась такой скабрезной, что у Герберта покраснела даже макушка, я подавился смехом, и фрейлейн Саре, которая потребовала, чтоб ей все перевели, пришлось стучать меня по спине. Я перевел, правда, не без колебания, но боялся я напрасно, потому что от смеха она чуть не угодила в бадью с водой. Я схватил ее за плечо и помог ей сесть на стул. Прикасаться к ней было приятно, к плечу, конечно.
Ни нунция, ни юнкера Стига мы не видели, пока не накрыли стол в саду. Тогда они вдруг появились из своих углов, милостиво оглядели стоявшие на столе блюда, честно говоря, скорее недовольно, чем милостиво, и сели за стол. Хозяин ездил к арендаторам в Соллистранд, проверить, как там скот. Теперь он стоял, дергал себя за полу кафтана, смотрел на меня и на свободные места, не уверенный, достаточно ли он хорош, чтобы сидеть за столом с такими благородными господами. Я молчал, тоже не понимая, прилично ли это. Олав вышел из конюшни и, не замечая нашей растерянности, подошел к столу, плюхнулся на скамью рядом с юнкером Стигом и без всякого смущения отломил себе кусок хлеба. Благородный юнкер побледнел, вскочил в гневе и устроил работнику такой нагоняй, что тот, как побитая собака, спрятался за спину хозяина. Нунций заслонился рукой от наконец-то выглянувшего солнца, раздраженно встал и приказал мне накрыть стол в тени. Фрейлейн Сара помогла мне накрыть стол в комнате, а юнкер Стиг предпочел общество нунция обществу стоящих вокруг работников.
“Два сапога пара”, – злобно подумал я. Однако посадил их в разных торцах стола, чтобы они не могли ткнуть друг друга ножом. Герберт начал подавать им деревенскую пищу – копченую селедку, хлеб и молочную кашу, которую мы приготовили на всех, а я вышел к остальным.
Солнце окончательно преодолело облака, и бухта внизу засверкала в его лучах. Хозяин спилил деревья, которые росли на горке северо-западнее усадьбы, и теперь открывался вид на внутреннюю бухту до самого мыса, который мы называли Лисий Хвост. За этим мысом находился остров Лёвёйен, и я подумал, что нунцию следует посетить источник Олава Святого до того, как мы двинемся дальше в Тёнсберг.
По дороге домой хозяин, очевидно, допил последний бренневин, настроение у него улучшилось, и он даже начал рассказывать обо всем важном и неважном, что случилось у них после того, как четыре года назад я уехал из усадьбы.
Фрейлейн Сара слушала, смеялась и время от времени просила меня перевести ей историю, над которой, по ее мнению, смеялись особенно громко или, напротив, хмурились. Меня удивило, что она предпочла сесть за стол не со своим женихом, но, наверное, она была не настолько благородна, чтобы не позволить себе сидеть рядом с челядью.
Хозяин сказал, что Сигварт из Брома занемог и уже давно не выходит из дома. Я спросил, что с ним, но об этом хозяин ничего не знал. Его беспокоило только то, что Сигварт не может исполнять свои обязанности на солеварне, которой ведал все последние годы.
У меня в груди шевельнулось неприятное чувство, и мне сразу расхотелось есть. Сигварт не должен был болеть, он должен был бегать на своих кривых ногах, заговаривать людям зубы, быть добрым и подозрительным ко всему и ко всем, видеть повсюду призраков и святых, словом, быть Сигвартом… вечным Сигвартом.
Я взглянул в сторону усадьбы Бром, крыша которой стала видна теперь, когда деревья облетели. Вечером надо к нему забежать, решил я, и пусть нунций говорит что хочет.
Найти спальные места для епископа и камер-юнкера, которые не терпели даже вида друг друга и к тому же не хотели делить спальню с кем-то еще, даже с собственным слугой, да еще найти спальню для фрёкен из богатого сословия, которая помолвлена с этим камер-юнкером – хотя об этом никто не говорит – и к тому же путешествует одна, без компаньонки, – да, это было все равно, что пройти по воде: нужно было либо обладать несокрушимой верой, либо ждать, пока воду не скует лед, то есть дождаться наступления морозного осеннего вечера.
После неоднократных попыток и предложений я предпочел последний вариант и по собственному желанию отправился доить коров. Сидя на скамейке, прислонившись лбом к теплому коровьему боку, я ощущал, что к моим пальцам вернулась былая ловкость, слушал, как ритмично, словно танцуя, падают в подойник струи молока, и думал о том, что мои глаза плохо подчиняются моей воле. Сколько раз в течение дня я им приказывал не смотреть на эту чужую невесту, во всяком случае, на ее юбки, скрывающие широкие, безупречные бедра, на грудь, виднеющуюся в пристойный, но легко отстающий вырез, на румяные щеки, на улыбку, на белоснежные зубы, волосы, глаза… вообще на нее. Мне все время приходилось напоминать своим глазам, что она помолвлена, почти замужем и к тому же богата…
Да, богата. Хотя меня удивляло, что фрейлейн Сара путешествует одна, без компаньонки. У юнкера Стига все-таки был слуга, а даме, наверное, больше, чем мужчине, нужна помощница, которая помогала бы ей с туалетами, прической и еще бог знает с чем. Приличия есть приличия!..
Конечно, можно предположить, что они оба собирались пользоваться услугами Герберта, ведь они знали друг друга задолго до того, как я встретился с ними. И не случайно оказались на одном и том же судне. Таких случайностей не бывает. Ни один уважающий себя дворянин не обручится с молодой бюргершей всего после нескольких дней знакомства. Это просто невозможно. Мне такие случаи были неизвестны.
Я выдоил корову до последней капли, встал со скамейки, кивнул Нильсу, который сгребал навоз на тачку, и вышел с подойником из хлева. Пересекая двор, я заметил фигуру, мелькнувшую и скрывшуюся в каретном сарае. Сгорая от любопытства, я изменил курс и подкрался к воротам сарая, чтобы заглянуть внутрь. Там, внутри, за телегой, кто-то нагнулся, и я, чтобы разглядеть, что там происходит, был вынужден войти внутрь. Я прокрался за телегу, выглянул оттуда и увидел, что фрейлейн Сара сидит перед большим сундуком с бутылкой в руке. Она быстро открыла крышку, сунула бутылку в сундук и снова закрыла его. Встав, она огляделась по сторонам, и я со своим подойником заполз в самый темный угол сарая и затаился, как мышь, пока она возилась возле сундука, после чего быстро вышла из сарая и перебежала через двор.
В открытые ворота мне было видно, как она вошла в дом и закрыла за собой дверь. Я мгновенно оказался там, где стоял сундук, – его поставили туда, потому что он был слишком велик для той комнаты, которую я мысленно предназначил для фрейлейн Сары. Я хотел открыть сундук, но обнаружил, что он заперт на висячий замок. Осмотрев сундук более внимательно, я увидел, что его содержимое охраняет не один, а сразу три висячих замка. Я огляделся в поисках, чем бы открыть эти замки, но крик на дворе отвлек меня от этих мыслей. Это Олав кричал Нильсу, чтобы тот приготовил телегу. Забыв о сундуке, я достал из угла подойник.
Олав с недоумением посмотрел на меня, когда я вышел из каретного сарая с полным подойником в руках, однако промолчал. Я тоже ничего не сказал.
Слуга камер-юнкера, Герберт, оказался мишенью для выражения недовольства хозяина прошлой трапезой. Поэтому теперь он вместе с фрейлейн Сарой принялся готовить обед “по датскому способу”, безусловно, надеясь на этот раз угодить его благородному вкусу.
– Где здесь сахар? – спросил он, когда я собирался выйти из дома. “Надо же, он, оказывается, способен произносить сразу несколько слов подряд”, – подумал я. Поющее датское произношение указывало на то, что он, вероятно, уроженец Фюна.
– Сахар? – переспросил я и обвел кухню пустым взглядом, не поняв сразу, что ему от меня нужно. – Ах, сахар! Нет, здесь ты его не найдешь. Хозяйка не тратила деньги на такие пустяки.
Герберт вздохнул и посмотрел на закипавший соус. Я слышал, как фрейлейн Сара предложила ему заменить сахар медом, который стоял наверху в шкафу; мед даст достаточно сладости, считала она.
Я попросил у хозяина его нож и расположился на камне, чтобы стесать грани на ручке моего нового ножа. На стене дома сидела сорока и выдергивала из нее мох. Я бросил камень, чтобы прогнать ее, и она с криком полетела над кустами к Брому. На западе из-под тяжелых туч вырвались последние огненно-красные лучи вечернего солнца и осветили верхушки деревьев так, что они запылали. Лоскут кожи из дома Юстесена я обмотал вокруг лезвия, чтобы не порезаться. Может, и Халвор Юстесен пользовался им для этой цели, подумал я. Может, он сидел у себя в алькове и занимался тем же, чем сейчас занимаюсь я.
Может, он и сейчас бы этим занимался, если бы его не убили.
Отравили ядом. Из бутылки.
А что, интересно, было в бутылке, которую фрейлейн Сара спрятала в сундуке?
Последний вопрос навязчиво вертелся у меня в голове, но я не мог найти приемлемого ответа. Тем временем стружка за стружкой падали из-под лезвия ножа на землю и белыми завитками ложились вокруг камня, на котором я сидел. Работа заняла у меня много времени. Ручка была сделана из твердого дерева, и мне удалось сострогать совсем немного.
– Чем это господин Хорттен изволит заниматься? – раздался голос у меня за спиной. Через двор шел юнкер Стиг, на нем были сапоги, более подходящие для этой каменистой местности, чем его нарядные башмаки.