Мария и Вера (сборник) Варламов Алексей
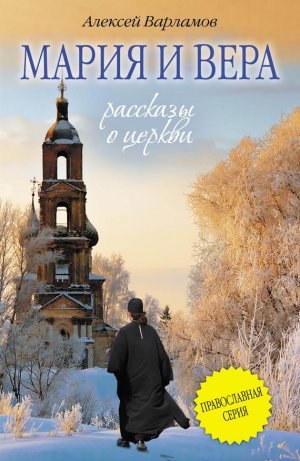
— Знаю.
— Вот и хорошо, что вы церкву починяете, ладно, дак, ладно. Я молодая была, в церкву так и не ходила почти. Неделю всю робили, а по воскресеньям с девками гуляла. Потом как замуж вышла, так церкву и закрыли.
— А венчались вы?
— Обвенчали нас на Покров.
— Успели, значит?
— Успели.
— А как же вы теперь живете, бабушка?
— Как живем? Сын вот у меня, дочка в Онеге, внуки летом приезжат. Хорошо живем.
— А войну вы, бабушка, помните? — спросил я и тотчас же об этом пожалел.
— Войну-то? Да как же ее забыть, проклятущую? — заплакала она и стала креститься. — Мужа как убило, брата убило, сама я с малыми детьми осталась. Война-то, в войну-то, господи, брата маво убили, восемнадцать лет ему всего было. А я его больше мужа любила. И тятя с маманей с горя померли. Одна я осталась. Все, все война отняла у меня. Помирать мне, а церквы нет. Церквы нет, вот и не помираю.
— А ты, часом, батюшко, не поп? — спросила она вдруг, неожиданно зорко оглядывая мое заросшее лицо. Я виновато мотнул головой.
— Худо, худо, батюшко, без церквы-то жить.
— Так просить надо, может, и откроют.
— Кого я буду просить-то? Никто меня не послушат. Всю жизнь ничего, кроме работы, не видела, а даже, чтоб умереть по-людски, не заработала.
— А из местных остался здесь еще кто?
— Нет, нет никого. — И она стала перечислять имена соседей: те померли, эти уехали, там дом продали, здесь заколоченный стоит. — Одна я и есть.
— В коллективизацию всех выселили? — спросил я с сочувствием.
Старуха вдруг приподнялась, так же зорко на меня поглядела и скороговоркой пробормотала:
— Мой родитель в колхоз первым записался. Мы все отдали, коня отдали, корову отдали. То кулаков ссылали, а мы дак середняки, никого не сплутировали. Сами все делали, все отдали. А ты, батюшко, ступай, ступай, устала дак я.
— Ну, дай вам Бог здоровья, — сказал я, неловко кланяясь, — вам, может, помочь чем надо?
— Иди, иди, сама справлюсь. Здоровья дак, смерти мне б Бог дал поскорее.
Она встала, проводила меня до двери и долго смотрела вслед, пока я шел между домами. А день был ветреный, ветер шерстил воду в речке, с лаем мне бежала навстречу собака из соседнего дома, мимо катил пацан на большом велосипеде, изогнувшись под рамой, виляя колесом, и, насупившись, смотрел на меня.
С колокольни было видно Белое море. Оно начиналось километрах в пяти от деревни за лесом. Береговая линия уходила вдаль, туда, где стояла на высоком мысу деревня с лихим названием Ворзогоры. С Ворзогор просматривалась вся губа и подходы к Онеге, и верно поэтому эти места в смутные времена семнадцатого года облюбовали поляки, спасавшиеся от народного ополчения. Они поселились на самом мысу и долгое время грабили суда поморов, за что и прозвали деревню «Вот за горами». В хорошую погоду, если внимательно приглядеться, можно было увидеть тонкий силуэт колокольни в Ворзогорах, и все время, что мы работали в Малошуйке, мы мечтали туда добраться. Но в Ворзогоры был только один путь — по воде, и сколько мы ни просили, никто из местных жителей, у кого были моторные лодки, везти нас не соглашался. Никаких денег они брать не хотели, а требовали водки, которой у нас не было. Мы пробовали идти туда пешком, но дорога за Нименьгой терялась в болотах и лесах.
А море, казалось, было совсем близко, и в одно из воскресений я решил до него дойти. Я спросил дорогу, взял с собой флягу с водой и отправился в лес. Сперва я шел по коровьей тропе, по некошеным лугам, перелескам, переходил ручьи и скоро оказался в тайге. Тропа временами пропадала, точно рассасывалась в траве и кочках, но затем снова появлялась. Я шел быстро, обливаясь потом и обмахиваясь березовой веткой, устав за полчаса так, будто прошел десяток километров. Я давно уже должен был выйти к морю, но лес все не кончался, и тогда я залез на раскидистую березу, возвышавшуюся над окружающими деревьями. Вокруг, сколько было видно глазу, тянулся лес, а сзади за деревьями вырастали серые главы погоста. Впереди же лес обрывался, а за ним, дымчатое, стелющееся, белесое, виднелось то ли небо, то ли море.
Я пошел туда, следя, чтобы солнце светило мне в спину, и вскоре очутился на просеке, совершенно прямой и столь же болотистой. Потом лес начал мельчать и началось болото. Оно тянулось на несколько километров, и, по рассказу зная, что между морем и лесом есть полоса болота, я был уверен, что вышел именно к такой полосе и за ней будет море. Ноги в сапогах проваливались по колено, их приходилось с усилием вытаскивать. Так я шел больше часа, но когда поднимал глаза и смотрел вперед, то казалось, стоял на месте, как весельная лодка, выгребающая против течения. День был жаркий, безветренный, почти над самой головой, маленькое, колючее, висело солнце и зудели комары. Воды во фляге оставалось на несколько глотков, иногда я срывал сухие, сладкие ягоды клюквы, которой было усеяно все пространство, но дольше десяти секунд оставаться на одном месте не позволял гнус. Слева от просеки росла кряжистая, невысокая сосна, и я залез на нее. Каково же было мое разочарование, когда вместо моря впереди я увидел мох, кочки и волнистый лес на горизонте.
Я сидел на сосне, курил, обхватив рукою ствол, и ничего не ощущал. Потом слез и так же машинально, выдергивая ноги из жижи, пошел вперед к лесу, уже не понимая, зачем я туда иду. Очнулся я в лесу у чистого ручья, лег на траву, опустил лицо в воду и лежал так, сколько было сил не дышать. Ни комары, ни гнус меня больше не раздражали. Потом наполнил флягу водой и пошел обратно, и, когда шел весь этот долгий путь по болоту, а потом по лесу и в одном месте сбился, забрел в бурелом и только чудом выпутался, продрался наугад к тропе, мне казалось, что я нахожусь дома и только вспоминаю эту дорогу и смотрю на себя со стороны, как будто рассказываю близкому человеку, как это было, и с этим чувством я вышел к раскидистой березе, залез наверх, где было меньше комаров, и долго смотрел оттуда на главы погоста.
Когда я пришел домой, все спали, только что отобедав, и на печи стояла кастрюля с супом. Я поел его, не разогревая, и завалился спать. Потом мне рассказали, что год назад двое наших мужиков точно так же ушли к морю, проплутали восемь часов, все прокляли и вернулись ни с чем.
Всю следующую неделю мы снова ездили на станцию и пытались достать материал, но не было платформы, потом не было трактора, выяснилось, что у нас неправильно оформлена накладная, и приходилось просить, выбивать, убеждать серьезных, измотанных людей, что мы тоже делаем нужное дело и нам необходим лес. И если бы не наш бригадир Андрей Барабанов, архитектор по образованию, один из немногих людей в архангельских реставрационных мастерских, кто действительно работал, а не числился, то ничего бы у нас не вышло. А пока он ходил по начальству, мы часами сидели и ждали, и уже казалось, что мы работаем не на погосте, а на этой грязной, грохочущей, составленной из десятков железнодорожных путей станции, по которой проходило за сутки несть числа грузовых и всего три пассажирских поезда, две местные «тещи» и один дальнего следования Вологда — Мурманск.
Дорогу, соединяющую Обозерск с Беломорском, строили незадолго перед войной заключенные. Люди умирали тысячами, вначале их кое-как хоронили в братских могилах, а потом просто сбрасывали в болота. И казалось, проклятье лежит на этом месте до сих пор — пыльный, нелепо застроенный, с уродливыми домами и бараками временный поселок, железнодорожные пути, забитые поездами, как в войну, женщины в оранжевых куртках, кувалдами забивавшие костыли, а слева от них на какой-то будке висел кумачовый лозунг «Только труд делает человека счастливым и свободным».
Несколько раз нам случалось пережидать вместе с ними в этой будке дождь, они устало матерились, ругались друг с другом, пили кипяток, а потом снова уходили ремонтировать пути. Все они мечтали уехать из Малошуйки, но с годами втягивались, проклинали Север, болота, нехватку продуктов и так жили, боясь вечерами выйти на улицу, где носилась шпана на мотоциклах и пугливо жалась милиция. За этот месяц, что мы прожили в деревне, на станции случилось два убийства, и говорили об этом как о чем-то будничном. И тогда мне стало казаться, что то, что мы делаем, и впрямь бессмысленно, никому не нужна эта церковь, отреставрированная или нет, которую все равно не откроют, а если бы даже и открыли, то пойдут ли туда изуверившиеся во всем люди.
Но потом мы возвращались в деревню, и за несколько километров впереди, на фоне уходящей к морю тайги, появлялись высокие стройные главы, шатер и шпиль колокольни, и тяжкие мысли уходили прочь.
В деревенском общежитии кроме нас жила еще бригада шабашников-молдаван и двое мужиков-сторожей. У молдаван был магнитофон, и по ночам они крутили одну и ту же кассету. Под эту музыку у крыльца топтались парни и девки, разгуливали, обнюхивали людей собаки. С молдаванами мы никак не знались, а у соседа иногда смотрели телевизор, хотя пускал он нас неохотно.
Лучше у меня были отношения с другим сторожем. Это был на вид угрюмый, молчаливый мужик, работавший раньше в лесу, где люди помногу зарабатывали, но долго не выдерживали, заболевали и уходили в конце концов на более легкую работу. За всю свою жизнь он не скопил никаких денег, и, кроме этой комнатки в общежитии с печкой, кроватью, тумбочкой и столом, у него ничего не было. Целыми днями он лежал на кровати, курил и изредка выходил на крыльцо. Просил он всех об одном — достать водки. Говорили, что он уже не жилец, в больницу его не брали, но сам он был редкостно равнодушен к своей судьбе и бывал только рад, если к нему кто-нибудь заходил. Иногда вечерами мы с ним покуривали, и своей покорностью он напоминал мне старуху Евстолию. В нем чувствовалась еще не изжитая крестьянская рассудочность, порой он равнодушно поругивал власти и говорил:
— Загубили нас, с-сволочи. А значит, так и надо нам было. Ты молоко-то пей, мне бабы на ферме хорошее дают. Жена от меня ушла. Дети? А на кой хрен мне дети, для такой же б…ской жизни? Батя мой под Мурман за рыбой ходил, а теперь в Унежме нашей ни шиша не осталось. Раньше хоть водка была. А вы совсем, что ль, не пьете?
— Совсем.
Он кивал головой и надолго замолкал.
— Может, Серега на недельке съездит в Ворзогоры. Там вино-то быват.
— Но ведь вас же просто всех спаивают, — пытался сказать что-то я, хоть понимал, что говорю не то и говорю зря.
— Суки, — соглашался он.
Вино в деревне действительно почему-то не продавали, и за ним ездили на моторных лодках в ту самую основанную ляхами деревню на мысу. Когда в Малошуйке проносился невесть откуда доносившийся слух, что в Ворзогоры завезли вино, десятки моторных лодок выходили в море в прилив по полной воде и через двенадцать часов по полной же воде возвращались. В конце июня случилось несчастье.
Серега, второй наш сосед, молодой парень, промышлявший рыбой и вином, вместе с еще одним мужиком вышли в море, купили в Ворзогорах вина и стали возвращаться, торопясь к приливу, пока речка проходима. Море было спокойно, и как это могло случиться, никто не понял, но вернулся в деревню Серега один. Они проплыли по морю двадцать километров, и только когда вошли в устье, пьяный моторист заметил, что он в лодке один, а товарищ выпал где-то по дороге.
В деревне был траур, у погибшего осталась жена и малые дети, старухи шепотом говорили, что чего только раньше не бывало, но уж пьяными в море никогда не выходили, а Серега сидел на крыльце, бессмысленно водил головой из стороны в сторону и то ласкал, то пинал собаку. Потом ему на глаза попался кто-то из наших, и он стал кричать:
— Сволочи, монахи! Они жить будут, здоровые, себя беречь. А мы тут подохнем! Когда вы наконец уедете? Что вам тут надо?
Его пытались утихомирить, но он бился головой, и в глазах у него стыл ужас.
Нам оставалось работать всего несколько дней. Отпуск у всех кончался, и пора было возвращаться домой. В последний день мы устанавливали на главке крест. Крест тесал из здоровенного бревна Андрей. Потом крест просмолили, дали ему высохнуть и, обвязав веревками, подняли на крышу. Самое сложное было в том, чтобы, поднявшись по лесам на главку, завести нижний конец креста в раствор. Дул жуткий ветер с моря, и в какой-то момент крест у нас в руках повело, но мы все же сумели его удержать. Внизу у церкви стояла старуха, она кланялась, крестилась и что-то бормотала. Сперва мне показалось, что это пришла Евстолия, но это была другая женщина. Она не уходила все время, что мы заводили крест в раствор, выравнивали его и крепили. Рядом с ней, не слезая с велосипеда, стоял пацан и, задрав голову, тоже смотрел на нас. Когда крест был наконец установлен, мы выцарапали на одной из граней: «Год 1000-летия Крещения Руси».
Той же ночью мы уезжали. Было далеко за полночь. В Малошуйке все спали, только где-то на нижнем конце звучала молдаванская кассета и туда же проехал несколько раз мотоцикл.
Через неделю приехала новая смена. Они работали до сентября, и в ноябре оставшийся с двумя помощниками Андрей прислал нам фотографии. Все пять глав были обновлены, увенчаны крестами, и на солнце сверкали новые лемеха. Снятая издалека, с Кушерецкой дороги, церковь смотрелась радостно и празднично, как сто лет назад.
Но больше всего в моей памяти сохранилась одна картина. Мучаясь бессонницей, я выхожу с колокольни к реке и смотрю на притихшее северное село. На том берегу пасутся кони, воздух покоен и чист, и кажется, на колокольне вот-вот зазвонит колокол, село проснется и из домов выйдут люди.
Сочельник
По темной, еще не дождавшейся рассвета московской улице, по мокрому снегу вперемешку с водой, занимая полтротуара, опираясь на палку и тяжело дыша, двигался, как оползень, громадный старик в древнем кожаном пальто на меху и изъеденной молью песцовой шапке. Его пытались обойти торопливые утренние прохожие, вполголоса чертыхались и подталкивали, но глыбистое тело прочно загородило дорогу, и настороженно глядели перед собой глубоко посаженные глаза. Старик спешил, сильное волнение гнало его вперед, заставляя месить неподатливый снег, он прошел больше двух кварталов, ни разу не останавливаясь и не переводя дух, и наконец свернул к длинной очереди у газетного киоска. Было по-прежнему темно, но со стороны не замерзавшей третью зиму подряд реки забрезжило, стал таять фиолетовый снег фонарей, и, купив газеты, старик присел на лавочке в небольшом сквере напротив продуктового магазина. Теперь он чувствовал себя совсем иначе, чем час назад, с жадностью смотрел по сторонам, отчетливо, как в молодости, слышал звуки и запахи улицы, его обострившееся сознание отмечало все до мелочей, он заглядывался на хорошеньких женщин и ловил себя на почти забытом ощущении, как было бы ему приятно, если бы кто-нибудь из них обратил на него внимание и сел рядом. Старик хорошо представлял, о чем станет говорить, как внимательно они будут его слушать, распахнув доверчивые глаза и позабыв о никчемных своих делах, но женщины стремительно проходили мимо и только неожиданно остановился возле скамейки чернявый суетливый мужичонка в яркой лимонной куртке. Он мельком, но очень цепко взглянул на старика, на его крупные руки, сжимающие газету, и вдруг стал уговаривать его сняться в массовке революционного фильма. Старик ответил чернявому подозрительным взглядом, тот еще больше засуетился и пообещал заплатить за съемки двадцать пять рублей против обычных пяти, но старик царственно отказался, и мужичонка, сокрушенно цокая языком, понесся вперед, а старик, глядя ему вслед, внезапно пожалел об отказе, и долго еще нелепый этот человек не шел у него из головы, слегка нарушив то благоговейное состояние, в котором пребывал всегда старик в этот день — в день проверки облигаций трехпроцентного займа. А было этих дней всего восемь в году, и каждые полтора месяца выходил он из дому, чтобы совершить этот путь и купить газеты с таблицей выигрышей.
Сколько было у старика облигаций, никто не знал. Они хранились в самых невероятных местах громадной захламленной квартиры, в старинных железных коробках из-под сахара и монпансье, тщательно рассортированные по сериям; заботливо подобранные и перевязанные тесемками, облигации ждали своего часа и лежали теперь перед своим владельцем. Однако приступить к сверке старик не спешил — так опытный рыболов не станет тут же закидывать удочку, а прежде походит по бережку, покурит, поглядит на воду и только потом примется нарочито неторопливо распаковывать снасти. Старик долго раскладывал облигации на манер карточного пасьянса, дотрагивался до них, подносил поближе к очкам и все время искоса поглядывал на мелко набранные столбики цифр в газете с указанными напротив денежными суммами. Наконец он вздохнул, перекрестился, взял мощную швейцарскую лупу и под ярким светом настольной лампы, шевеля губами, повторяя и обсасывая, как вишневую косточку, каждую цифру, начал сверять. На это у него ушло много часов, одной газете он не доверял, перепроверял по другой и, наконец, самую последнюю решающую сверку сделал, как обычно, по «Сельской жизни», но цифры опять не совпали, не принеся даже жалкого выигрыша в стоимость облигации.
Старик не отчаивался, он был терпелив и верно рассчитал, что с каждой новой неудачей все меньше облигаций останется в тираже и его шансы на успех возрастают, а в том, что рано или поздно это произойдет и выиграет он по-крупному, он не сомневался нимало. Кроме этих облигаций и способа добыть деньги, чтобы обратить их в новые облигации, ничто его не интересовало — он жил одиноко, и вся его жизнь проходила в каком-то странном полусне-полубодрствовании, хотя когда-то она была совсем иной, но было это так давно и так непохоже на его нынешнее состояние, что казалось ему, будто все то случилось с другим человеком.
Быстро истек бесснежный и оттого хмурый денек начала января, и давно было пора убирать облигации, но старик снова и снова брал увесистые пачки, с волнением вглядывался в цифры, опять учащался пульс в его мягких полных руках, и он тяжело дышал, точь-в-точь как ранним утром на слякотном тротуаре, — однако все было тщетно: те цифры, что были у него на руках, даже не приближались к тем, что значились в газете, но старик как будто на что-то надеялся, и за этим занятием не сразу услышал поздний звонок в дверь. Он вздрогнул и стал судорожно распихивать облигации по коробкам, прятать их в смятую кровать и платяной шкаф, а пронзительный, неурочный звонок все звенел, и, отвечая ему, задребезжали в буфете стаканы и чашки из дешевого фарфора.
— …умерла вчера.
Женщина лет пятидесяти с усталым бледным лицом, с двумя большими сумками в руках что-то говорила, но сознание его было еще так от всего далеко, что никакие слова до старика не доходили.
— …все тебя вспоминала… Боялась, когда ее не станет, я тебя брошу…
Женщина прошла в глубь квартиры, стала разогревать еду, и только теперь старик ощутил сладкий, как обморок, голод и вспомнил, что со вчерашнего дня он ничего не ел.
— А еще сказала, что очень тебе благодарна.
Она снова появилась перед ним и посмотрела так, словно ждала каких-то расспросов, но он молчал, потому что ничего удивительного в этом признании не было, и тогда усталая заплаканная женщина произнесла:
— Благодарна за то, что сделал ее матерью. А больше ты не сделал ей ничего хорошего.
Старик вспомнил язвительный голос бывшей жены, злую кличку Барчук, почтамт в Твери, где они познакомились на десятую годовщину революции, и обронил:
— Она совсем не умела жить.
— Ты… ты испортил ей жизнь, ты всегда только о себе и думал, тебе было плевать на всех нас. — И он болезненно морщился, слыша все подряд — эгоист, скряга, ничего хорошего после тебя не останется, а мама, она всех любила и ее все любили, — ему было очень не по себе и неприятно особенно оттого, что до боли мучил разыгравшийся голод, но приходилось ждать, пока дочь успокоится, а та все говорила и говорила высоким, пронзительным голосом, уже себя не помня. Наконец вся в слезах она ушла, и расхотевший от потрясения ужинать старик решил, что не мешает еще раз проверить тираж, как вдруг в дверь опять позвонили. Он подумал, что это вернулась дочь попросить у него прощения за бессмысленную и несправедливую вспышку, и поэтому против обыкновения не стал спрашивать, кто там, и смотреть в глазок, сдвинул щеколду и увидал перед собой здоровенного детину с облезлой елкой в руках.
Детина проворно вставил ногу на порог, чтоб старик не смог захлопнуть дверь, и задышал перегаром:
— Папаша, купи елку.
Всю жизнь панически боявшийся грабителей и воров, старик потерял от ужаса дар речи, а детина, ласково глядя ему в глаза, убедительно промычал:
— Купи, родной, гля красавица какая.
— Сколько? — выдохнул старик.
— Обижаешь, — ухмыльнулся детина, — чирик.
Негнущимися пальцами старик вытащил из внутреннего кармана красную бумажку и остался в коридоре один с осыпающейся, измятой елкой, покрытой остатками серпантина и дождя, видно подобранной где-то на помойке после утренника в детском саду. Он долго и тупо смотрел на голые ветки, и нелепый этот детина, и елка, и яростная дочь, и чернявый ассистент режиссера с его предложением сыграть трагедию российского интеллигента, все это встряхнуло его, и никуда старик не пошел, а так и остался сидеть в коридоре на табуретке, трогая время от времени сухие иголки и бессмысленно глядя в пыльный темный угол.
Если бы много лет назад кто-нибудь сказал старику, что он будет доживать свой век в одиночестве в этой запустелой квартире, дрожа и боясь использовать лишний рубль, питаясь макаронами и фасолью, не знаясь с многочисленными внуками и правнуками и подозревая собственных детей в том, что они хотят выманить его сбережения и ждут не дождутся, когда же он наконец отдаст Богу душу, верно, странным бы ему все это показалось — одиночества он никогда не переносил, денег не считал и тратил их легко и беззаботно на что придется. Он был в ту пору женат, к сорока годам родил троих детей, преподавал в вузе историю и жил счастливо и безмятежно среди любящих его людей, не зная ни уныния, ни страха, а из многочисленных людских слабостей был особенно подвержен сластолюбию, что, впрочем-то, не особенно и огорчало его некрасивую жену. Незадолго перед войной, после нескольких бурных, но недолгих увлечений, старик влюбился в молоденькую хрупкую музыкантшу с прелестными пепельными волосами и удивительно нежными тонкими пальцами, так чудно умевшими ласкать. Он был тогда и сам хорош собой: прекрасно сложенный, с могучей, едва начавшей седеть шевелюрой, благородным высоким лбом, и мало кто мог подумать, что у этого сильного мужчины был порок сердца, отчего полтора года спустя его не призвали в армию. Влюбившись, старик развелся с женой и ушел жить к музыкантше, но семью не бросил. Он приходил по воскресеньям с молодой красавицей в дом, играл с детьми, делал им превосходных бумажных голубей, рисуя на крыльях красные звезды и чеканное имя вождя, и радовался не меньше, чем они, пуская самолеты с балкона во двор; потом пил чай из драгоценной фамильной чашки, а музыкантша, глядя на высокую худощавую женщину, подававшую за столом, благоговейно складывала на груди руки и шептала:
— Святая, святая!
Дети старика были еще в том возрасте, когда не вполне понимали, что к чему, и относились к отцу и его спутнице с любовью, нетерпеливо ждали их приходов, музыкантша учила их играть на фортепиано и особенно хвалила старшего. Вечером, когда детей укладывали спать, она сама играла при свечах любимый стариком вальс из «Щелкунчика» или «Лунную сонату», в небольшой чистенькой комнате было уютно, мирно и не слышно жуткой ночной тиши; старик купался во всеобщем обожании, шутил и целовал руки и плечи молодой жены и вспоминал свое детство, усадьбу под Звенигородом, сосновую аллею и отца — известного юриста, защищавшего до революции социал-демократов, благодаря чему старику впоследствии разрешили учиться в университете. Когда он слишком расходился в этих воспоминаниях и серые глаза музыкантши расширялись от ужаса, первая жена обрывала его:
— Замолчи и не вздумай этого нигде болтать.
Она всегда говорила с ним резко, но за этой резкостью он чувствовал такую мучительную любовь и заботу, что, если бы эта женщина ушла из его жизни, он ощутил бы себя сиротой. Однако слушать ее предостережения было смешно — всеобщее страдание ни разу его не коснулось, он пускал с балкона краснозвездных голубей, ни о чем не печалился и первые неудобства ощутил только с внезапным началом войны.
Уверенность, что война эта вот-вот кончится, не покидала старика до осени. В городе уже шла эвакуация, давали по карточкам крупы и хлеб, в небе зависли дирижабли, крыши и стены домов закрывали безобразные, аляповато разрисованные полотнища, и уходили на фронт неумелые добровольцы — ничто его не пугало, и он отмахивался от всех слухов, но в одну ночь, казалось бы тихую и покойную, когда ни один самолет с бомбами не прорвался в Москву, старик внезапно проснулся от ужаса. Он разбудил музыкантшу и не велел ей спать до утра, но ужас не проходил, ужас метался маленьким зверьком по комнате с опущенными шторами и крест-накрест заклеенными окнами, и вслед за этим зверьком заметался и сам старик, бросился с утра к первой жене, но, не привыкший решать ничего серьезного, он не знал, как быть дальше и что теперь делать. В конце концов за него рассудили обе женщины, кротко договорившиеся между собой, что старик уедет с семьей в эвакуацию, а музыкантша останется в Москве караулить их квартиру.
Так все и вышло, но с того дня, как забитый до отказа товарняк медленно потащил их за Урал, пошла наперекосяк вся его прежняя жизнь. Чужая изба при сельской школе, дурная пища, холод, тараканы, скука, и даже на улицу выйти было неприятно: деревенские женщины смотрели с осуждением на его вальяжную фигуру в старорежимном пальто с бобровым воротником, не стесняясь громко злословили за его спиной, и с детства привыкший к кланяющимся мужикам и бабам в усадьбе, он чувствовал себя крайне неловко — но не объяснять же было всем подряд, что его комиссовали на законном основании, и большую часть времени старик сидел в избе возле печи и вспоминал.
Он вспоминал Рождество, громадную елку в жарко натопленной сверкающей зале, вальс из «Щелкунчика», женские платья и туфельки и стыдливую, подарившую ему первые ласки любви гувернантку — белокурую немку с таинственным именем Лотта. Эта Лотта сильно нуждалась и не могла отказаться от той солидной доплаты, которую положил ей за определенные услуги заботившийся о гармоничном развитии сына адвокат. Но старик таких подробностей не знал, приходившая к нему по ночам Лотта осталась в памяти трогательно чистой и нежной, и теперь он шептал ее имя, забывая на время о стуже и пронзительных злых глазах.
В это самое время сыновья промышляли на улице и искали, где бы стянуть дров. Жена не находила себе места, тревожно расхаживала по горнице, то и дело выходя на крыльцо и выпуская драгоценное скудное тепло. Старик прижимался к печке и в ответ на упреки в бессердечности рассудительно замечал, что мальчиков вряд ли поймают, а если и поймают, то отпустят скорее, чем его. И все выходило так, как он говорил: наловчившиеся мальчишки приносили в дом дрова, разбирали чужие заборы и ограды для скотины, жадно и некрасиво ели суп из картофельной шелухи, сморкались, толкались и дразнили любимицу старика, четырехлетнюю дочку, не понимавшую, что идет война и жизнь может быть другой. На отца они даже не глядели — за эти несколько месяцев из самого обожаемого и великого человека он превратился для них в ничто, и старик с горечью понял, что им стыдно за него перед другими мальчишками, у которых отцы ушли на фронт.
А война и не думала кончаться, все больше похоронок приходило в уральскую деревню, все яростнее и жутче были глаза у высохших деревенских женщин, сыновья воровали теперь не только дрова, но и все, что плохо лежало. Приходил председатель колхоза, контуженный артиллерист с пустым рукавом, грозился их выследить и на месте прибить, жена рыдала, и совсем больше не звучал в памяти старика чудный вальс. Как же не похожа была эта война с белокурыми немцами на ту, что он помнил юношей, и если тогда ему хотелось пусть уж не прямо на фронт, но хоть какую-то лепту внести в защиту Отечества от нашествия иноплеменников, и в благородном порыве было отказано от дома Лотте, то теперь стало все равно, и лишь одно желание им владело: скорей бы все это кончилось, так или иначе, те победят или другие, но он вернется к прежней жизни. Зачем доверился он неразумным женщинам и дал себя увезти? И старик стал искать путей в обход всех действовавших правил выбраться из этого проклятого места, но ему всюду отказывали, никто слышать не хотел, что его законная молодая жена осталась в далеком городе, на него смотрели с подозрением: какая тут может быть Москва, когда враг у Волги и Верховный издал приказ «ни шагу назад». Только летом сорок четвертого с началом знаменитых сталинских ударов по отступающему врагу удалось договориться, что им разрешат уехать на грузовой платформе, сопровождая трактор.
На этой платформе ехали почти месяц, плохо закрепленная машина однажды, когда состав резко дернулся, тронулась с места и придавила гусеницей руку старшего сына. Это была ужасная минута; ни освободить руку, ни столкнуть трактор не удавалось, шестнадцатилетний мальчик не плакал, потому что потерял сознание, металась обезумевшая мать, что-то кричали на станции осаждавшие поезд люди, а старик застыл как зачарованный. Наконец состав снова дернулся, трактор откатился, и парня вытащили.
Впрочем, теперь, много лет спустя, ни этой платформы, ни уральской деревни, ни голода старик не помнил, воспоминания умерли в нем, оставив в душе лишь глухую тоску и пустоту, — да и куда он рвался, на что надеялся, смешной человек?
Подурневшая, постаревшая лет на десять музыкантша, зарабатывавшая на жизнь перепиской нот для генеральских жен, не смогла отстоять квартиру, куда вселилась грозившая доносами еврейская семья, и им пришлось жить вшестером в маленькой комнате: он, две женщины и трое детей. Сыновья стыдились теперь музыкантши, дерзили ей, и самое страшное, привыкшие воровать там, продолжали заниматься этим и здесь, пропадали в расплодившихся после войны блатных компаниях, и до утра не смыкали глаз еще больше сблизившиеся женщины. Жили впроголодь, не в чем было отправить в школу дочку, да и к тому же каждый месяц заставляли записываться на заем, восстановление, долг перед Родиной, как все это обрыдло, и старик, никогда не отягощавший душу поздними раскаяниями, вдруг с обидой подумал, что не надо ему было в пятнадцатом году возвращаться кружным путем из Швейцарии в Россию, надо было остаться в вечно нейтральной стране с верной и нежной, нестареющей Лоттой, никогда не допустившей бы, чтоб ее воспитанника ждала такая учесть.
Между тем старшего сына пришлось отдать в военное училище, средний пошел на завод учеником токаря, и старик оставался на долгие дни с одними женщинами. Угрюмый, молчаливый, он наводил на них ужас, словно неведомый зверь, странным образом поселившийся среди людей. Музыкантша мучилась и испуганно говорила, что он наложит на себя руки, не знала, как ему помочь, и вот тогда-то, в это унылое время, когда стало окончательно ясно, что враг разбит, но победители оказались на пепелище, и случился тот неправдоподобный, фантастический выигрыш по одной из облигаций. Выигрыш этот достался именно ей, и пораженная, оглушенная женщина уже хотела о нем громогласно объявить, но в этот миг замечательная мысль пришла ей в голову. Она положила заветную облигацию в пачку к старику и стала ждать, в уме уже решив, как кстати сейчас будут эти деньги и на них можно будет купить швейную машинку, пальто, шубу для девочки, отправить продуктовую посылку в училище, но более всего радуясь за мужа, который вот-вот обнаружит выигрыш и, может быть, этим как-то утешится.
Однако ничего подобного не произошло, муж ничего не говорил, разве что стал еще больше угрюмым и скрытным, и простодушная женщина решила, что скорей всего она что-то второпях напутала, и выкинула эту историю из своей легкомысленной головы с поседевшими волосами, но страшная беда случилась в их доме полгода спустя, в лето тысяча девятьсот сорок седьмого от Рождества Христова, когда грянула с кремлевского небосклона на головы обывателей денежная реформа, унеся их скромные и нескромные сбережения в государственную казну, реформа, о которой сорок с лишним лет спустя, когда сидел старик один в пустынном коридоре, вновь заспорили ученые мужи на предмет того, стало ли от нее народу лучше и не следует ли осуществить нечто подобное теперь.
Мягкая полная рука все сжимала еловые ветки, было уже совсем темно, но зажигать свет не хотелось, а глаза, казалось, все это видели — этот страшный день, страшнее, чем начало войны или революции, стоял перед ним, и снова сотрясалась душа в бессильной ярости против всего сущего.
Странно, как выдержало тогда этот удар его больное сердце, странно, что не попал он в психлечебницу или тюрьму, но только поправившийся на казенных харчах сын, придя в увольнение, не сразу узнал отца с бессмысленно застывшим взглядом и закушенной от боли губой — точно теперь того придавило гусеницей. Когда же старик пришел в себя, то разбушевался, завыл, заметался и хотел подавать в суд, поднимать бунт, идти к вождю, требуя справедливости к сыну покойного революционера, и женщинам стоило большого труда его унять, не выпускать на улицу, чтобы никто не слышал, как кроет старик власть, как жутко ругается, и в эти бессонные злобные ночи он вдруг вспомнил, что говорил когда-то в Петрограде его гимназический друг, человек, как всегда полагал старик, недалекий, да и к тому же монархист, как уговаривал его уйти вместе с ним к Деникину, потому что новая власть — это власть бандитов, и какие бы заслуги ни имел перед ней его либеральный папаша, все равно рано или поздно эта власть их сметет, если сейчас они все не уйдут к Деникину.
Но промозглой питерской ночью старик не внял своему приятелю-монархисту — его же взяли в университет, им оставили квартиру, их не лишили избирательных прав, так зачем же к Деникину, под пули? Боже, Боже, кололись еловые ветки в руке, кололось больное сердце в глубине его рыхлого тела — все верно, ты оказался прав, убитый в Крыму Володя Белозерский, бандиты и мертвецы отняли у него чудную сосновую аллею, воры и насильники разлучили его с Лоттой, хамы и негодяи обрекли его, потомственного дворянина, цвет нации, на нищету и смрад уральской ссылки. Но еще не поздно, пусть остался он один, а остальных сгноили в подвалах на Лубянке, только он сумеет за все отомстить, и он знает, как это сделать.
С этого дня в мутном и воспаленном сознании старика возникла странная, фантастическая идея скупать облигации, выигрывать по ним, чтобы стать наконец богаче, чем эта воровская власть, чтобы задушить ее и расквитаться сполна, и тогда все станет на свои места и каждому воздастся то, что положено, — тогда приползут к нему на коленях злючие деревенские бабы, контуженные танкисты и пехотинцы, приползут все, кому вдруг стало лучше за счет его денег, отмененных карточек и твердых цен, тогда приползут бесчестные вожди-плебеи, и он представил, как усмехнется, не разжимая губ, и станет долго на них глядеть, униженных, пристыженных, но оставит ни с чем.
Через месяц старик развелся с музыкантшей и после нескольких прикидок женился на вдове генерала интендантской службы. Ему потребовалось немало усилий, чтобы склонить ее к новому замужеству, однако в этом, казалось бы, рыхлом, безвольном человеке обнаружилась мертвая хватка, и вскоре была продана и генеральская дача, и автомобиль, и на эти деньги приобретены облигации. Генеральша плакала, ей было жаль не дачи, но чудесного розария, единственного места, где находила покой ее смертельно испуганная душа, а старик был непреклонен и продавал золото, мебель, посуду, картины, книги и многое другое, вывезенное покойным генералом в последний год войны из Германии.
О, теперь он был умен и не позволил бы себя так просто и бессовестно надуть. Ведь если бы тогда, в сорок седьмом, не поспешил бы он получить на руки все деньги сполна и спрятать их дома, боясь к ним притронуться и любуясь втайне от всех, как любовался в детстве именинным пирогом со свечами и вензелями, если бы вместо этого он положил деньги на книжку, да не на одну, а на несколько, то не был бы таким сокрушительным десятый сталинский удар. И теперь старик хранил облигации, распределив их по девяти сберкассам, осуществляя какие-то сделки, что-то продавая и выменивая, в его глазах появился лихорадочный блеск, пугавший жену до дрожи, но старику не было до того и дела. Он приводил в исполнение свой план и испытал некоторое разочарование в пятьдесят третьем, глядя из окна на улице Горького, как шли люди хоронить в давке вождя, и лишь один старик из всей этой массы уже тогда знал, каким кровавым и бесчестным был на поверку отец народов.
Что-то творилось в стране, и иным делалось жутко, а другим, напротив, весело, в город возвращались странные, как тени, люди, молодые ветераны войны надевали медали обратной стороной и уезжали поднимать целину по зову вечно мудрой партии — старик же был занят по-прежнему одним. Все больше облигаций скапливалось в его руках, все больше часов уходило на их проверку, он подстерегал заветный выигрыш, но подлая удача насмешливо ускользала, разминувшись иной раз в одной-единственной цифре, и старик бессильно откидывался на спинку стула, до хруста сжимая в руках лупу, яростно комкая одну газету и снова и снова проверяя тираж по другой.
Он верил в удачу со всею нерастраченной страстью и энергией своей души, ничто не могло его смутить или заставить отступиться, до тех пор пока не поколебал его уверенности новый круглоголовый командир, вначале ударивший по облигациям, а потом объявивший на всю обомлевшую Расею, что через двадцать лет никакие деньги нужны не будут и все станет бесплатным для всех.
Тогда и ощутил старик заново давешнее дыхание ужаса, точно пробежал по квартире опять маленький военный зверек и завыли где-то сирены: а что, если это правда и все его усилия напрасны, ликующая масса ничему не научившихся взрослых детей пройдет мимо, оставив его с бесполезными листками? Он с раздражением читал восторженные статьи в газетах, ненависть вызывала в нем каждая новая стройка, с ненавистью смотрел он на улыбающегося отовсюду майора Гагарина, и когда некоторое время спустя заговорили о новой войне, то подумал он, что лучше бы уж она началась и все бы провалилось в тартарары, чем пришлось бы ему вторично пережить государственный грабеж. Веселые, счастливые люди строили новую жизнь, никто не обращал на него внимания, и собственные дети его совсем не понимали. Улетали в космос новые корабли, но прошло время, и как-то незаметно канул в неизвестность лысый вождь, несколько лет назад разбился при странных обстоятельствах счастливчик майор, и тогда старик в который раз философски подумал, что в сущности любая жизнь — та же облигация, и никому не дано знать, какой выигрыш или проигрыш на нее падет, сие есть великая тайна, хранящаяся в чьих-то незримых и бесстрастных руках, и он, как умел, молился этим рукам, чтобы были они к нему милостивы.
Тем временем супруга его от тоски или дурной пищи все чаще болела, и вскоре у нее нашли рак желудка. В больницу ездили поочередно первые две жены, а старик стал к той поре грузен, у него появилась одышка, и его хватало лишь на небольшие прогулки вокруг дома. Время от времени он звонил в больницу, и однажды ему сказали, что больная скончалась. Однако на следующий день, который старик посвятил тому, что перевез все облигации из сберкасс домой, выяснилось, что дежурная перепутала фамилию и генеральша жива. Эта ошибка произвела на него столь сильное впечатление, что, когда месяц спустя она действительно отдала Богу душу, ему почудилось, что и в этот раз вышло какое-то недоразумение, и он смотрел на скорбные лица родни зачарованно и недоуменно. Потом не стало второй его жены — к концу жизни музыкантша совсем высохла и лежала в гробу невесомая, с бледным, но будто живым лицом какого-то необычного персикового цвета, унося с собой тайну того самого выигрыша, что так сильно изменил жизнь старика, и снова не мог он поверить в то, что больше никогда не услышит ее голоса и не дотронутся до него ее нежные пальцы. Лицо старика не выражало ни горя, ни страдания, и он совсем не понял, почему вдруг нарочито громко и ожесточенно сказала жена старшего сына:
— Чтобы и он так же мучился, мерзавец!
Ничто не изменилось в его жизни, старик жил по-прежнему одиноко и скупо и позволял заботиться о себе лишь дочери. Ей единственной он открывал засовы необъятной квартиры, дочь готовила, стирала, убиралась, и, глядя на эту женщину, так и оставшуюся в его памяти маленькой девочкой, не знавшей, что такое война и не стыдившейся не ушедшего бить фашистов папы, он чувствовал удивительную нежность и одновременно с этим страх при мысли о том, что с единственным существом, связывающим его с жизнью, может стрястись какая-нибудь беда. Он любил ее так сильно, как только умел любить, и иногда даже размышлял, не предложить ли дочери денег, но потом одумывался — на что ей деньги, она принадлежала к тем легкомысленным созданиям, кто не умел жить и тратил деньги на ерунду, не ведая их истинного предназначения.
— Боже мой, — говорила дочь, оглядывая пустые банки фасоли и хлам, — как же ты живешь? Ну почему ты себе во всем отказываешь, папа?
— Ты сама не знаешь, что говоришь, — возражал он сердясь, — в конце концов ты мне спасибо скажешь, когда все достанется тебе.
— Мне не нужны деньги, — говорила она в отчаянии, — я ненавижу их с тех пор, как ты от нас ушел. Ты рассорил меня с братьями, ты говоришь гадости про моего мужа, мучаешь меня, ну зачем тебе все это надо?
Она начинала плакать, а старик смотрел на нее покойными мудрыми глазами и в утешение говорил:
— Когда ты останешься одна, ты все поймешь.
— Я никогда не останусь одна, — яростно отвечала она, — не мерь всех по себе.
— Ты не знаешь жизни, — заключал он печально и долго стоял у окна, глядя ей вслед, полный этой чудесной слабой нежности.
С сыновьями старик виделся редко: старшего он презирал за мундир, звал хамом, и когда им приходилось встречаться, то разговор быстро перерастал в склоку. Старик говорил гадости, и сын, тоже располневший, чем-то напоминавший теперь старика и, несмотря ни на что, мучительно его любивший, несчастный человек, из которого, может быть, и вышел бы музыкант, когда бы не покалеченные под гусеницей пальцы, тоже наливался гневом, и они едва не хватали друг друга за грудки.
Другого своего сына старик уважал и побаивался. Это был очень умный, с безошибочным чутьем в жизни человек, и старику нравилось говорить с ним о политике и финансах.
— Как ты полагаешь, реформы больше не будет? — задавал старик всякий раз один и тот же вопрос.
— Вряд ли, — отвечал сын, поблескивая стеклами очков в золотой оправе и пощипывая умеренно вольнодумную бородку.
— А вдруг война?
— С кем?
— С Америкой или с Китаем.
— Нет, — качал тот головой, — ни с Америкой, ни с Китаем войны не будет.
— А с кем будет? — настороженно спрашивал старик, силясь разобрать, что скрывают за стеклами глаза.
— Мало ли с кем, — пожимал плечами некогда худенький и проворный мальчик, которому даже хозяйская курица в уральской деревне носила яйца.
Теперь он был доктором наук, вращался в высоких сферах, и старику казалось, что сын знает нечто очень важное, имеющее непосредственное отношение к тем силам и стихиям, что ведали раскладом цифр в таблицах.
Но сын упорно молчал, стоило только завести отцу разговор о его служебных делах, и иногда старику казалось, что этот чересчур умный и осторожный человек вовсе ему не сын, а нагуляла его тихоня жена с каким-то евреем. Тем более что к увлечению отца облигациями он относился скептически и советовал покупать золото и драгоценности.
— Золото не может выиграть, — возражал старик.
— Золото-то и выиграет, — говорил тот, но старик уже ничего не слышал — его обдавало теплой волной при одном только воспоминании о том далеком несбыточном дне, когда нахлынула горлом радость и он едва сдержался, заглушил в себе крик и не позволил глупым бабам дотронуться до его пирога.
Так проходили годы, но старик их будто не замечал. От был по-прежнему отменно здоров, громадное его тело работало уверенно и равномерно, только все чаще он засыпал днем или вечером, а просыпался среди ночи возле телевизора с тускло светящимся матовым экраном, не сразу сообразив, где он находится и который час. Старик звонил дочери, та сонно велела ему спать, но уснуть он не мог, его раздражало, что вокруг темные окна и в телевизоре пустота, сон не шел, и он сидел долгие часы в обитом черной кожей кресле, размышляя о предстоящем тираже, о том, сколько он может максимально выиграть, листал подшивки таблиц и вдруг принимался заново проверять тираж какой-нибудь пятилетней давности, покуда его опять не клонило в сон.
У детей старика выходили замуж и женились их собственные дети, он стал прадедушкой, превратился для своих взрослых внуков в легенду, — все знали, что он где-то живет и что он фантастически богат, но никто из них его ни разу не видел, и можно было только гадать, что поднимется вокруг его наследства. Но каково оно и кому достанется, не обсуждали, а жили недружно, потому что жены полковника и доктора наук недолюбливали друг друга, ссорили мужей, и объединяла их только общая неприязнь к дочери старика, про которую они думали, что все достанется и уже достается ей. Старший сын вышел в отставку и купил дачу, средний все чаще ездил за границу и, как только это стало возможно, сделался одним из ведущих прогрессивных публицистов, пишущих на экономические темы, они редко появлялись у отца, и того это вдруг стало обижать. Теперь он с некоторым удовольствием вспоминал стычки с детьми, звонил им, звал непочтительными и уподоблял детям Ноя, а если трубку снимали невестки, то не удостаивал их и словом, одним молчанием требуя, чтобы те позвали мужей.
Его сознание постепенно угасало, он плохо понимал, что происходит в стране и отчего люди сделались какими-то шальными, старик даже забыл, с чего, собственно, началось его накопительство, забыл, что когда-то силою денег хотел он расправиться с нечестивой властью — власть рухнула и без него, — он желал теперь только выиграть, чтобы снова пережить то ошеломительное, как близость Лотты, ощущение счастья, которое испытал в голодный послевоенный год; он воображал, как это произойдет, как наполнится новыми облигациями его квартира, они будут сыпаться словно золотой елочный дождь, и вот кажется, что это уже случилось, все исполнилось и оправдалось, слышны чьи-то нежные голоса, и чуткие руки музыкантши расположили цифры как надо, выиграла не одна, выиграли все облигации — но старик просыпался, лихорадочно озирался по сторонам и видел тусклое пятно телевизора, мутный рассвет за окном, пустые банки фасоли на полу, где бегали шальные мыши, он брал телефон, набирал номер, ошибался, его материли чужие сонные люди — он раздраженно бросал трубку и открывал новую банку фасоли.
И еще полюбил старик в эти годы разговаривать с первой женой. Беседы эти настраивали его на философский лад, и он даже хотел сказать жене что-нибудь приятное, объяснить, что прощает ее великодушно за то, что не смогла она обеспечить ему достойную жизнь, и, может, даже попросить прощения самому, что бывал иногда к ней холоден и невнимателен, но задушевных разговоров не получалось, а сводилось все к тому, что они начинали спорить о его происхождении. Старик упрямо стоял на том, что его фамилия упоминается чуть ли не со времен Ивана Грозного, что он столбовой дворянин, а жена язвительно говорила неизменившимся грубоватым голосом, что род у него обыкновенно наполовину купеческий, наполовину мещанский и дворянство они купили. Так ли оно было на самом деле или ей хотелось его унизить, но старик приходил в жуткую ярость и несколько дней ей не звонил.
И вот теперь эта женщина умерла, и остался он один с бесспорным отныне столбовым дворянством, с осыпающейся елкой и облигациями, в темном коридоре, только что-то закололо вдруг никогда не тревожившее его сердце, будто попали в него еловые иголки и впились в незащищенную плоть, разнося боль по груди. Он попытался приподняться, но боль мигом усадила его обратно, и в тот самый момент вдруг понял старик, неизвестно как и откуда понял, словно сердитый и злой мышиный король пробежал мимо и толкнул хрустальный шар, что никогда и ничего он не выиграет, все выигрыши уже давно распределены и достались другим, а его облигации — это пустые бумажки, он снова обманут. Безбожная, подлая власть, построившая никому не нужные заводы, каналы и электростанции, запустившая в измученный космос десятки улыбающихся гагариных, построившая дачи и особняки там, где стояло его имение, сделала это все на те деньги, что он щедро и безрассудно ей отдал, а ему оставила захламленную квартиру, одиночество и пустоту.
По экрану телевизора скакали полуголые девицы и разнаряженные, грубо накрашенные парни, мигали разноцветными огнями елки в окнах соседнего дома, все это перебивалось рекламой, какой-то дикой музыкой, пьяными выкриками; спал, видя последний свой сон, на помойке, где подобрал он елку, детина, — страна после долгого перерыва официально встречала Рождество, и все сильнее кололо сердце, будто бы еловые иголки стали расти и, набухая, рвать все внутри; или завелась там какая-то жадная голодная мышь. Старик схватился рукой за грудь, другой за елку и вдруг почувствовал горячие и крупные слезы на лице. Он плакал, большой косматый человек, и все гладил сухие и колючие ветки, было холодно, тесно, темно, и вдруг пробили какие-то часы, и в этом мраке и ужасе далеко-далеко вспыхнул огонек и послышалась мелодия из «Щелкунчика». Кряхтя и тяжело дыша, старик приподнялся, взял елку, принес ее в комнату, и встала перед глазами таинственная полутемная зала, морозные узоры на окнах, мохнатая громадная ель и свежая счастливая Лотта, еще не обреченная на ночные приходы в его спальню. И вдруг мучительно, сильнее даже, чем выиграть, захотелось ему, чтобы все воскресло и повторилось, чтобы снова была наряжена и сверкала огнями елка.
Взгляд старика заметался по комнате, но ничего отдаленно напоминавшего украшения или игрушки в ней не было, и тогда он достал железные коробки и стал высыпать ворохи облигаций на стол, на кровать. А потом взял ножницы и принялся вырезать из плотных листков зверушек, звездочки и рисовать на билетах трехпроцентного займа добрые и страшные рожицы, женские головки и ножки. Он привязывал к ним нитки, клеил, украшал елку, и все выходило быстро, ловко, как делала когда-то аккуратная белокурая немка.
Улеглась колючая боль в груди, он перестал чувствовать свое грузное тело, а комната наполнялась дорогими ему тенями — стояла где-то молодая, в его младенчестве умершая мать и шептала имя сына, здесь же была мать его детей, тихо напевала детскую песенку музыкантша, и с умилением глядела на него окруженная розами генеральша, и он сам, то ли старик, то ли ребенок, щелкал пальцами и показывал свое богатство поблескивающему золотыми очками и пощипывающему социал-демократическую бородку отцу. А потом стал делать из оставшихся облигаций голубей, рисуя на крыльях рождественские звезды, распахнул окно и запускал голубей в небо, высунувшись наружу, радостно выкрикивая и размахивая руками.
Голуби кружили над заснеженным двором, он щелкал пальцами и ликовал, а под окном уже собрались какие-то люди, махали руками и бегали за голубями, зачем-то разворачивали их и пихали в карманы, отталкивали друг друга, кричали, и мальчик в окне пускал все новых и махал им в ответ. Он выпускал их на волю, покуда не вырвались они все, и тогда, не закрывая окна, старик уснул, отпустив напоследок легко и безболезненно выпорхнувшую последним голубком душу.
Галаша
Родился я в сорок третьем году под Октябрьскую. У матери было еще двое детей старше, а отца нашего убили на фронте. С войны и половины мужиков не пришло, так что много нас было в Нименьге молодяжки, кто своих батек николи не видел или по малолетству не помнил. Деревню к тому времени совсем уже разорили колхозом, но голода настоящего у нас не было. Трудно жили, но всяко жили. Иногда привозили нам рыбу с нижних деревень, что стояли на берегу большого богатого озера, и меняли на одежду, посуду и грибы. А на Михайлов день, в престольный праздник, хоть церкву еще в тридцать втором году порушили, собирались старики и варили пиво. Нас никто не гнал, угощали суслом и пирогами, и долго мы глядели, как пляшут мужики и топчут снег, как бабы поют песни протяжные. Но только тогда уже, мальчонкой, я чувствовал, что как-то странно бабы на меня поглядывают, а иная разгоряченная подскочит вдруг, прижмет к себе, зацелует и засмеется: «Похож, ой на дролечку похож». И так вкусно от нее пивом пахнет, губы мягкие, теплые — дух у меня захватывало, ни тела, ни ног не чуял, будто возьму сейчас и полечу как птица. Только вот мать моя никуда не ходила, дома все сидела. Дела переделает, сядет, уставится в одну точку и не видит и не слышит ничего. Я к тому времени один у нее остался — брат и сестра померли. А пошто померли — леший его знает. Соседка наша Першиха приходила, только глянула на них и прошамкала: «Не жильцы оне». А потом на меня посмотрела и довольно рассмеялась беззубым ртом:
— Этот дак крепкий будет мужик.
У матери побелело лицо, вцепилась она руками в спинку стула, посмотрела на меня невидящими глазами, и меня от этого взгляда потом холодным прошибло. Шмыгнул я на полати и просидел так весь вечер, а она про меня и не вспомнила.
Умирали они легко, не мучились. Сперва брат помер, а потом сестра. И когда хоронили их, мне чудилось, будто старухи на мать, поджав губы, смотрят и шепчутся у нас за спиной. С тех пор, как на кладбище ни приду, все мне чудится этот шепот. Так и остались мы с матерью одни. А дом у нас-то большой был. Передок да зимовка, двор, баня, в передке три комнаты, шесть окон на улицу глядят, и во всех этих комнатах пустота звенящая. Ни родня к нам не заходит, ни гости. Страшно мне там было, вот и слонялся я целый день по улице, а домой лишь ночевать приходил.
А раз — было мне тогда уж лет десять — шел я из школы из соседней деревни, и встретился мне дорогой мужик молодой. Остановил вдруг меня, стал по карманам у себя шарить, а потом ладонь протянул — и две ириски на ней. Я этих ирисок до того разу и не видел, слышал только от ребят постарше, что бывают такие, оробел, а он сунул их мне в руку, засмеялся, шлепнул меня и говорит:
— Беги, че рот-то раззявил?
Звали его Долькой. Он жил в нашей деревне, но я его прежде не встречал. Он из армии только вернулся, а служил там целых семь лет. Всех воевавших-то мужиков отпустили, а таким, как он, и досталось лямку тянуть. Злой он был, горячий. Стали его в колхоз звать, ухмыльнулся только и фигу показал председателю. «Батя мой, — говорит, — к вам не ходил и мне заказывал не ходить, потому как закваска у вас фарисейская. А было б у вас хорошо, меня бы и звать не надо было, сам бы прибежал, возьмите меня, робяты». Про закваску никто не понял, а сделать с ним ничего не могли. Паспорт у Дольки был, так что сам он себе хозяин. Летом дома поживет, сена накосит, картошку выкопает, а на зиму плотничать куда-нибудь подастся. Никак не мог я забыть про те ириски, хоть и не впрок они мне пошли — долго их съесть не решался, берег, а когда наконец развернул, они уже засохли.
А рос я озорным, не боялся ни лешего, в школе мне скоро надоело за партой сидеть, и догляду за мной никакого не было. Мальцом еще был, а уж и на шальное был годен, и дрался, и матом ругался, и курил. Матери на меня жаловаться ходили, но толку-то? Меня никакой ремень не брал. Оторвой рос, безотцовщиной. Мужики же к моему хулиганству относились снисходительно, но скоро и им я надоел. И вот раз на сенокосе стали мы распределяться, чтоб стога метать, отказались от меня все да и говорят:
— Иди вон, парень, к батьке сваму в пару становись.
Я вздрогнул, попятился, потом повернул наконец голову, а там, весь красный, потный, криво улыбаясь и ни на кого не глядя, стоял Долька. Я тогда уже знал, конечно, что отец мой, который в сорок первом на войну ушел, не настоящий мне отец. Но поверить в то, что Долька, молодой, красивый Долька, еще за мужика-то не считавшийся, потому что он на гулянки ходил да к девкам приставал, поверить в то, что вот этот Долька мой батя, я не мог.
— Ну че встал как неживой? — рявкнул он, и я почувствовал в его окрике что-то такое сладкое, что стремглав взлетел наверх и стал принимать у него сено. А он стоял внизу пыльный, дочерна загорелый и орал:
— Живее, ну живей давай, чертова кукла!
Я задыхался, не успевал, но боялся просить его работать помедленней, и мне казалось, что вся деревня в этот момент остановилась и смотрит на нас. А он все кидал и кидал мне это сено с такой яростью, точно хотел с головой засыпать, только б никто меня не видел.
Потом он опять уехал. На сей раз надолго, в Устюг, учиться на механика. Я снова остался один, оглушенный, растерянный, как застрявший в охане окунь. Мне мучительно хотелось говорить с кем-нибудь о нем, но к матери я не приставал. Я был тогда уже достаточно большим, чтобы понимать: в деревне мать осуждают за то, что она связалась с пацаном, которому не было тогда и шестнадцати лет. Но я ее не осуждал, а был даже благодарен, что так вышло. Любила ли она его в самом деле или просто затосковала без мужика — одному Богу известно. Но он больше не был для меня Долькой, стал батей, моим настоящим батей, хотя в метрике, а потом и в паспорте меня записали на прежнее отчество. Да я этому и не противился: не очень-то мне хотелось зваться Адольфовичем.
Я сильно скучал по нему, ждал, когда он вернется, хоть и понимал, что с нами он жить не станет. Мне было приятно слушать ворчание деревенских баб: «От погоди, отец бак вернется, уши тебе надерет, шали этакой». Я был горд тем, что у меня такой замечательный, ни на кого не похожий батя, что у него вольная, независимая жизнь, и я мечтал, что, как только вырасту, батя обучит меня плотничать, а плотником он был лучшим во всей нашей деревне, которая плотниками славилась. Да и не только плотником, про него говорили, что он из кошки дьявола сделает. Я представлял, как мы будем вместе ходить на заработки, нам станут платить много денег, и когда летом я вернусь и пойду по деревне, все ахнут. Но каким же ударом было для меня его возвращение в деревню год спустя!
Он вернулся не один, а привез молодую жену, и все мои мечты пошли прахом.
Женившись, батя сильно изменился. Он остепенился, никуда больше не ездил, выстроил новый дом, первым из наших мужиков завел моторную лодку, мотоцикл, купил телевизор и стал выращивать в парнике огурцы. В колхоз он так и не вступил, а устроился работать на ГЭС, которую незадолго до того выстроили на нашей речке. Меня он теперь не стеснялся, приглашал иногда в баню, но в дом никогда не звал, и я чувствовал, что его жене видеть меня неприятно. И ни разу не был он дома у нас.
А мне пошел уже тогда шестнадцатый год, и заговорила во мне дурная кровь. Видно, было во мне нечто такое, что и в бате, и нетронутым мальчишкой я проходил недолго. Тогда после войны много было одиноких баб, и вдовых, и замуж не вышедших, жили они как Бог на душу положит, и никто их теперь за это не осуждал. Много у меня тогда женщин поперебывало, но только одну я по-настоящему полюбил и запомнил.
Она была замужняя, завклубом, работала в соседнем колхозе. Муж ее уезжал все куда-то, и вот почти через день я ходил к ней по вечерам в Пунему за десяток километров. Крался с огорода, она впускала меня, и я, как только ее видел, шальным каким-то делался. Красивая она была — глаз не отвести. Невысокая, легонькая, с маленькими крепкими титьками и родинками на спине. Я запросто брал ее на руки и раздетую носил по избе, а она болтала ногами, смеялась каким-то счастливым девичьим смехом и совсем меня не стеснялась. Шептала мне губами на ухо: «Что, нравлюсь тебе?» и шарила по моему телу жадными горячими ладонями. И когда ложились мы, стонала, в плечи кусала, билась в руках, точно зверек какой-то, целовала меня всюду и велела, чтоб я ее так же целовал. С ума меня бесстыдством своим сводила. Я высох, почернел, не высыпался, но почти через день к ней ходил, успевая к утру вернуться домой, а оттуда на работу. Весь день не в себе был, только о том и думал, как снова вечером к ней в Пунему пойду.
Но недолго мое счастье длилось. Раз в мае говорит она мне так легко, играючи, как всегда со мной говорила:
— Ты вот что, Галаша, больше не приходи. Ночи дак светлые нынче, мало ли увидит кто.
Я тогда поглядел на нее и понял, что не любит она меня нисколько. Глаза скучные, равнодушные. И так горько мне сделалось — ведь позови она меня, я б для нее что хочешь сделал. И женился б, и в дом к себе привел, плевать мне на то, что там люди скажут. Но ей ничего этого нужно не было. Эх, Катя, Катя. Сколько же ты моей крови выпила. Все лето я мучился, забыть ее не мог. Такая тоска напала, хоть за руки, за ноги себя привязывай, чтоб в Пунему не ходить. Ни на баб, ни на девок молодых глядеть не хотел. Удочку возьму, уйду на весь день на реку, но ничего мне не в радость. Все чудится, будто это лишь сон дурной снится, а сейчас глаза открою и снова к ней постучу в окно. Она мне дверь откроет, обниму ее, тело такое близкое, любимое. Да что тело, я ведь душу ее любил, а она понять этого не умела.
Так до осени и промаялся, а в ноябре взяли меня в армию, и полтора года я свою Нименьге точно уж во сне и видел. Должен был бы три, да, видно, батя за меня все выслужил. Приказ вдруг вышел: демобилизовать в порядке мирной инициативы. А в армии мне хорошо было, там отпустило как будто, да и служить интересно было, не то что нынче ребята рассказывают.
В деревню я возвращаться не стал. Прямо оттуда поехал в Кадников на тракториста учиться. Приняли меня в техникум, койку дали в общежитии, стипендию положили в двадцать рублей — живи не хочу. Но проучился я там недолго. Как в третий раз в вытрезвитель попал, вызвал меня участковый и говорит:
— Уезжай-ка ты подобру-поздорову отсюда. Здесь тебе не деревня: где нажрался, там и лег. Не создан ты, парень, чтоб в городе жить.
Ну и поехал я домой. Теперь уж насовсем. Кати к тому времени и след простыл. Уехала, говорят, с мужем в город. А видно, так было на роду у нас написано: ей там жить, а мне тут. Но в деревне нашей учительница новая появилась. Молоденькая совсем, тихая такая, и не сказать чтоб красивая, с той никак не сравнишь, но будто светится вся. Зоей ее звали. И я вдруг к ней нежность какую-то почувствовал. Так-то у меня все бабы были, я у них не первый, и они для меня дело не новое. А тут вижу, девочка она еще, и самому боязно сделалось. Ухаживал за ней, хоть и в жизни ни за одной юбкой не бегал, дыхнуть на нее боялся, слово грубое произнести ненароком, а она на меня так доверчиво глядела и все плакала, когда я ей про свою жизнь рассказывал.
Жила она на квартире у одной старухи. Я ее все не трогал, думал уж так — свадьбу сыграем, чтоб все у нас по-хорошему было. Ей чтоб не стыдно в глаза людям глядеть, и мне так лучше.
А потом шел я от нее однажды вечером и думал про жизнь нашу будущую, как станем вместе жить, как детишки у нас пойдут. И так хорошо мне от этих мыслей, но вдруг точно пронзило меня: а что если она не девушка уже? Как влезла в меня эта мысль, так прогнать не могу. Хоть умом и понимаю, что не может такого быть. Но такая злоба охватила, не пойму, откуда и взялась. Жжет, и все. Я ведь знаю себя, так-то мужик не злой, слова плохого даром не скажу, но иной раз накатит, чувствую, человека могу убить. А как раз ночи были белые, не сегодня-завтра косить начнут, травы высокие, густые, дух от них идет дурманный. Остановился я — и обратно. Если не целка она, думаю, не жить ей здесь. Пусть уезжает, не вытерплю я этого. От другой бы вытерпел, а от этой нет.
Подхожу я к окошку, стучу. Она легла уже, но подбежала сразу, занавеску отдернула и смотрит на меня удивленно.
— Открой, — говорю, — Зоя. Дело у меня до тебя срочное.
Она покраснела, смутилась, но впустила меня. Спросил я ее тогда не помню о чем, а потом и говорю:
— Ну что же, а теперь спать давай. Мне теперь уж далеко будет от тебя идти. Устал я.
Сказал — а сам боюсь с ней глазами встретиться и не знаю, что делать, если она не согласится. Шум поднимать нельзя, за стеной хозяйка спит. Сижу я на стуле, курю, а она одеяло откинула и в халате как была, так и легла.
— Разденься, — велю, а у самого и голос и руки дрожат. Жалко мне ее, но и сам теперь загорелся.
Она будто сказать что-то хотела, но не смогла. Сняла с себя все, я к ней, а в голову опять всякая гадость лезет, как ребята в армии рассказывали, что девки, мол, всякие хитрости знают, чтоб когда надо невинными предстать. А она худенькая такая была, плечи узкие, нежные, волосы по подушке разметались. Обнял я ее, и самому вдруг противно сделалось: какая ж, думаю, сволочь. Но она неподвижно так лежала, потом вскрикнула только, руки вокруг шеи моей обвила, зубы стиснула.
— Больно тебе? — спрашиваю.
— Нет, — отвечает через силу, сама губы кусает, на глазах слезы выступили, но сдерживается, не плачет, улыбнуться даже мне пытается.
— Ты поплачь, легче тебе станет.
Она усмехнулась какой-то странной усмешкой, поглядела на меня по-взрослому совсем и головой качнула. Тут уж я понял, что она обо всем догадалась, что это я ее проверять перед свадьбой пришел, а первая-то ночь у нее, значит, не по любви вышла, а так, для пробы, будто снасильничал я. И не простит она мне этого никогда, всю жизнь будет помнить, как я к ней пришел. Но она тихо так лежала и ни слова мне в укор не сказала. Ни тогда, ни потом, хотя много у нее из-за меня лиха было.
Осенью сыграли мы свадьбу. Стала она у нас жить, ребенок скоро родился, а мать моя нарадоваться на нее не могла. Трудолюбивая невестка, ласковая, сама грубое слово стерпит всегда, не огрызнется. И в доме у нас весело стало жить, только мне все было не в радость. Стал я чего-то маяться да жалеть, что не остался в городе, а сюда вернулся. У нас мало кто тогда в деревне оставался. Все уезжали. Кто в Мурманск, кто в Северодвинск. Скучно сделалось в деревне. Как начали паспорта давать, так только ленивый и не побежал. А пиво больше не варили на Михайлов день. Сперва велели из района варить на две недели раньше, под Октябрьскую, вроде как в честь их праздника, а потом и вовсе запретили. Прислали лектора, он в клубе выступил и объявил, что пивоварение — это пережиток прошлого, и пообещал, что скоро нам выстроят филармонию, станем мы выращивать кукурузу, хозяйства своего ни у кого не будет, и настанет тогда коммунизм. Эх, кукуруза… Высеяли ее да повесили плакат:
- Безо всякого конфуза
- Прет и дует кукуруза.
Вот и остался я как последний дурак ждать, что раньше поспеет: кукуруза или комммунизм.
Но в колхоз все одно не пошел. Это, видать, у меня в крови сидело: хоть вы тресните, но к вам не пойду. Помыкался я то там, то сям, делать-то путем ничего не умел и устроился в конце концов в леспромхоз. У нас был еще тогда лес, что в войну да в коллективизацию не вырубили.
А в лесу какая жизнь? Неделями дома не бываешь, пьянки, по бабам опять таскаться стал. И все в деревне это знали, и Зоя знала, и как замолчала она с той ночи и взяла привычку ничего мне не говорить, так всю жизнь и промолчала. Я иногда и дивился и злился на нее. Домой приду как кобель побитый, копейки не принесу, мать меня последними словами кроет, стыдно ей перед Зоей, а та — как будто так и надо. Уж лучше б ругала, чем так молчала. И ведь не осуждала, а жалела даже и дочке Таньке говорила: ты не слушай, что про папку говорят, он хороший у нас. А я сам, как выпью, виниться перед ней начинаю: Зоя, Зоя, стыдно тебе за меня пред людьми, ты ж учительница, понимаю я это. А она улыбнется только и вздохнет:
— Пьяный стыд — это, Галаша, не стыд. Ты бы трезвый так говорил.
А чего б я трезвый так говорил? Я трезвый год от года все злее делался. Разлюбил я себя и жизнь свою. Не то чтоб раньше шибко любил, это смешно сказать, но вроде как жил и жил. Не задумывался. А тут чувствую: вот не ладится у меня ничего в жизни. Валим мы этот лес, ягодники испоганили, река обмелела, рыба перевелась в ней, и все своими же руками — кому это, к черту, понравится? Только если глаза залить да песню спеть жалостливую. А что сделаешь-то? В том-то и дело, что ничего.
А Зоя-то, та любила школу свою. Вечерами все сидела, к урокам готовилась, и ребятишки ее любили, до дому с ней вместе шли. Но только вот ребятишек все меньше у нас становилось, да про меня все больше неладное говорили. Вот и пришлось ей из школы уйти. Уж как переживала она, и говорить не стану, точно отняли что-то. Но делать нечего, и устроилась она в конце концов почту носить. Это значит каждый день по пятнадцать километров обходить наши деревни. А дороги трактором разбитые, зимой снег заваливает. Одна у нас была радость в доме — Танька. Вот та все пятерки таскала, колхоз ей стипендию стал платить по три рубля в месяц. Гордая такая ходила, счастливая, а потом пришла однажды вся в слезах.
— Что с тобой? — спрашиваю.
Плачет, не говорит.
— Да что случилось-то?
— Я, папка, четверку получила в четверти. По природоведению. Стипендию теперь платить не станут.
— Не горюй, Танька. Ну выпьет батя твой на одну бутылку меньше. Вот и вся беда.
Так мы и жили. А осталось нас к тому времени в Нименьге трое работающих мужиков: батя мой, я да Филошка Першин. Вот через этого Филошку и вышла история, которая мою жизнь покалечила.
Филоша поганый был мужик. Ленивый, хитрый и некудышный. Ему уж лет сорок было, а он все не женился. Работал он скотником, и телята у него вечно полудохлые ходили. Но себя-то он очень любил и высоко ставил. А кроме всего прочего он в газете нашей районной внештатным корреспондентом значился, писал там статеечки и очень любил поучать, как правильно жить надо. И меня поучать пытался. А я ведь мужик такой: только тронь, вскиплю как чайник. И до чего у нас с ним только дело не доходило.
Тут уж чего греха таить, но любил я его подразнить.
— От, — говорю, — дурень, как же ты без бабы-то живешь? Сам себя что ль удовлетворяешь? Нашел бы хоть какую старуху завалящую себе. Вон их скока!
У него глаза кровью нальются:
— По тебе тюрьма плачет, посадят тебя за хулиганство твое. А меня не ценят здесь, но так я скоро в город уеду, журналистом стану работать.
Я хохочу, он кулаки сжимает, драться лезет. В общем, смешно сказать, два мужика в деревне, и те цапаются. И не пил бы я с ним никогда, но куда денешься, если пить больше не с кем. Но меня что-то злило в нем: он навроде того лектора, умней других казаться хотел. Да Бог с ним, с лектором, он приезжий, сена от соломы отличить не умеет, а этот-то свой!
И вот раз взяли мы с ним в магазине бутылку, но к себе не пошли, а там, в леспромхозовской конторе в Кушереке и выпили. И опять повздорили, да так, что он не в шутку на меня с кулаками полез. Чем-то уж больно я его опять задел. Ну выволок я его на крыльцо, в снег головой окунул, пускай остудится, а сам дальше пошел водку пить. Заснул, видать, и что там дальше было, не помню, хотя никто потом не поверил, как это я от такого не проснулся. В общем, очнулся я от того, что в конторе народу набилось, галдят все разом, а у меня лицо полотенцем обвязано. Я его сдернуть пытаюсь, тут как заорут:
— Не трожь!
Я по сторонам огляделся, участкового увидал и испугался, что прибил Филошку насмерть, хоть и помню, что бил вроде несильно. А участковый-то этот давно еще грозился меня на химию заслать. Вот, думаю, и добьется своего, да только химией мне не отделаться. Но он на меня и не глядит, сидит пишет что-то, а подходит ко мне медсестра — сама белей халата своего, глаза — зрачков не видать. Взяла меня за руку:
— Пойдемте.
Я понять ничего не могу, вырываться стал, мужики меня к выходу подталкивают — серьезные все такие. А на улице уже газик председательский стоит. Автобус-то у нас не ходил, и все из-за этого участкового. Он с шофером Саней Волковым поругался как-то из-за того, что тот отказался ему поросенка отвезти, подстерег Саню по пьяному делу и прав лишил на три года. Других шоферов нет — вот и сидела вся наша округа без автобуса.
Шофер председательский как увидел меня — ржать:
— Садись, Галаха! Персональную тебе подали.
Я опять вырываться стал — куда еще везти меня надумали? Но тут мужики поднасели, в машину меня запихали и в бок ткнули:
— Цыц, дурья башка! В больницу тебе срочно надо.
Медсестра рядом села, и поехали. Я себя ощущал: ноги-руки вроде целы, не болит ничего, только голова кружится немного да нос под полотенцем жжет. А чего ему болеть, если я столько выпил, что никакого наркоза мне не надо. Приехали мы на станцию, посадили нас срочно на тепловоз — и в город.
Я дорогой и поспал чуток, и медсестру обнять попытался — она девка была крепкая, ядреная. Как лед на реке сойдет, так до самой осени купалась. Добрались мы наконец до больницы, пришел доктор заспанный, здоровый такой мужик с красной рожей и лошадиными зубами.
Подмигнул мне:
— Давай, браток, ложись на стол.
Стали мне повязку снимать, все вроде ничего, только нос сильно жжет. Эх, думаю, Филоха мне его расквасил, ну погоди, парень, сквитаемся еще. Тут я глаза-то поднял, а надо мной лампа с отражением висела, и через нее все видно. Сняли с меня полотенце, а носа-то под ним нет. Я руками за лицо схватился, и точно нет. Заорал не своим голосом, кровь брызнула, страшно-то как стало. Врач меня за руки хватает, на сестру матом орет, люди какие-то прибежали, держат меня. А я бьюсь, хриплю. Сделали мне тут укол, и очнулся я уже в палате и снова с повязкой.






