Проклятие Индигирки Ковлер Игорь
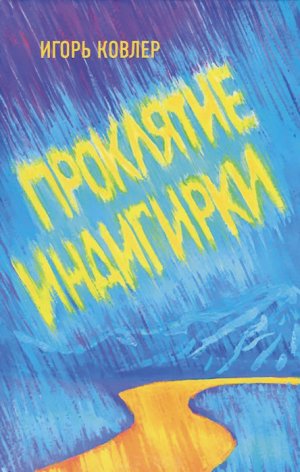
В это было трудно поверить. Среди вороха газет, вынутых из почтового ящика, мелькнул конверт, и, еще не вглядываясь в него, лишь скользнув беглым взглядом, Перелыгин мгновенно узнал округлые, аккуратно выписанные рукой Лиды буквы, хотя последнее письмо получил от нее лет семь или восемь назад, когда перебрался в Городок. Из Батагая он писал, сохраняя тон и манеру бывалого, уверенного человека, что ей не следует сейчас приезжать, что условия не очень подходящие, но скоро все изменится, а тогда!.. Он писал, наивно убеждая себя и Лиду, будто ничего не случилось, между ними остаются договоренности и даже обязательства, и они ждут удобного момента, не допуская и мысли, что таковой может и не наступить.
Лида не включалась в затеянную игру, отвечала скорее по естественной женской неспособности мгновенно отказаться от всего хорошего, что их связывало, вычеркнуть его из памяти, но и потому, что, внушая себе, будто с отъездом Егора все для них закончилось, не хотела ничего забывать, оставляя дверь приоткрытой.
Поднимаясь по лестнице, Перелыгин рассматривал конверт, окаймленный красно-синими полосками авиапочты, стараясь догадаться, что могло означать это письмо, быстро перебирая в памяти всего несколько мимолетных встреч за эти годы, когда он прилетал в отпуск. Лида вышла замуж, родила дочь и жила в Москве. Он не знал ее телефона и адреса, убедил себя, что вспоминает Лиду по простому свойству человеческой памяти более цепко держаться за хорошее, но исподволь сравнивал с ней других женщин.
Он вошел в тишину квартиры, которая сейчас ему показалась смешанной с беспокойным одиночеством. Вспомнил последний вечер перед отъездом, накрепко схваченную взглядом Лиду – в фартучке, у раковины на кухне, моющую посуду. Невозможно было объяснить, почему память раз за разом выбирала из множества радостных мгновений не блеск ее счастливых глаз, а эту обыденную, ничем не примечательную картинку. Но именно такую Лиду – со склоненной головой, подставляющую под струю воды тарелки, которые он носил из комнаты после ухода друзей, заставая ее каждый раз в одной и той же позе, с безучастным взглядом, опущенным вниз, отчего у него сжимало тоской сердце, – он вспоминал чаще всего. Выходит, ничего он не забыл, убеждая себя все эти годы, что свободен от прошлого, а на самом деле оно жило в нем своей колдовской жизнью, на далеком расстоянии, за восемью часовыми поясами. И стоило Лидиному письму преодолеть эти пояса, как сразу проснулась смутная надежда. Он стал думать, что не все потеряно, если на свете есть Лида, которая не забывает о нем. Значит, он обманывался, внушив себе, что не поддается соблазну связать жизнь с женщиной только ради сохранения своей свободы, ради главной цели – переезда в Москву. К чему он до сих пор не знал как подступиться и все откладывал и откладывал, год за годом.
Перелыгин надорвал конверт и бегло пробежал глазами исписанный с двух сторон лист, надеясь отыскать ожидаемое, вызывающее учащенное сердцебиение, но ничего не нашел. Лида спрашивала в своем ироничном стиле, как протекает познание жизни и готов ли он указать человечеству истину в выпавший на их долю век бесконечных сомнений и поголовных крушений всяческих основ, потому что сомнения и разрушения принимают лавинообразный характер – можно и опоздать со спасением. Мимоходом, не вдаваясь в подробности, она обмолвилась, что живет теперь вдвоем с дочерью, снимает квартиру на Ждановской, сообщила телефон. Он тут же схватил конверт – там стоял обратный адрес, который сначала не привлек его внимания. Письмо не содержало ни одной скрытой мысли, таящейся между строк, ни одного намека в проскользнувшем слове, в нем не было ничего, кроме неоспоримой реальности – он держал его в руках.
Ночью он долго не мог уснуть. Измаявшись, включил бра над кроватью, уменьшил до минимума накал спирали в лампе и, лежа в полумраке непроницаемой тишины спавшего Городка, пытался вообразить, как сложилась бы его жизнь, окажись Лида здесь. И чем больше он размышлял об этом, тем яснее становилась для него горькая и безжалостная правда. Лида никогда не смогла бы жить той радостью познания и открытия другого мира, душевной близостью с окружающими людьми, тем честолюбивым самоутверждением, счастьем свободы и вольности, которыми наслаждался он. Ей пришлось бы многим пожертвовать, и, понимая это, он старался бы оберегать ее, помогать, не оставлять одну, находиться рядом, учитывать ее состояние, настроение, желания, против воли ограничивая свою свободу. Он пришел еще к одному бескомпромиссному выводу: с Лидой они не прожили бы здесь столько лет. Неужели прав Любимцев, сказавший ему во время рыбалки на Лабынкыре, у самой воды дивного озера, что он, Егор, уже конченый человек, потому что на него пало прокляти Севера, который забрал себе его душу, влюбил в себя, и снять такое проклятие невозможно.
«Но, может быть, – думал Перелыгин, – я обманываюсь, живя придуманной жизнью? Зачем я здесь, что делаю? Пишу заметки в газету, помог каким-то людям, мешаю спокойно работать Комбинату. Кому это надо? Я побывал в местах, о существовании которых не подозревает подавляющая часть человечества, узнал много людей, увидел их жизнь, понял то, что не смог бы ни один заезжий корреспондент. И куда теперь с этим? Я собрал воспоминания стариков двух крупных геологоразведочных экспедиций, понимаю, какой ценой далось освоение этих земель. Знаю о «Дальстрое», о заключенных, и мои знания сильно отличаются от описаний Солженицына. Только кому нужна моя правда? Потерявшей веру стране? – Неожиданно его смутила простая мысль: – А может ли моя правда что-то изменить и есть ли она на самом деле? Не пытаюсь ли я опять себя обмануть? Что, если человек действительно приходит в этот мир лишь для того, чтобы постичь, как он прекрасен, глуп и несовершенен, а большинство и не хочет ничего постигать – только получать ответы готовыми, в ярких обертках, желательно с музыкальным сопровождением и танцами. Остановись, – сказал себе Перелыгин. – Пора бы знать, что не бывает абсолютно полных ответов и, тем более, приемлемых для всех истин. И вообще, давно пора спать».
Он щелкнул выключателем на светильнике. Ни один звук по-прежнему не нарушал тишину дома. Удивительно тихая и ясная стояла ночь. Даже вечно снующие по трассе машины куда-то подевались. Он лежал спокойно, дыша ровно и глубоко, вяло перебирая в памяти картинки прошлого, сон уже незаметно начал туманить сознание, и последняя мысль его была о Лиде.
Лавренюк ждал суда. Он нигде не бывал, торопливо возвращался из быткомбината, где теперь работал, домой. Там подолгу то сидел неподвижно, уставившись в одну точку, то стоял до ночи у окна, опершись на подоконник, всматриваясь в темноту неподвижными пустыми глазами, или лежал на диване, разглядывая рисунок на ковре. Он пил свою горькую чашу, удивленно осваиваясь с не испытанным никогда ранее ожиданием решения собственной участи, способного повернуть его жизнь в неведомую, страшную сторону. И чем ближе подступала дата суда, тем ощутимее делился мир на «до» и «после», где за неодолимой чертой еще скрывалась надежда.
Маленького Федьку выписали из больницы. Он был слаб и плох. Но цепляющийся за жизнь детский организм удержал его на самом краю. Специально прилетавший нейрохирург сказал, что операция прошла очень даже хорошо. «Но, – помялся он, прощаясь, – мозг есть мозг, ответ даст только время».
Выжив, Федька оказался тонкой спасительной пуповиной, удерживающей Тараса по эту сторону жизни, питающей силами и смыслом. Не удержись он, все рухнуло бы окончательно, безнадежно. Сын своей жизнью спасал отца.
Мирон Андреевич был рядом. Жену, прилетавшую на похороны, поскорее отправил домой. На суде ему предстояло выступать свидетелем. Он осунулся, постарел, но держался.
Городок разделился в пристрастиях: одни считали, что Лавренюка надо обязательно посадить, другие возражали доходчивым аргументом: пусть сына поднимает, не годится при живом отце сирот плодить. Кто понахальней, приставал к Мирону Андреевичу. Но он такие разговоры не поддерживал.
На суде он ничем не упрекнул зятя. Лавренюка осудили на одиннадцать лет «условно». Выслушав приговор, Тарас явственно ощутил, что мимо, вплотную, со свистом и грохотом пронесся поезд, едва не сбив его с ног шквалом ревущего воздуха, пахнущего железом и пригорелым машинным маслом.
Когда зал опустел, он поискал глазами Мирона Андреевича. Тот стоял чуть в стороне. Лицо его было спокойным, но в глазах, казалось, навсегда застыл равнодушно-скорбный взгляд. Горячая внутренняя волна ударила Тараса, подкатила к горлу. Скрывая навернувшиеся слезы, он помассировал пальцами виски, снял очки, протер стекла и, успокоившись, подошел к тестю, понимая, что все слова, какие бы он ни сказал, сейчас будут фальшивыми, да и не знал, какие слова нужно сказать и нужны ли сейчас вообще слова. И, спасая его в эту минуту от фальши, от пустого и глупого, в горле стоял твердый ком.
Вскоре Мирон Андреевич засобирался. Они решили, что Федьке лучше ехать с дедом. Пожить в донецких краях. Кроме здоровья внука, Мирону Андреевичу приходилось думать еще и о том, как он останется с женой один на один. Единственным спасением в их горе был Федька.
Проводив тестя, Лавренюк жил замкнуто, с какой-то повышенной настороженностью. Для него наступило время испытания одиночеством. Вечерами заезжал Перелыгин, они вместе смотрели футбол. Он давно подметил, что Лавренюк проявлял к футболу интерес, и вспомнил об этом, придумывая, чем бы отвлечь Тараса. Вскоре у Лавренюка появилась расчерченная турнирная табличка, они устроили что-то вроде тотализатора на двоих. Затея, казалось, удалась, но на дворе уже стоял ноябрь и доигрывались последние игры. В один из вечеров, когда матч завершился, Тарас выключил телевизор, хмуро и озабоченно помолчал, наконец, глядя в сторону, негромко сказал:
– Все хочу спросить… – Он снял очки, подышал на стекла, принялся их протирать носовым платком, как всегда в минуты неловкого волнения. – Чем дело с посадкой «вертушки» закончилось?
– Пока тихо, – ответил Перелыгин. – Ты лишнего в голову не бери. Ты здесь ни при чем. Сороковов понимает: нельзя героев-мучеников из нас делать.
– Не упрощай. – Голос Тараса прозвучал глухо. – Вы Федьку а с ним и меня спасли. – Он тяжело опустился на стул. – Врач сказал: еще немного – и могли не довезти. Я вам по гроб жизни обязан.
– Успокойся. – Перелыгин почувствовал неловкость. – Тогда в вертолете никто не сомневался, что надо делать, не вынуждай меня произносить банальщину.
– Ладно… – обреченно согласился Лавренюк. – И все же знай – я этого не забуду, но, пока Федька у деда с бабкой на ноги встает, хочу уехать отсюда. Вчера звонил Клешнину. – Тарас помолчал. – Он в курсе, зовет к себе.
– Выкладывай, что случилось? – грубовато потребовал Перелыгин.
– Да ничего особенного, – пожал плечами Лавренюк. – Не будет мне здесь житья, пока все не успокоится. Тяжко просыпаться, уходить, возвращаться, просто на вещи смотреть. Перекантуюсь полгода-год, а там посмотрим.
– Может, и правда, – согласился Перелыгин. – Кстати, не худо тебе было бы жениться.
– С ума спятил! – Лавренюк покрутил пальцем у виска.
– А что тут такого? – как можно спокойнее сказал Перелыгин. – Рано или поздно это со всеми случается. Ты один долго не протянешь, а Федька вернется, тем более. И наплюй на сплетни. – Перелыгин прошелся по комнате, выглянул в длинный коридор просторной трехкомнатной квартиры, словно хотел убедиться, что никто их не слышит. – Одним понравится, если ты каждый вечер будешь в стельку у магазина валяться, с бичами пить. Другим интересно тебя с кем-нибудь застукать – ага! А большинству… – Перелыгин говорил, подчеркивая каждое слово. – Большинству наплевать, что ты станешь делать завтра.
– А тесть с тещей? – Лавренюк угрюмо наклонился над столом, отыскивая на цветастой скатерти невидимую пылинку. – Ты про них забыл.
– Для них, – возразил Перелыгин, – отныне главный не ты, а Федор. Они сейчас к нему привыкают, а из тебя какая нянька?
Тарас не ожидал такого разговора. Но вот прозвучало то, о чем сам он избегал думать. При мысли о другой женщине он испытывал глубокое чувство вины перед Кирой, не мучившее его ни раньше, ни в последнее время, когда он встречался с Алисой, о которой, помимо воли, начал думать с неприязнью, понимая собственную несправедливость.
Алиса была женщиной, готовой оказаться рядом хоть завтра. Она, наверно, любит его, а если и нет, то может, в этом он почти уверен, полюбить. И Алиса нравилась ему. Нравилась ее высокая крупная фигура, волновавшая сочетанием силы и подвижности. Они уже миновали тот период отношений, когда еще мешают натянутость и осторожность, но Тарасу казалось, что все случившееся между ними происходило в другой жизни, а теперь выросла непреодолимая стена. Он понял это, когда увидел Алису на улице. Заметил издалека и, почувствовав в ней сообщницу, торопливо свернул за угол. Именно тогда он окончательно и бесповоротно осознал, что смерть Киры навсегда встала между ними, и не важно, что подумает, что теперь скажет Алиса. В тот же вечер он решил уехать из Городка и позвонил Клешнину.
– Ну и ладно, – сказал Перелыгин, – поезжай. Проснешься утром, а вокруг все не так.
За полночь Перелыгин вышел от Тараса, зябко поежился на крыльце, забрался в заиндевелый «Москвич». Чуть слышно задышал отрегулированный мотор, засветилась в темноте панель приборов, обоняние уловило знакомые запахи. Он ждал, пока прогреется двигатель, прикидывая, когда загонять машину в гараж до весны. Наконец в салоне потеплело, он потихоньку вырулил на дорогу и не спеша покатил по пустынным улицам.
Ему было жаль, что Тарас уезжает, но он думал, что хорошо, если живет в Заполярье человек по фамилии Клешнин, которому ничего не надо долго объяснять.
В замочную скважину была всунута записка. Перелыгин развернул сложенный вчетверо листок в клеточку: «Приезжай. А». Он хотел зайти домой позвонить Анечке – не поздновато ли? Но передумал, сунул записку в карман и сбежал вниз по лестнице.
Глава двадцать вторая
Пунктир времени
Создана Межклубная партийная группа, объединения коммунистов – членов неформальных клубов и организаций.
«Правда» печатает неподписанную статью-отповедь Александра Яковлева Нине Андреевой.
Создано совместное советско-финское предприятие с финской фирмой «Валио».
В Женеве подписаны документы по политическому урегулированию положения в Афганистане.
Создано совместное советско-американское предприятие СТЕРХ, которое будет снабжать предприятия по производству минеральных удобрений средствами управления технологическими процессами.
В Ялте прошел митинг против мафизации местных властей.
В Будапеште подписано соглашение между СССР и Венгрией о развитии взаимного обмена товарами народного потребления и дополнительный протокол об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.
М. Горбачев принял в Кремле Патриарха Московского и всея Руси Пимена и членов Синода Русской Православной Церкви.
Градов прилетел по срочному вызову Пухова, но перед встречей заглянул к Пугачеву. Положил на подоконник объемистый сверток.
– Дары природы, – похлопал он по свертку рукой. – Не знаешь, с какой стати меня выдернули? Никто ничего не говорит… – Пожал плечами. – Не припомню такого.
– Дурные вести быстрее ветра, – ухмыльнулся Пугачев, – стало быть, не беспокойся. С новым прииском что-то, наверное. Решили тебя, старого бобра, поближе к свету из норы тащить. Металла там пшик, но земли кидать не перекидать. И Нера – не ручеек какой-нибудь, на гоп-стоп не ухватишь. Но приспичило! Деньги нынче дают, если в ногу с прогрессом шагаешь. Такие времена. – Пугачев ехидно хмыкнул. – Не прииск, а картинка из рекламного журнала, залюбуешься, а ты с министром ручкаешься – вот и понадобился.
– Как знать, как знать… – задумчиво сказал Градов. – Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Пойду, – кивнул он, – судьбе навстречу, после поговорим.
Пухов, когда он вошел, приветливо встал, протянул крепкую ладонь.
– Не пора ли, Олег Олегович, тебе о славе задуматься, – начал он, – имя свое в святцы занести?
– Мне туда путь заказан, – покачал головой Градов. – Грешен, заповеди нарушаю. А старателя – если и не в святцы, то хотя бы на пьедестал. Памятник, к примеру, ему золотой отлить давно пора, вот только слава нам противопоказана. От нее у компетентных органов сильно в разных местах зудит. Воображение воспламеняется, а золотишко тишину любит.
– Пора, пора перебираться. – Пухов неожиданно заговорил об Унакане.
– Кому же принадлежит сия блестящая идея? – спросил Градов.
– На всякий случай не забывай, впереди тяжелые времена. – Пухов навалился грудью на стол. – Средства урезают, а затраты растут.
– Выходит, государству наплевать на сотню тонн золотишка? Где подешевле взять хочет, может, на Лондонской бирже?
– Не резвись, – строго заметил Пухов. – Реально посмотри. Сколько лет Унакан перед носом маячит, как морковка. Сто тонн или больше – неизвестно. Одни предположения. Над ним проклятие какое-то. Только начнут подбираться, обязательно что-нибудь помешает.
– Если прогноз близок к правде, – помолчав, откликнулся Градов, – хорошему руднику лет на тридцать работы, а то и поболе.
– В такие дали не заглядывай.
Градов понял, что Пухов темнит. Он мечтательно закинул голову и с азартом сказал:
– А я пожил бы еще лет сто. Хочется посмотреть, как все устоится. Меня, помню, учили, что бытие сознание определяет, а теперь, выходит, наоборот. Говорят, пора тебе, Градов, сознание перестраивать, отстало оно. Я не понимаю, как у всей страны может сознание отстать.
– Не веришь, значит? – Пухов поднял насмешливые глаза, подумав, что в Градове скрывается очень большой актер.
– Скорее, не понимаю. У старателей незыблемый принцип: как потопаешь – так и полопаешь. Люди такой подход одобряют – ко мне в артель со всей страны очередь, значит, правильное у меня сознание, можно сказать, народное, если народ ко мне тянется. – Градов помолчал, молчал и Пухов, угрюмо рассматривая какой-то список на столе под стеклом. – Чудно, – снова заговорил Градов. – Во все времена перемен жесткий порядок требовался, чтобы так: сказал – сделал, а мы бузу разводим. До какой дури надо дойти, чтобы начальство себе выбирать. – Градов тряхнул головой, проведя рукой по шикарной шевелюре, в серых глазах его мелькнуло злорадство. – Или тут не дурь?
Пухов чувствовал усиливающееся раздражение на себя за то, что вынужден юлить и обманывать. Всю жизнь он искал и добывал золото, ничего другого не умел и не хотел уметь. Такое дело в жизни выпадает однажды – он не знал людей, добровольно бросивших геологию, и никогда не ставил под сомнение раз навсегда усвоенную теологом истину: золото – это валюта, принадлежит государству и только ему.
На его долгом веку всякое случалось: разубоживались месторождения, золото затаптывали, оно уходило в отвалы, в войну менее десяти граммов на кубометр просто не мыли. Что говорить, всякое бывало.
Но сейчас все иначе. И он, Пухов, старается впрячься в сорокововскую тележку, вот и Градова обрабатывает, авось пригодится – лучшего председателя для такой авантюры не найти. Но сейчас не война! Золота больше не стало, а он готов помалкивать, готов! Напоминает о себе возраст или выработанная годами привычка исполнять? Как случилось, что интересы партийного секретаря и государства вдруг разошлись на незыблемой, казалось бы, своей основе – на недрах. Что последует дальше – там, где добывают нефть, газ, медь, никель…
«Он ведь тоже не согласен?» – Пухов внимательно посмотрел на Градова, словно искал в его глазах ответы.
– Вряд ли буду полезен, – сказал Градов, выдержав взгляд. – Я мог бы рискнуть, но не против принципов. Меня проверяли десятки раз, и кроме мелочей ничего не находили. – Пухов заметил, как глаза Градова вспыхнули злым блеском. – Ради чего риск? Мы хороним страну? В противном случае что получит государство? – Градов помолчал. – А давайте сами проведем горные работы под разведку и бухнем им на стол эти сто тонн! – Он торжествующе, довольный собой и неожиданной идеей, выпрямился, приосанился, в голосе послышался вызов. – Ради такого можно и рискнуть! Тут – или грудь в крестах, или голова в кустах. Кое-кто кипятком бы записал.
– Как бы нам с тобой, герой, кровью не обосс… – неожиданно выругался Пухов.
– Можно министру идейку подбросить неофициально, – не обратив внимания на слова Пухова, сказал Градов, – я-то, грешным делом, решил: для того и понадобился – шептуном поработать. А может, все-таки шепнем?
– Нам еще только Минцветмет с Мингео лбами столкнуть! – Пухов недовольно поерзал на стуле. – К тому же, боюсь, поздно, но наш разговор не окончен.
Градов пришел к Перелыгину, с порога заявив, что сыт, из напитков егодня предпочитает чай, что-нибудь покрепче они употребят, когда он прилетит встречать Новый год, а сейчас предстоит разговор.
– Сопроводи на кухню, где и предадимся дружескому общению, – скомандовал он, театрально сбрасывая пиджак. – Такие беседы интеллигентные люди с момента переезда из коммуналок в отдельные квартиры ведут там. Плита, опять же, рядом.
Пока Перелыгин возился с чаем, Градов, стоя у окна, болтал о батагайских новостях, про Тамару, которую видел, по его словам, лишь мельком, а когда они уселись друг против друга, нарушив предостережение Пухова, рассказал об их встрече.
Жизнь Градова представляла собой череду парадоксов. В них можно было отыскать присутствие воли, страсть в работе, постоянную готовность с блеском рискнуть, обмануть или, как он выражался, подправить ошибку Фортуны, а еще – соблюдение и уважение неписаных правил северной жизни. Он числил себя в промежутке времени, где считалось нормальным вырваться за предел, плеснуть через край, пробуя себя в разных обстоятельствах, когда цель оставалась побочным результатом. Главным же была готовность схватиться с жизнью, не утруждаясь в выборе средств, ради бравады, которой и насладиться толком нельзя. Он пошел на сумасшедший риск – вывез десять килограммов золота. Красиво и нагло. Проявил личное хулиганство – схлестнулся с системой, нарушив все мыслимые законы и правила, поставив на кон жизнь.
Но в предложении Пухова Градов увидел далекие последствия. «Они, чего доброго, повышенные обязательства брать начнут», – ёрничал он после разговора с Пуховым. Его нутро бунтовало, он почувствовал: тут граница, пересечешь ее – и конец, гибель. Не его конец и гибель, а дела, ради которого они вкалывают, мучаются, обманывают, нарушают инструкции, ходят под статьей. Предложение Пухова лишало смысла прошлое, а значит, и будущее.
Он не поверил, что предложение исходит от директора. Пусть Пухов сам за себя решает, но он будет решать за себя.
– Я-то думал, меня хотят на новый прииск засунуть, а тут, видишь, какой вираж… – Градов умолк.
– Что собираешься делать?
– В эту компанию не пойду! Громких слов говорить не могу, ибо грешен. Хапнуть и смыться – не для меня. Любопытная мыслишка мелькнула в голове. – Градов грустно вздохнул, отхлебнул чай из чашки. – Сначала шальной показалась, но, может, не такая и шальная: может, именно это и подразумевают, когда нам с утра до вечера звенят про перестройку сознания. Хотят, чтобы мы начали делать то, чего делать до сих пор было нельзя, за черту шагать, все с ног на голову перевернуть.
«Все-таки Градов умница», – мысленно отметил Перелыгин. Надо встречаться с Мельниковым – история обрастала плотью, принимала внятные очертания. «Возможно, он прав, – думал Перелыгин. – Это первый толчок – предупреждение. Новое мышление, материализованное в ясное намерение».
– Легко рушатся идолы нашей морали, идеалы, если хочешь, – зло сказал он. – Незыблемое вчера сегодня оказывается отжившей своё рухлядью. Мне интересно, по какой причине не мы с тобой это придумали, может быть, догматизм в нас сильно укоренился? Но я себя догматиком не считаю, и мне как-то не по себе.
Градов вспомнил знакомство с Перелыгиным. Он тогда сам захотел этой встречи. Несколькими годами ранее у него случился короткий роман с Тамарой, однако она отказалась от продолжения. Он переживал, но понимал, что, пока женат, рассчитывать не на что. Даже подумывал о разводе… и тут появился Перелыгин. Скрыть что-либо в Поселке было невозможно. Градов, узнав об их отношениях, не подал виду, а решил поближе познакомиться с Егором. Он позвал его в Сочи, приглашал на охоту, придумал переход в другую газету. Не помогло. Тамара стала летать в Городок. Сначала это его бесило, но, повинуясь внутреннему интуитивному чувству, он не стал разрушать похожие на дружбу отношения с Егором, наоборот, сильнее сблизился с ним. И вот сидит на кухне и говорит как с близким другом о вещах, не предназначенных для посторонних ушей.
– Было «дальстроевское» золото. – Градов выбил дробь кончиками пальцев по столу. – Но это было мобилизационное золото – его вынь да положь, хоть кровь из носу. А потом государство почесало затылок и придумало гениальную схему: госдобычу и артель как два сообщающихся сосуда, чтобы дешевым старательским граммом покрывать расходы на инфраструктуру госдобычи. Знаешь, в чем сила и жизнестойкость этой системы? – Градов вытянул ноги, приняв позу утомленного человека. – В том, что всегда найдутся те, кто готов жить в бараке, терпеть неудобства. И есть те, кто хочет и здесь жить семьей, растить детей, учить их, любить жену, получать от жизни удовольствие. Мы отрасль построили, потому что соблюдали правила, которые оказались верными. – Градов подумал, что сам нарушал множество правил и инструкций, но не почувствовал неискренности или лукавства в своих словах. – Нет, – сказал он, – правила вмиг рушить нельзя. Надо еще понять, к чему смена приведет, а решение можно отменить.
– Труднее всего отменить глупые решения, – заметил Перелыгин, соглашаясь с Градовым.
За окном стоял декабрь, от мороза замерзали термометры, но они сидели в теплой квартире, напротив – в ресторане – веселились люди, а кто-то сейчас плавал в бассейне, в спортзалах занимались спортом, в музыкальной школе детишки осваивали премудрости нотной грамоты – всего за два с небольшим десятка лет на дикой реке. И хотя много наделано ошибок, плохое забывается, но есть на что оглянуться и убедиться, что вектор движения выбран верный.
– За глупым решением, как и за умным, всегда кто-то стоит. – Перелыгин с хрустом разломил сушку. – А кому охота признаваться в собственной дурости.
– Мне показалось… – Градов помолчал, припоминая детали разговора с Пуховым, – решения пока нет. Он прощупывал меня, но прощупывал всерьез.
Они уже начинали понимать, что тревога исходила не от Пухова или Сороковова, а Унакан – лишь пробный камень, готовый покатиться по склону, вызывая обвал или снежную лавину. И что ложь способна легко преобразиться в истину, а после, как всякая истина, противостоять и правилам, и морали, и принципам, разрушая, лишая их смысла.
Глава двадцать третья
Пунктир времени
В «Новом мире» вышла статья В.Селюнина «Авансы и долги» с критикой Маркса и Ленина.
В Улуг-Хемском угольном бассейне (Тувинская АССР) открыто новое месторождение, запасы которого составляют 20 млрд. тонн.
В одной из московских квартир прошла II конференция редакторов «самиздата».
Состоялся слет левых неформалов южной России в Горячем Ключе.
Начался вывод из Афганистана ограниченного контингента советских войск.
В Гаване подписаны конвенции развития внешнеэкономических связей между СССР и Кубой на 15–20 лет.
Пленум ЦК КПСС обсудил проект тезисов ЦК к XIX Всесоюзной партийной конференции. Пленум перевел из кандидатов в члены ЦК КПСС В.В. Карпова – первого секретаря правления Союза писателей СССР.
Б. Ельцин освобожден от обязанностей члена Президиума Верховного Совета СССР.
Вступил в силу Закон «О кооперации».
Ратифицирован Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Открыт «Гайд-парк» у комбината «Известия».
Начался суд над Ю. Чурбановъш, заместителем министра внутренних дел СССР (зятем Л.И. Брежнева).
Создан Национально-Патриотический фронт (НПФ) «Память».
На встречу с Перелыгиным Мельников пригласил Любимцева. Они собрались в неприметном домике, километрах в двадцати от Городка на левом берегу Золотой Реки, где можно спокойно поговорить, не привлекая внимания. Баню решили не топить: мороз давил под полтинник, на дворе декабрь. Стояла приполярная ночь, когда серая мгла, сменившая темноту на пару часов, считается днем.
Перелыгин поехал с Любимцевым. Они спустились на зимник, проложенный вдоль левого берега. Лед почистили, зато долину кутывал густой туман – верная примета мороза.
Снег вокруг был исчерчен заячьими следами. Зайцев водилось великое множество. Как только южные склоны сопок начнут освобождаться от снежного покрова, они потянутся млеть под солнечными лучами на черных проталинах, будто комочки прошлогоднего снега. Иногда сопки расступались, открывая русло сезонного ручья, питающегося горными снегами, словно дорожку неизвестно куда.
Неподалеку от домика, невидимого с Реки, на льду, как скворечники, чернели три деревянные будочки, сколоченные из старых досок. Вместо крыши – полиэтиленовая пленка. Рыбаки поставили свои нехитрые сооружения еще по осеннему льду. Каждая будка скрывала одну-две лунки. Достаточно разжечь примус – и сиди себе на ящичке в одном свитере, таскай рыбку с комфортом.
Дверь была закрыта на палочку. В промерзшей печи, по обыкновению, лежали дрова, в прихожей Перелыгин нашел бутылку с бензином, в углу – ветошь. Полил ее бензином, сунул под дрова, а когда в печи загудело, уменьшил тягу.
Свет в оконца едва проникал, поэтому зажгли сразу две керосиновые лампы, огляделись: «хищники» тут не побывали – все содержалось в порядке. Дом был довольно большой, с прихожей-кладовкой, просторной комнатой и спальней с топчаном за тонкой перегородкой. У дощатого стола стоял еще один топчан, с другой стороны к стене крепились нары; на железном столике возле печки – примус; в похожем на часть старого буфета шкафу на стене – какая-то посуда. Под нарами – сундучок с консервами, сушеной картошкой, луком, мукой и бутылкой спирта.
На подоконнике стояла жестяная банка из-под ананасового компота с ровно обрезанными краями. На ней висел на языке замерзший лемминг – небольшой коричневый зверек, напоминающий мышь. Перелыгин заглянул в банку – она была наполовину заполнена пшеном. Он легко представил разыгравшуюся здесь маленькую трагедию: лемминг, стараясь добраться до крупы, подпрыгнул, ухватившись зубами за край ледяной банки, и язык его мгновенно намертво прилип к металлу. Несчастный грызун, вероятно, как мог, боролся за жизнь, но помощи ждать было неоткуда.
Когда подъехал Мельников, на печи уже пофыркивал чайник, в литровой стеклянной банке настаивалась заварка, а в доме потеплело.
Мельников рассказал о ситуации, ни словом не обмолвясь о тетради Вольского, и Перелыгин понял: этой истории он больше не придает значения.
– Если кратко суммировать, – Мельников как обычно говорил, тщательно подбирая слова, с легким налетом педантичности, – то складывается следующая картина: Сороковов на конференции заручился прогнозом по Унакану, но для разведки нужны деньги. Их может дать только Москва. Если денег не будет, Ямпольский подготовит заключение о неперспективности месторождения. Его передадут Комбинату для разведки собственными силами, привлекут старателей, фактически начнут добычу без разведки. Но это – лирика. – Скуластое лицо Мельникова напряглось, светло-серые глаза кольнули сталью. – Ее к делу не пришьешь, а то, что на фабрику везут руду для опробования оборудования, – мизер, ловленный с длинным паровозом, килограммов на сто пятьдесят золота. И это криминал.
В доме стало совсем тепло. Вместе с запахами каких-то трав возникло неповторимое ощущение уюта, которое всегда возникает в тепле, когда кругом холод.
«Случись такое пораньше, даже года три назад! – подумал Любимцев. – А теперь поздно. Теперь это сигнал крысам бежать с корабля. Где-то варятся крупные решения по отрасли, и Сороковов что-то знает».
Он больше не испытывал готовности драться – пусть делают что хотят, мешать он не будет, изменить ничего невозможно. Его дни в исполкоме сочтены. Но и отговаривать Мельникова он не хотел, с удовольствием думая, что не ошибся, относясь к нему с симпатией, – рисковал сейчас именно Мельников, и рисковал как последний идеалист.
Мельников заговорил, прервав размышления Любимцева. Он говорил рассудительно, но с иронией, не оставляя сомнений в продуманности своей позиции, убежденный, что его поймут.
– Я хочу поставить в известность свое начальство, – сказал Мельников, отметив, как напряглись лица собеседников. – Это можно сделать прямо сейчас, а можно после начала обогащения. Скажу откровенно, последствия неясны.
Он не хотел уводить разговор в сторону, объясняя, почему приходится действовать в одиночку. Мельников был уверен: стоит ему заикнуться, информация немедленно уйдет в управление. Поэтому он решил поговорить с Любимцевым и Перелыгиным – кому доверял.
– Интересные дела! – вскинул брови Перелыгин. – Если мы тут все заединщики, предлагаю решить оба главных вопроса: кто виноват и что делать? – Он потер ладони. – Лучше места не отыскать. – И, оглядев всех насмешливым взглядом, продолжил: – Первый вопрос сомнений не вызывает, а касаемо второго, думаю, надо подождать начала обогащения и прихлопнуть с поличным.
Любимцев кивнул, удовлетворенно взглянул на Перелыгина. Егор был готов к драке.
– Хочешь вселенского шума? – покачал головой Любимцев. – Тебе и строчки написать не дадут.
– Нет. – Перелыгин откусил карамельку, запил чаем. – Я выгоды не ищу, но, чтобы дело на тормозах потихоньку спустили, как-то не хочется. У нас только через большой скандал можно чего-то добиться, чтобы дым до самого верху.
– И куда дымить собираемся? – ухмыльнулся Любимцев, думая, что, по сути, Егор прав, но общественного резонанса мало, нужны силы посерьезнее. Здесь их никто не поддержит: одни хвост подожмут, другие за честь мундира встанут.
– Не в родную газету, естественно. – Перелыгин взмахнул рукой. – Я – не камикадзе. Это моя часть заботы, хотя… – Он запнулся. – Потребуется точка опоры.
– Верно, – откликнулся Любимцев. – Мы замахиваемся на Комбинат, а Сороковов ускользнет – он распоряжений не отдавал.
– Пускай выкручивается. – Перелыгин встал, бросил несколько поленьев в печь, сидя на корточках, посмотрел, как огонь лизнул свежее поленце с одной стороны, прошелся по нему с другой, примеряясь, прежде чем впиться в жертву, превратить в мерцающие угли, золу и сгинуть в ней, не оставив после себя ничего. – Пускай, – повторил он. – Большой шум охоту лезть без разведки на Унакан надолго отобьет.
– Или ускорит, – серьезно сказал Любимцев. – Та ли печка Сороковов, от которой надо плясать? Большой шум, Егор, бросит тень на Комбинат, на многих людей…
– Они не дети, – перебил Перелыгин. – Должны понимать, что делают.
– Так-то оно так… – Любимцев неторопливо достал из нагрудного кармана пиджака маленькую расческу и принялся старательно водить ею по усам то в одну, то в другую сторону, затягивая паузу, чтобы додумать какую-то тревожащую его мысль. – Иногда… – Он убрал расческу. – Вещи, которые нам поначалу кажутся простыми, заканчиваются катастрофами. Мы вступаем в войну на уничтожение: или мы, или Сороковов. В случае победы нам с тобой, пресса, памятник не отольют. – Он подмигнул Перелыгину. – Можешь не сомневаться. Ты готов сняться с места? А мне скоро полтинник, пять лет до пенсии, мое время прошло, и я больше нигде не нужен. – Он сосредоточенно подергал пальцами пуговицу на рукаве пиджака, будто проверяя – хорошо ли та пришита. – Сороковов мимо Пухова ничего не сделает, поэтому крайним окажется Пухов. А он, хотя и не боец, мужик правильный и такого подарка не заслужил.
– А не может Пухов как-нибудь письменно или публично выразить свое несогласие, высказаться, что ли, по этому вопросу? – спросил, склонившись над кружкой с чаем, Мельников.
– Он этого не сделает, – покачал головой Любимцев, – руда уже на фабрике.
– А если зайти с другой стороны? – оживился Перелыгин. – Я могу сделать с Пуховым интервью.
– Не забудь поинтересоваться, много ли он собирается левого золота получить. – Любимцев недовольно поморщился.
– Не будем мыслить примитивно. – Перелыгин уже знал, как подведет Пухова к теме неперспективных месторождений и включения их в отработку. – Нужен всего один абзац.
– Он сам этот абзац и вырубит, – усмехнулся Любимцев. – И правильно сделает – не носи камень за пазухой.
– Визировать или нет – мое дело. – Перелыгин пропустил подколку Любимцева. – Но лучше с ним поговорить по-человечески. Согласен?
– Хорошо. – Мельников встал, приоткрыл дверь, в разогретую комнату рванулись белые клубы морозного воздуха, выплеснул остатки чая из кружки, налил свежего кипятка. – Думаю, самое правильное мне ехать к начальству.
– И доказать ему, что дважды два – пять, – напряженно пробурчал Любимцев.
– А вы что предлагаете? – Мельников подчеркнуто плавно, спокойно отхлебнул горячего чая.
– Не знаю! – мгновенно после слов Мельникова, ударив ладонью по столу, почти крикнул Любимцев. – Не з-на-ю, – уже спокойнее, но твердо повторил он. – Думать надо, вы хотите кинуться на танк с ручной гранатой.
Теплое чувство внутреннего родства к этим людям грело душу Перелыгина. Они знали, чего хотят, но самое трудное выпадало на долю Мельникова. Неуместные, высокопарные слова вдруг завертелись в голове, слова, которые он старательно вытравлял из своих текстов.
Однажды с Перелыгиным, когда секретарем райкома был Михайлов, из-за этого произошел казус. Михайлов попросил подправить стилистику в докладе для пленума – любил блеснуть нестандартностью. Перелыгин добросовестно вымарал казенные обороты, переписав их нормальным языком. Михайлов почитал и, покачав головой, сухо сказал: «Доклад – не очерк, а у вас получилось… – Он пощелкал пальцами, подыскивая нужное слово. – Слишком по-человечески, что ли». И больше с подобными просьбами не обращался.
Но сейчас, как Перелыгин ни призывал себя успокоиться, рассуждать трезво и здраво, он восхищался твердостью Мельникова, который ставил на кон офицерскую карьеру ради долга. «И это, черт возьми, – думал он, – не пустые слова».
Неожиданно с Реки послышался тяжелый гул, задрожал пол. По зимнику автопоездом шли несколько нагруженных «Татр», легко узнаваемых по характерному посвистыванию при переключении передач. Беседа на некоторое время прервалась – слушали, как гул удалялся и наконец растворился в белом пространстве.
– Надо лететь в Москву, – нарушил тишину Любимцев.
Его слова прозвучали так неожиданно, что Мельников поставил на стол поднятую было кружку с чаем и пристально уставился на Любимцева. Он уже продумывал разговор с генералом – начальником республиканского управления. Его позиция и аргументы казались весомыми и убедительными, он почти готов был сыграть эту партию – факты неотразимы. Но лететь на Лубянку? К кому? Не к председателю же! К кому-то из замов, но захотят ли они разговаривать с ним? Он явится, нарушив инструкции и субординацию, без вызова, через голову непосредственного начальства, бросая и на него тень недоверия. И с чем?! С делом на секретаря райкома партии, на которого не имеет права собирать компромат. Нет, о Москве он не думал. Любимцев не понимает, что с ведомством шутки плохи, его могут попросту отправить назад для доклада собственному начальству. Тогда и затея рухнет, и он пропадет зазря.
– Невозможно, – сказал Мельников с натянутой улыбкой. – Мы люди военные, я не могу сказать: мне к заместителю председателя комитета по срочному делу. Это даже не с ручной гранатой на танк. – Он повернулся к Любимцеву: – С рогатиной. Храбрых дураков, конечно, много, но мне не хотелось бы оказаться среди них.
– Здесь от вашей храбрости толку не будет. – Любимцев побарабанил пальцами по дощатому столу, накрытому затертой бледно-зеленой клеенкой в крупную клеточку. – Ваш генерал первый сообщит в обком, а что там сделают, объяснять не буду. Вы где на партучете стоите?
– Здесь, конечно, – кивнул Мельников.
– Вот и генерал ваш тоже помнит, где состоит, и службу не хуже понимает, чтоб на обком такую телегу выкатить. Замочалят, попомните мое слово. Прикрыть от генерала вас может только Москва. Надо лететь. – Любимцев почувствовал, что ему становится жарко, и скинул пиджак. – Хватит топить, – сказал он, заметив, что Перелыгин опять собрался подбросить в печь поленьев. – Жара, как прошлым летом в Коктебеле.
– Пар костей не ломит. – Перелыгин прикрыл дверцу поленом, бросив его рядом с печью. – Кстати… – Он подошел и остановился около стола. – Время подготовить поездку есть. До Нового года обогащать руду не начнут – профилактика на фабрике в январе, к ней и приурочат, но главное… – Он бросил интригующий взгляд сначала на Мельникова, потом – на Любимцева. – Сороковое посылает Рощина в Москву, в Мингео, и меня вместе с ним. Последняя попытка.
– Почему молчал? – ворчливо пробурчал Любимцев, глядя в стол.
– А что это меняет? – деловито заметил Перелыгин. – Руду обратно не увезешь. Пусть Сороковов еще раз попробует закрутить роман с Мингео. В конце концов, это его шанс. Мы же не с ним воюем. – Карие глаза Перелыгина хитро сверкнули. – Нам за державу обидно.
Любимцев с Мельниковым одновременно с долгим интересом посмотрели на Перелыгина. Он даже растерялся, забыв, какой глаз у Любимцева косит, из-за чего всегда трудно понять, каким именно глазом он смотрит на тебя в данную секунду.
«А ты, парень, растешь, – подумал Любимцев, – матереешь, тебе палец в рот не клади».
– Ну что, – встретившись взглядом с Мельниковым, весело сказал он, – даем добро приступить к выполнению задания?
– В сундучке под нарами есть спирт, – сообщил Перелыгин, придав лицу легкомысленное выражение. – Не освежить ли нам души, утомленные заботами?
Любимцев кивнул, улыбнувшись. «Растет, определенно растет», – подумал он.
– Подождите. – Мельников поднялся из-за стола и вышел. Через минуту вернулся с бутылкой армянского коньяка и металлической коробкой из-под печенья. Он открыл коробку. В ней аккуратно завернутые в пергамент лежали бутерброды.
– Давайте оставим коньяк хозяевам за приют, – предложил Любимцев. – Доставай, пресса, спиртишко, причастимся за удачу.
Перелыгин плеснул по кружкам спирт, Любимцев добавил воды из растопленного снега, они сдвинули кружки, обменялись взглядами. Отныне их прочно связал этот охотничий домик в распадке у Золотой Реки, откуда незримые нити потянулись до самой Москвы. Они выпили, на мгновенье плотно сжав губы, выдохнули и схватились за бутерброды. Спирт ожег желудок, рванулся в кровь и побежал к голове и ногам, обдавая тело теплом. Некоторое время они сосредоточенно жевали, затем Любимцев заткнул початую бутылку пробкой и сунул ее вместе с коньяком в сундучок, задвинув под нары.
За окошками темнота поглотила дневной полумрак, затихла прогоревшая печка. Хотелось посидеть, поболтать ни о чем, еще выпить. Пресекая это желание, Мельников встал.
– Пора, – сказал он. – Если не возражаете, я поеду первым.
Через несколько минут после его ухода они занесли из прихожей дрова, сложили у печки, загасили лампы и вышли на улицу. Вдыхая обжигающий морозный воздух, Перелыгин спросил:
– Думаешь, получится?
– Сейчас о Конторе много разного пишут… – Любимцев поправил шапку. – Паника в ней, похоже, нешуточная, а в суете легче нужную дверь найти. Но это в Москве. Здесь затаились и ждут, здесь все по-старому, здесь его сдадут – не успеет и рта открыть.
– Знаешь, Лавренюк к Клешнину улетает работать, – Перелыгин пнул унтом комок снега, – хочет отсидеться.
– Бежит, значит… – Любимцев помолчал, достал из кармана платок, промокнул заслезившийся на морозе глаз. – Да, – сказал он кому-то в темноту, – Клешнин есть Клешнин. – И, шагнув к машине, подтолкнул в спину Перелыгина. – Ладно, поехали.
Глава двадцать четвертая
Пунктир времени
На станции Арзамас-1 произошел взрыв трех вагонов, перевозивших 117,6 тонн промышленных взрычатых веществ. Воздействию взрыва подверглись около 1000 домов, повреждено 49 детских садов, 14 школ, 2 больницы, 69 магазинов и других объектов. Погиб 91 человек, из них 12 детей, травмировано более 700 человек.
В Богоявленском патриаршем соборе в Москве начались юбилейные торжества, посвященные 1000-летию принятия христианства на Руси.
Начата разработка новой литовской Конституции в Академии наук Литовской ССР.
Экологическая демонстрация в Казани против танов строительства биохимзавода.
Осуществлен запуск космического корабля «Союз-ТМ-5» em>на космическую станцию «Мир».
После реконструкции принял посетителей музей-заповедник А.С. Пушкина в Болдино.
В Москве открылась XIX Всесоюзная конференция КПСС. Впервые публично обвинен в коррупции ряд делегатов конференции. Принят проект конституционной реформы: создание двухуровневой представительной системы – Съезда народных депутатов СССР (2250 депутатов) и Верховного Совета СССР (554 члена) и учреждение поста Президента СССР.
Получена первая партия апатитового концентрата на новой обогатительной фабрике ПО «Апатиты». С пуском фабрики мощность предприятия достигла 2,8 млн. тонн фосфатного сырья в год.
Городок готовился к Новому году. Сбивались компании, назначались встречи по часовым поясам – «приходи, встретим по-уральски», кто-то отмечал каждый час, а самые выносливые держались до восьми утра, когда Новый год добирался в Москву. Старожилы вспоминали веселье за столом во весь барачный коридор, с пластинками, баяном, танцами, елкой, украшенной самодельными игрушками.
Люди сновали по магазинам. Таежники смотрели на эту суету презрительно: в их гаражах дожидалась праздника рыба, оленина, зайчатина, сохатина, а то и кусок медвежатины. Умаявшись от полярной ночи, все жаждали праздника, света, красивой одежды и задушевного веселья.
Этот конец года для Любимцева был похож на предыдущие. Он сопровождался штурмовщиной при сдаче домов – на стройки отовсюду посылались люди, способные помочь. 31 декабря приемочная комиссия, довольная обедом, подписывала акт приемки с перечнем недоделок. В «клеточку» отчетов влетала красивая «птичка», извещающая о сдаче объекта, а окончательная доводка переносилась на начало года. Так было всегда – невозможно соорудить жилой дом строго по графику, если зависишь от природы и тысячи причин. Годами здесь следовали простой логике: сделай дело, а как – на то у тебя и голова. Понятие «нормально» имело здесь иной смысл и значение, нежели для большинства мест страны.
В этом году сдавалось несколько домов, Любимцев убедил строителей провести штурмовщину организованно, всем миром, как поступали в трудные моменты. Как той ночью, когда в лютый мороз в котельной взорвался котел. Спасти десятки квартир можно было, только перебросив двести метров теплотрассы от другой котельной. Любимцев пошел по домам. В запасе было всего часа три-четыре, и сотни людей вышли спасать микрорайон геологов. Сейчас та ночь припомнилась ему, потому что ни один привлеченный со стороны на стройки не вышел.
Свирепый, он приехал в райисполком и поднялся в кабинет. В приемной навстречу ему поднялась Эля – яркая женщина лет тридцати. В глазах цвета спелой вишни угадывалось, что они хорошо знали мужские желания и готовы рассмеяться над ними в любую секунду. Черные волосы аккуратно подстрижены. Поверх белой шелковой блузки короткий жилет из черного велюра, такая же велюровая узкая юбка, подчеркивающая достоинства фигуры, туфли на высоком каблуке, – образцовая секретарша.
– Звонил Сороковов, – пропела Эля, улыбаясь широко посаженными глазами на смуглом лице. – Чаю?
Любимцев молча скрылся за дверью кабинета, сбросил на стул дубленку. Сороковов спешил «помочь» ему завалить сдачу жилья. Формально не придерешься, а лицемерие к делу не пришьешь.
Месяца два назад к нему зашел начальник СМУ Крутицкий. Жаловался, что Сороковов запретил использовать на объектах привлеченных из других организаций.
«Выживает меня, – возмущался Крутицкий. – Знает, что сам не справлюсь».
«Тебя так и так схарчат, – успокоил его Любимцев. – Хотят гонор сбить, научить писать с наклоном, говорить с поклоном, а ты ерепенишься, хочешь все махом перевернуть. Надо помочь тебе график завалить, и ты его завалишь. Он ждет, что я брошусь тебе помогать, и хочет одним выстрелом хлопнуть двух куропаток. Но я тебе помогу, – ухмыльнулся Любимцев. – Порочными методами. Они, может, где и устарели, а у нас в самый раз. Других не придумали».
Про себя Любимцев наступившее время определил как «смутное». Ветер смуты надувал паруса Сороковова, который поступал так, как до него здесь не поступали.
В кабинет заглянула Эля.
– Входи, – Любимцев неопределенно махнул рукой. – Налей… там.
Эля понимающе направилась к шкафу, а он рассматривал ее ноги, туфли на высоченных каблуках, думая, что их давнюю связь, о которой мало кто не знал, ему тоже припомнят. Это Клешнин мог вытащить его с прииска вместе с любовницей. Клешнин вел себя как вожак прайда: снисходительно взирал на шалости в большой семье, но стоило кому, заигравшись, высунуться больше положенного, следовал удар тяжелой лапой.
– Что-то случилось? – Эля налила коньяк в тонкий стакан в серебряном подстаканнике.
– Похоже. – Любимцев встал из-за стола, взял стакан, прижимая большим пальцем ложку, отхлебнул похожий на чай напиток. – Придется тебе работу искать.
Они познакомились почти сразу после ее развода. Элина внешность притягивала мужчин, что вызывало поначалу глухую, а с годами – яростную ревность мужа. В конце концов он стал ее бить.
Любимцев набросился на нее, словно она и была женщиной его мечты. Устоять против такого натиска было невозможно. Он посадил ее в приемную, помог получить отдельную квартиру. Одно время она подумывала выйти за него. Он твердо пресек эти намерения, хотя они уже привязались друг к другу. Их жизнь текла в одном русле. Это русло иногда разбегалось, делилось на протоки, закладывало петли, вновь сходилось, и тогда они полной мерой испытывали радость своих отношений. Но теперь наступало дурное время.
Через два дня Любимцев внезапно почувствовал себя плохо и с направлением врача вылетел в Якутск на обследование, а еще через три в аэропорту Городка его встретила «скорая помощь» и увезла в больницу. На самом деле со здоровьем все было в порядке. «Спектакль» разыграли по совету верных людей. Он написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья» и еще через день стал директором строящегося прииска и одновременно заместителем Пухова, с которым назначение согласовали по телефону.
Группировки внутри системы по-прежнему умели действовать решительно и жестко. Любимцев был испытанным кадром, и учинять над ним расправу, набирая тем самым вес, Сороковову не позволили. Золотари блюли свои интересы. По чистой случайности в день возвращения Любимцева в Городок на бюро должен был слушаться вопрос о выполнении графика строительных работ, который пришлось снять.






