Проклятие Индигирки Ковлер Игорь
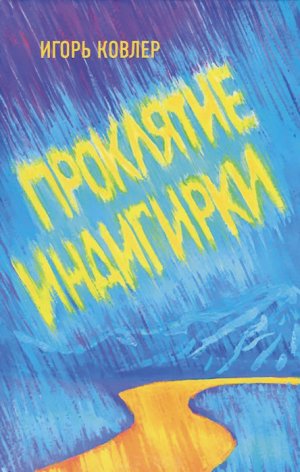
В ту ночь Илья долго не спал, испытывая счастливую жгучесть внутри, будто стакан спирта гулял по крови. Он вышел из палатки, подпалил костер. Стояла ясная, чистая ночь. Где-то у горизонта уже маячила осень, луна катилась по сопкам. В черном небе ярко светила Полярная звезда.
Спустя всего два месяца рудное тело вскрыли в коренном залегании. А еще через три года – немыслимые темпы – разведка была завершена. Запасы передали для освоения. Деляров плюхнул в руки Клешнину золотосурьмяного «сиамского близнеца».
Близилось время наград. Клешнин требовал Делярову Героя, но наверху сочли – слишком молод, и дали орден Ленина, правда, с Государственной премией.
Пора было строить комплекс – рудник и фабрику. Тут-то и выяснилось: никто еще в таком климате ничего подобного не строил, даже не проектировал.
«Сколько ждать прикажете?» – недовольно поинтересовался Клешнин. «Постараемся года в два уложиться, – ответил директор проектного института. – Быстрее сделать невозможно, нет такой практики, понимаете, аналогов нет. Слишком велик риск – это же вечная мерзлота и мороз под шестьдесят». «Случается и за шестьдесят, – угрюмо уточнил Клешнин, – но у меня столько времени нет», – закончил он разговор и принялся искать подходящий проект.
Наконец ему сообщили о похожем сооружении где-то в среднеазиатской республике. Он прилетел туда зимой – вокруг ходили люди в рубашках и платьях, зеленели деревья, цвели цветы.
«Не расстраивайтесь, – сказали ему, – у нас тоже экстремальные условия, только наоборот, неизвестно, что хуже – жара или холод». Вскоре родился внушительный перечень доработок и сроков. Он бросился согласовывать его. Не слушая добрых советов: не спешить, отмахиваясь от предостережений – мол, слишком разные условия. Наконец, загнанный борьбой в высокий прохладный кабинет, Клешнин выложил его могущественному хозяину последний аргумент, стараясь казаться спокойным и уверенным: «Разведка завершена, мы имеем крупное рудное месторождение сурьмы и золота. Больше сурьмы в стране нет, вам это известно лучше меня. Специалисты берутся доработать проект за полгода, если рисовать с нуля, придется ждать два, я прошу письменное распоряжение».
«Наглец! – Человек за широким дубовым столом недовольно приподнял напущенные на глаза веки, с многозначительным интересом взглянув на невысокого визитера. – Вы понимаете всю меру личной ответственности?» – холодно спросил он. «Понимаю», – ответил Клешнин, глядя, как вялая рука водит ручкой по бумаге, подписывая ему приговор.
В самолете он всматривался хмурым взглядом в темноту неба, в зелено-малиновую полосу, отделившую оставленную позади ночь от летевшего навстречу дня. Последние месяцы он ощущал себя идущим по тайге, когда перестаешь чувствовать, куда идешь. Останавливаешься в окружении серых стволов и, сдерживая удары всполошившегося сердца, понимаешь, что вышел не на опушку, а по-прежнему стоишь внутри вечного деревянного лабиринта и борешься с собой, чтобы не сорваться с места, не кинуться к обманчивому свету. Но, успокоившись, повинуясь неизвестно откуда явившимся чувствам, угадывая движение света и воздуха, ловя прелое дыхание земли, ты (о чудо!) возвращаешь ориентацию в этом бескрайнем глухом пространстве, а «взяв тропу», ступая уже смело, уверенно, удивляешься и радуешься своей сноровке и удачливости.
Глядя в черный иллюминатор, Клешнин то радовался, гордясь своей удачливостью и нахальством, то с тоской думал, что теперь на него, если понадобится, свалят любую вину, хотя он прав, и то, что он прав, будут хорошо понимать те люди, которые при необходимости сочтут его виноватым. «Чего я кисну? – успокоил он себя, отгоняя тревогу. – У меня уже есть команда, на нее можно положиться, а палки в колеса вставлять наверху не посмеют, во всяком случае, пока. Будут ждать, когда оступлюсь. Все определит результат – победителей не судят».
Еще предстояло всего за три года проложить дорогу в тайге, построить рудник и поселок, соорудить неподалеку от Городка обогатительную фабрику. Нужны были упорство работяг и спецов, точные расчеты и смелые инженерные решения. До них никто на земле не строил ничего подобного в таких широтах, в условиях экстремально низких температур. И хотя каждый человек живет своим миром, случается, что цель одного или нескольких становится сутью и смыслом для многих других людей.
Когда на Сентачане только начинали строительство, Клешнин попытался всунуть в проект цех крупнопанельного домостроения. Он понимал, что бедные россыпи будут втягивать все больше новой техники, грамотных специалистов, придется строить новые прииски, и делать это быстро – собирать небольшие дома из панелей за два-три месяца, заменив приисковые халупы настоящим жильем. И Сентачан хотелось поднять одним махом, сделать его символом нового времени и возможностей. Но вопрос увяз на дальних подступах к Госплану. Заводику требовались и оснастка, и цемент, и арматура, и дерево. Лезть с такой мелочью в сердце планирования жизни страны никто не решился.
– Хотите меня за решетку упечь? – спросил директор ГОКа Королев, когда Клешнин предложил построить заводик своими силами.
– А мы вас решением бюро обяжем, – успокоил Клешнин Королева. – Прижмут, скажете, соблюдал партийную дисциплину. На меня валите.
– Построить – не велика хитрость, даже помещение подходящее есть, оборудование, оснастку тоже найдем, а что потом? Без материалов, без цемента… как его задним числом легализуешь? – возразил Королев. – Упекут почем зря, точно упекут.
– Придумаем что-нибудь, – неопределенно ответил Клешнин. – Победителей не судят.
На Сентачане он не успел, но позже в Городке появились два панельных дома. На районную партконференцию как раз ждали начальство из обкома. Клешнин повез гостей по Городку.
– А это что такое? – остановил машину генеральный директор объединения. – Откуда?
– Давайте посмотрим. – Для Клешнина наступил главный момент.
В первой же квартире гостей, по чистой случайности, ждали. Новоселы благодарили генерального, звали к столу и не отпустили без рюмочки. Тем временем, тоже случайно, у подъезда собралась толпа народа. Попрощавшись со всеми, генеральный со значением посмотрел на Клешнина.
В кабинете Клешнин показал программу строительства жилья на десять лет. Предлагалось снести на приисках все бараки и лачуги.
– Что будем делать? – спросил секретарь обкома.
– Сажать! – сверкнул Золотой Звездой Героя генеральный. – Партизанщину развел. Завтра макаронную фабрику построит.
– Макароны все же, не дома, – возразил секретарь. – Будет жилье – будут и люди. Долго их еще мучить? – Он с легкой иронией посмотрел на генерального. – Не пропадать же теперь добру.
– Люди и так приедут, – пробурчал генеральный.
Он злился. Каков нахал, провел его, как ребенка, устроил шабаш с митингом. Теперь обком захочет отрапортовать, и ему – члену бюро – придется поддержать. «Все просчитал, стервец, – думал он. – Ведь это мои – и прииски, и люди. С Королевым проще, этот свое получит! Заигрался! На коленях его взрастил, уважаемым человеком сделал, а он… Самостоятельность демонстрирует. Клешнин Городок отстраивает: бассейны, рестораны… Ловкачи!»
Кем-кем, но простаком генеральный не был. Его империя лежала на огромной территории, сопоставимой с несколькими крупными европейскими странами. Он управлял ею больше десяти лет, и она крепла, принося ежегодно казне тонны золота.
Недоверие больно задело его, однако завтра на конференции он скажет о новых возможностях улучшения быта горняков. Его обыграли, а он обратит поражение в свою пользу.
– Хорошо… – Генеральный собрал вокруг быстрых умных глаз лучики морщинок. – Не будем обманывать ожидания людей, но… – Он метнул в Клешнина короткий злой взгляд. – Все дома – на прииски, а мы присмотрим.
Это означало, что чаша терпения переполнилась. Клешнин понял. Через два года, снятый с должности, он уехал строить новый комбинат в Заполярье, разрезав время, будто торжественную ленточку при открытии Сентачана, на «до» и «после» себя. Уехал на своем странном поезде, который мчал его куда-то без рельсов, лукаво моргнув на прощание огоньками последнего вагона.
Глава четырнадцатая
Пунктир времени
Создана Московская общественная правозащитная организация – Международное общество прав человека (МОПЧ). Численность Московского отделения около 15 человек.
В Ереване прошла экологическая демонстрация с требованием закрыть вредные цеха Кировского химического комбината.
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О расширении льгот работающим беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей».
Слушается дело М. Руста
В Вильнюсском центре сердца и сосудов под руководством профессора И. Марцинкявичуса проведена операция по пересадке сердца.
Совет Министров принял Постановление «О создании кооперативов по выработке кондитерских и хлебобулочных изделий».
Отменены предельные нормы содержания скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Ослаблены ограничения на размеры садовых домиков.
Возрождение предпринимательства – разрешено образовывать торгово-промышленные кооперативы.
Образована Комиссия Политбюро по дополнительному изучению репрессий 1930-1940-х годов.
Принято решение о переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование.
«Нужен Клешнин, – размышлял Перелыгин. – Только он расскажет, что происходило вокруг Унакана. Может, у меня разыгралась фантазия и на самом деле ни о какой разведке речи не шло? – изнурял он себя сомнениями. – Поэтому нужен Клешнин. Ладно, – сказал себе Перелыгин, – работай». Утром звонил шеф, что означало важность поручения.
– Ты почему ничего о кооперативах не пишешь, у вас их нет? Пора просыпаться! – Шеф был настроен решительно.
«Получил указание», – понял Перелыгин. Указания «сверху» нервировали шефа, и он сам говорил с собкорами, не доверяя отделам.
– У нас их куча, только газете вряд ли интересны, – брякнул Перелыгин и замолчал, расплывшись в невидимой шефу наглой улыбке.
– А что такое, почему? – насторожился шеф.
Перелыгин не стал продолжать – шеф плохо понимал юмор.
– Я про артели, – как ни в чем не бывало, бодро сказал он. – Если Комбинат перевести на старательскую добычу, рентабельность будет сумасшедшая. А теперь еще кооперативам разрешили превращать безналичные деньги в наличные. Артели могут опытом поделиться.
– Не резвись… – Шеф помолчал. – Придет время – напишешь и про артели, а сейчас разыщи обычный кооператив, надо дать положительный пример, и не затягивай. Все!
Перелыгин стал припоминать, что ему известно про местных частников, но под рубрику «Выше знамя кооперативного движения!» никто категорически не ложился.
На призыв Москвы развивать частную инициативу население Городка никак не отозвалось. Сороковову пришлось собрать совещание и потребовать повысить внимание к коммерческой инициативе, даже двинуть в кооператоры подходящих людей. Это напоминало зловещую шутку военных лет над фронтовыми политработниками, призывавшими к соревнованию: «Каждой роте – свой “Александр Матросов”». С Сороковова, вероятно, тоже требовали отчетности.
Неожиданно дело отметилось двумя событиями. Сначала подоспела помощь в лице пожарного Темы Капельдудкина по прозвищу Капель с ударением на втором слоге, поскольку у долговязого, сутулого Темы с кончика длинного носа вечно свисала влага, которую он изредка вытирал платком, а чаще – рукавом.
В «пожарке» Тимофей исправно спал и забивал «козла» с боевым расчетом. Горело редко, если и загоралось, то сгорало быстро и основательно. Иногда поступал вызов с прииска, но это было уж вовсе бессмысленно – мчаться шестьдесят – семьдесят верст, через перевалы, чтобы прибыть к головешкам.
И вот Теме позвонил дальний родственник, пожелавший сплавить два импортных автомата – по изготовлению пончиков и кофе. Капельдудкин было растерялся, но родственник разъяснил подоплеку текущего момента. И Тема взял кредит в банке. Заведующий банком, правда, для порядка позвонил в исполком, а там явление Темы восприняли с воодушевлением и попросили с кредитом не тянуть.
Без проволочек ему оформили в аренду площадь в магазине, где вскоре на прилавке появились два сверкающих никелем агрегата. Один неустанно штамповал душистые пончики, похожие на небольшие бублики, другой фырчал и шипел, разливая в чашки ароматный кофе. Тема уговорил двух продавщиц пойти к нему, превратившись в работодателя, распорядителя финансов и «буржуя». Он оценил свой пончик в пятнадцать копеек, трезво рассудив, что северный народ мелочиться не станет.
Народ, посмеиваясь, бойко расхватывал горячие пончики. Школьники дружно сыпали пятиалтынные, забегая в магазин после уроков.
Городок ждал результатов. Всех интересовало: стоит ли выделки эта овчинка? Спрашивали и у Темы. Он отвечал честно, в чем был нехитрый расчет. Во-первых, все равно узнают, а во-вторых, не будут завидовать – доходы его не впечатлили. Он даже поделился в местной прессе трудностями развития частного предпринимательства в экстремальных условия Крайнего Севера, но сочувствия не нашел. Горнякам, зашибающим по тысяче в месяц, на Темины трудности было наплевать.
Через полгода Капельдудкина позвали в райком и предложили открыть пельменную в маленьком магазинчике, переехавшем в новое помещение. Он по-собачьи преданно взглянул в ласковое лицо фортуны и метнулся развивать частный сектор. Но, вероятно, он переоценил благосклонность судьбы. Вскоре поломался пончиковый автомат. Японская техника оказалась не готовой к недовложению продуктов, замене масла маргарином и прочим технологическим вольностям. В пельменную зачастили проверки, а к Капельдудкину приклеилось обидное прозвище – жлоб, поскольку обманывал своих.
По этому поводу школьный учитель политэкономии Горюшкин глубокомысленно напомнил предупреждение апологета рыночных отношений Адама Смита, что интересы собственника не могут совпадать с интересами всего общества.
Другим заметным событием кооперативной жизни стало появление в больнице нового заместителя главного врача с редкой двойной фамилией Физдель-Шмундак. Он объявил себя специалистом в неведомой мануальной терапии, повесил в кабинете большую цветную фотографию в рамке, где могучей рукой, по-братски, его обнимал сам Николай Касьян. На фото маститый костоправ по непонятным причинам начертал нечто на тему «Победившему ученику – от поверженного учителя».
Когда местные дамы уразумели, кто появился в Городке, все разом ощутили боли в суставах и позвоночниках. За сеанс в пятнадцать-двадцать минут Физдель-Шмундак брал по червонцу. В рабочее время заниматься частной практикой запрещалось, поэтому он вел прием до и после работы. Времени не хватало, и дамы спешили в больницу к шести утра и после шести вечера. Сеансы становились короче, а очередь росла и росла. Забеспокоились жены приискового начальства, и еще затемно, по утрам, к больнице стали подкатывать служебные автомобили с приисков.
Лечил Физдель-Шмундак просто. Повертев голову пациентки до хруста шейных позвонков, он тыкал несколько раз кулаком в позвоночник и предлагал одеться.
Дамы делились впечатлениями об ощущениях в опорно-двигательной системе, и повсюду распространилось мнение, что не побывать у Физдель-Шмундака ну совсем уж неприлично.
Измученный хроническим недосыпанием, похудевший, он ходил по больнице с набитыми червонцами карманами. Как-то вечером Перелыгин зашел к друзьям-хирургам. Физдель-Шмундак, примкнув к компании, вынул из кармана брюк горсть смятых десяток и, не считая, бросил на стол.
Вскоре слух о чудотворном целителе докатился до центра республики. Там решили провести научно-практическую конференцию, дабы положить начало новому направлению. Пригласили специалиста из Москвы, а доклад предложили сделать Физдель-Шмундаку. Он улетел из Городка, но на конференции не появился, а спустя пару недель прислал заявление об увольнении, приложив справку о болезни одинокой родственницы, требующей повседневного ухода.
Обсудив частные инициативы, Городок сделал неутешительный для реформ и власти вывод: и там, и там дело вершилось обманом, когда шутейный девиз «не обманешь – не проживешь» принимал вовсе не шуточный оборот.
Только Перелыгин подумал, что надо поговорить с Любимцевым, отвечавшим за торговлю, как зазвонил телефон и знакомый раскатистый голос сообщил:
– Объявляется сигнал «Буря»! Сбор в больнице через двадцать минут. При себе не иметь ничего. Отбой!
Игру под этим условным названием придумали давно. Военкомат для отчета раз-два в год устраивал простенькие тревоги для офицеров запаса, проверял их готовность собраться на сборных пунктах. Команда, где старшим был Любимцев, по мобилизационному план собиралась в спортивном комплексе и до утра устраивала там застолья, с купанием в бассейне. Решили встречаться почаще, а чтобы не путаться и чтобы домашние не догадались, вместо военкоматовского пароля «Буран» объявляли «Бурю». Скоро по Городку поползли слухи о странных ночных учениях. Кто-то по дурости взболтнул, будто готовится отправка в Афганистан. Жена военкома по просьбе женщин пристала к мужу: правда ли? «Имейте совесть, мужики!» – взмолился военком. «Бурю» приостановили, но между собой, в шутку, время от времени пользовались этим паролем.
Перелыгин поморщился: «Рановато начинают». Он понимал, что ничего путного о кооперативах не нароет, и хотел поскорее отвязаться от дежурной темы, не откладывая на потом, но сегодня Серебровский устраивал прощальное застолье – уезжал к новому месту работы. Перелыгин прошелся по комнате, рухнул плашмя на широкую тахту, сцепил руки на затылке и закрыл глаза. Жалко было расставаться с Серебровским – веселым, остроумным, с вечным свежим анекдотом, словно кто-то каждое утро передавал его по телефону.
«Давно ли Серебровский строил больницу, – вспоминал Перелыгин, – с гордостью хвастался, показывая разнокалиберные ящики с оборудованием?»
Ради этих драгоценных ящиков мотался по городам и весям: уговаривал, заискивал, грозил, сулил златые горы, соблазнял, подкупал, одаривал, пил в ресторанах. Испытывая блаженство, приползал в Городок, чувствуя себя участником сказочного приключения. Он строил, перекраивал, выискивал в каталогах и журналах новейшее оборудование. Рыскал по стране за врачами. Подбирал и беспощадно муштровал медсестер. Он молил Бога, чтобы однажды его невозможная больше нигде жизнь не растворилась в тумане точно призрак.
«А ведь было уже», – лежа на тахте, вспоминал Перелыгин. Несколько лет назад, когда в новой больнице шел монтаж оборудования, голос Любимцева точно так же передал сигнал «Буря». В помещениях стояли запахи красок, лаков, дерева и еще неизвестно чего, а довольный Любимцев ходил вдоль стен, выложенных светлым кафелем, придирчиво разглядывая кладку, и был похож на прораба, – он всегда менялся просто и естественно, стоило чем-нибудь заинтересоваться, а мальчишеский интерес ко всему не остывал в нем, казалось, никогда. Из родильного отделения, наслушавшись о достоинствах его полной изоляции, они прошли в операционную, наполненную запахами от стола с едой.
– Ну, что вы там возитесь? – нетерпеливо крикнул Любимцев. – Успеешь еще свой товар показать.
– Идем, идем! – Серебровский повел Перелыгина к столу. – Между прочим, умение показать товар лицом – фирменный знак предвзятости. – Он мягким движением поправил очки в дорогой оправе. – Начнем людей лечить, положу нашего Егора в отдельную палату, приставлю лучшую сестричку для вдохновения и сам коньяк приносить буду, только пусть пишет. С таким лицом товар организуем! – Серебровский зажмурился, словно на языке у него лежало нечто невероятно вкусное.
В тот раз Серебровский протрубил сбор по особому поводу – накануне о нем говорило радио «Свобода».
Началось все еще раньше, когда в Городке осенью появился человек по фамилии Погребняк, удививший местное население, привыкшее к теплой меховой одежде, ярким, диковинным пуховиком. Стали даже спорить: до какого градуса продержится эта пижонская одежонка?
Как рассказал Перелыгину Мельников, Погребняка сослали из-за какой-то книжки, изданной за границей о «психушке», где тот работал не то фельдшером, не то санитаром. Он, похоже, надеялся после публикации смотаться на Запад, но его присутствие требовалось здесь для страдания за инакомыслие, а чтобы страдание было приятнее и сытнее, Погребняку слали «оттуда» посылки со съестным, а «радиоголоса» требовали свободу «узнику совести».
«Два раза в неделю, – сказал Мельников, – или он, или ему из какой-нибудь страны звонят. Проверяют. А чтоб не забичевал с голодухи… – Мельников хмыкнул. – Посылки шлют. Мои ребята при нем посылку проверят, а он сразу бегом на переговорный – получил, мол! Связистам разъяснили, чтобы соединяли по резервной линии, не роняли престиж страны».
И вдруг казус… В тот день в Городке стоял декабрьский полумрак. Мороз выжимал до шестидесяти. Пахло холодом. В переговорном зале несколько старательских снабженцев который час обреченно дожидались связи с артелями. Лениво вспоминали минувший сезон, знакомых женщин, прикидывали, с кем скоротать вечерок, но телефонные кабины хранили молчаливую темноту, словно заснувшие. Мужики скинули полушубки.
Время от времени рыжий квадратный человек, с квадратным лицом, заросшим рыжей квадратной бородой, в лохматой волчьей шапке, подходил к стойке, приставлял лицо к закругленному окошечку, в которое девушка с той стороны могла видеть разве что его нос, и, выпучив глаза, мычал с укоризной и смирением: «Ну, девушка!»
«Линия занята», – противно отвечала та обезличенным голосом.
Квадратный вздыхал и шел на место.
В какой-то момент дверь распахнулась и в клубах морозного воздуха, с коробкой, обклеенной яркими этикетками, возник Погребняк. Поставив коробку на стол, подошел к окошку и попросил соединить с Парижем. Мужики разом замолкли – будто радио выдернули из розетки.
– Небось к утру дадут, – съязвил шепотом кудрявый.
Погребняк сел возле стола, приоткрыл коробку, сверху лежал красно-белый блок «Мальборо». Он достал пачку и сунул в карман. Нашел глазами угол и замер.
– Я такие пробовал, – пренебрежительно поморщился квадратный. – Трава, и горят, как спички.
В глазах у кудрявого заблестел шальной огонек.
– Слышь, земляк, – протяжно шмыгнув носом, обратился он к Погребняку. – Будь другом, дай попробовать твоих, пушистых. Извини великодушно.
Погребняк вывел из угла взгляд, посмотрел на мужиков.
– Я говорю, дай закурить, землячок, – повторил кудрявый.
Погребняк достал пачку и протянул кудрявому. Тот, крутя головой, запротестовал.
– Берите-берите, – улыбнулся Погребняк. – С одной не распробуете.
Кудрявый, по-детски разглядывая пачку поднес ее к носу и, втянув воздух, громко шмыгнул.
Повинуясь какому-то внутреннему сигналу, квадратный неожиданно встал, его круглые, на выкате, глаза еще больше выпучились, готовые снестись, как яйца, бородатая квадратная челюсть куском мохнатого кирпича двинулась вперед, увлекая за собой стеноподобное тело к окошку, к безучастно сидевшей за ним телефонистке. Казалось, он сейчас пройдет сквозь хрупкую перегородку и, разметав все, двинется дальше, освобождать навсегда занятую линию все пятьдесят верст до своей артели.
В эту минуту на пульте рядом с девушкой что-то щелкнуло, загорелась зеленая лампочка. Девушка нажала тумблер и объявила: «Париж! Вторая кабина».
Квадратный неловко дернулся и замер, словно облитый жидким азотом. Кудрявый, открыв рот, уставился поверх его головы то ли на часы, не успевшие отсчитать и десяти минут, то ли на шапку квадратного, на которой волчья шерсть вставала дыбом. Как во сне квадратный увидел Погребняка, двинувшегося к кабине, освещенной светом далекого Парижа. Он почти вошел в нее, но квадратный, обретя дар речи, с зубовным хрустом выломился из оледенелости и, зарычав «куда?», кинулся следом.
С бычьей силой он рванул дверь. Кабина накренилась. Погребняк вылетел прямо на квадратного. Тот одной рукой отшвырнул его на стол, где стояла посылка. Из нее вывалились блестящие пакеты, невиданные вакуумные упаковки с колбасой и мясом, покатились консервные банки. Квадратный толкнул кабину на место, схватил трубку и заорал:
– Артель «Луч» давай! Добавочный – шестнадцать! – И радостно закивал. – Да, я! Я! Андрей! Насчет шарошек договорился! Будут! Какие шарашки? – переспросил он. – Кто это? – Квадратный обмяк, боком высунулся из кабины, держа в руке трубку. – Ты тоже, что ли, Андрей? – Вышел, впустив в кабину Погребняка, поднял с пола коробку. – Чего стоите? – буркнул он и полез в угол за укатившейся банкой.
Коробку аккуратно сложили.
– Андрюх, – подмигнул кудрявый.
– Чего тебе?
– Не берут шарошки в Париже?
Кудрявый переломился, давясь хохотом. Рядом беззвучно тряслась шапка из росомахи. За стеклянной перегородкой попискивала телефонистка. Квадратный понял: все узнают, как он толкал шарошки в Париж.
Из кабины вышел Погребняк. Кудрявый поманил его:
– Не обижайся, земляк, мы тут три часа сидим. – Он дружелюбно улыбнулся.
– Думал, в окно вылечу. – Погребняк потер ушибленное плечо. – А про какие шарашки он говорил?
– Шарашки? – «Росомаха» недоуменно посмотрел на кудрявого.
– Ха! Шарошки! – заржал кудрявый, – Андрюха за шарошками приехал. Понимаешь… – Он повернулся к Погребняку. – «Головка» такая, для бурового станка.
– Там подумали, я в шарашку угодил, – напряженно хихикнул Погребняк.
– Вы хоть знаете, кто это? – ухмыльнулась телефонистка, когда Погребняк вышел. – Ссыльный, диссидент. Каждую неделю то за посылкой, то звонить бегает. Из-за границы шлют.
– Тут что, жрать нечего? – удивился из-под шапки «росомаха».
– Испаскудился народишко, вот хрень всякая в башку и прет. – Кудрявый мотнул головой. – Это им не так, то не сяк.
– Пойдем, покурим, – позвал кудрявого квадратный.
Выйдя в шелестящий от холода туман, оба полезли в карманы. Квадратный достал «Беломор», протянул кудрявому, тот взял папиросу, сунул в рот, крутя в руках нераспечатанное «Мальборо».
– Гад! – зло сказал кудрявый, затянувшись «Беломором», повертел яркую пачку, точно собираясь выбросить. – Бывают же… – Он так и не подобрал подходящего слова, сплюнул и сунул сигареты в карман.
Прошло несколько месяцев, и вот «Свобода» сообщила, что антисемит Серебровский не берет еврея Погребняка на работу, лишает инакомыслящего права на труд, тем самым нарушает Конституцию и права человека.
– Вы даже не представляете, столько народу слушает вражеские голоса, – сверкнул оливковыми глазами Серебровский. – Звонили от Прибалтики до Сахалина. Проснулся знаменитым! Будто в «Правде» пропечатали. Как вам нравится? Потомственного еврея, обозвать антисемитом! – проговорил он с нарочито еврейским акцентом.
– Раз еврея притесняешь, значит, ты – антисемит. Во как! Аж стихом заговорил, – состроил простодушную гримасу Перелыгин. – Широта твоей натуры не укладывается в утлые желобки догматического западного сознания! Им не понять, что ты многолик и в тебе гармонично сосуществуют коммунист, бабник, пьяница, картежник, матерщинник да вдобавок – еврей.
– Товарищ майор! – заорал в потолок Серебровский. – Не слушайте клевету на добропорядочного еврея и гражданина. Я все расскажу. – Он скосил глаза на Перелыгина. – Какое там западное сознание? На «Голосах» бывший наш народ кормится. – Серебровский подцепил вилкой кусок копченой оленины. – Приходил ко мне этот хмырь. Чепуха человек! И на хрен мне сдался этот писатель, хоть и еврей? – пожал плечами Серебровский. – У вас, говорит, тут хоть и не «психушка», а живут одни ненормальные. Я его и послал! Ну, этот эмигрант духа рысью на почту, про меня Европе брехать. Гнал бы таких: не нравится – скатертью дорога! Нечего антисанитарию разводить.
– Чувствуешь, как слава кружит голову? – Любимцев посмотрел на Перелыгина.
– Только не надо завидовать! – парировал Серебровский. – Зависть разлагает печень, я же делюсь! Вот… – Он обвел рукой стол. – Сижу с вами. Ты «Голоса» слушаешь? – повернулся он к Любимцеву.
Любимцев поднял насмешливые глаза.
– Своей брехни хватает. Этот… – Любимцев кивнул в пространство. – Думаешь, не знал, что ты еврей? Но сбрехнул для складности. Ты прав, на всех «Голосах» бывшие наши граждане голосят, и им не за святую правду на хлеб с маслом отстегивают. – Любимцев выбрал большого печеного карася, положил на тарелку. – А чего еще ждать от предателя? Он же себя борцом старается ощутить, хотя и понимает, что человечишка пустяковый, и только пуще распаляется, еще злей укусить норовит. Не оценили? А вот я вас за вымя! Старая русская эмиграция достоинство имела. Власть клеймила, но стране зла не желала, война началась, за Гитлером не побежала. А эти – наоборот: страну и народ ненавидят. Коммунистов для отвода глаз хают, но метят в страну. А кто хотел ее уничтожить? Гитлер! Так на чьей они стороне? Вот мы трое кому мешаем? Водку дуем, мировую революцию не замышляем. Ты лечишь, я строю, этот, правда, писатель… – Любимцев покосился на Перелыгина, потер живот ладонью.
– Он недостатки бичует, – гоготнул Серебровский, – не трожь художника.
– Да, у него работенка постоянная, – притворно вздохнул Любимцев.
– А нечего на зеркало пенять, – состроив ехидную гримасу, развел руками Перелыгин. – Каждый понимать должен, за что он власть уважает. А она, милая, хочет, чтобы ей в рот без оглядки смотрели.
– Она тебе не пьяный дружок: уважаю – не уважаю, – буркнул Любимцев. – Ты ее уважение заслужи. Сделай что-нибудь стоящее.
– Старыми заслугами без конца нельзя пользоваться. – Серебровский, разминая, сцепил замком длинные пальцы. – А нас все за лояльность щупают. Не дай бог уменьшится. Власти себя надо опасаться. – Серебровский встал, подошел к окну. – Вон люди идут, – махнул он в сторону окна, – чего их щупать? Они хотят жить спокойно и уверенно, хорошо зарабатывать, знать, что через десять, двадцать лет жить станет еще лучше. – Он вернулся к столу. – Денег хватает, дома, квартиры на материке построили, детей учат, старость обеспечена. За границу лишний раз не выскочишь? Плохо! Но пережить можно. А спроси: довольны ли? «Нет!» – скажут. Сегодня надо быть хоть чем-то недовольным. Модно! Особенно интеллигенция мучается.
– Только блаженный всем доволен, – пробурчал Перелыгин, ковыряя вилкой в тарелке.
– То-то и оно, – легко согласился Серебровский. – У каждого своя претензия найдется. И люди больше не лояльны к власти, как прежде. Они хотят, чтобы власть за собой убирала. Порядок навела. А она не может. И вот вам ответ – трассовики Сталина на лобовые стекла налепили. На что намекают? Правду свою ищут?
– Каждый ее ищет, – сказал Любимцев, – да мало кто находит, потому как истина многолика. Вся правда, если она, конечно, есть, разрушительна. Нам бы простые истины освоить, а то развели словоблудие, – скривился он, – то кричат, что они сегодня не те, что вчера; то не знают, что хорошо, что плохо. Нет, вы вдумайтесь! Взрослые дяди не знают! А я вот знаю, что воровать плохо! – густо, с нажимом пробасил он. – Предавать, убивать плохо! Плохо терять совесть, менять к вечеру веру и убеждения! Плохо подличать, продаваться за деньги, забывать отца с матерью, щупать под столом коленку жены друга! Что непонятного? А если чья-то личность из-за того, что ей мешают это делать, страдает, несвободой пучится, мне плевать! Я против выбора: угробить ближнего или погодить, обгадить страну или еще дерьма подсобрать.
– А если за деньги убеждения поменять? – вспомнил Перелыгин давний спор с Градовым. – Есть на свете такое, чего человек за деньги не совершит?
– Смотря кто и смотря за какие деньги, – задумчиво произнес Серебровский, посмотрев на Перелыгина. – Не пойму, куда ты клонишь?
– Да никуда не клоню, – отмахнулся Перелыгин и рассказал, как под кроватью сорок тысяч валялись.
– Переживаешь? – наклонившись к Перелыгину, шепнул Серебровский.
– Если за сорок не продался, значит, кое-что от человека зависит. – Любимцев покосился на Серебровского. – А доктор наш… – Он ядовито хмыкнул. – Цену набивает – хочет, чтобы сам Госдеп ему поклонился.
– Пожалуй, возьму в морг, санитаром! – покорно склонил голову Серебровский. – На радость Госдепартаменту!
– Доконали вражьи «Голоса» доктора, – сказал Перелыгин, входя в кабинет. – Погребняка нет давно, а прямо дежа-вю какое-то. Опять в операционную?
– В палату номер шесть. – Серебровский поднялся.
Шестой была отдельная палата, которой он специально присвоил этот номер.
– Скажи Погребняку «спасибо». – Любимцев нахмурился. – На повышение идешь. Будешь теперь здравотделом командовать.
– Нужен он мне! – Серебровский пошевелил усами, разливая коньяк. – Место мое кому-то приглянулось, и меня это не радует. Но! – На его лице появилась насмешливая гримаса. – Жизнь или карьера?
– Я к Клешнину собираюсь, – неожиданно сказал Перелыгин.
– Интересно. – Серебровский закатил глаза. – А что тебе от него понадобилось?
– Разговор есть. Надоело байки про него слушать. А говорят, короткая у людей память.
– Нечему удивляться. – Любимцев, поигрывая дужками очков, некоторое время смотрел в окно, наблюдая, как напротив двое рабочих ремонтируют крышу. – Осень скоро, а, пресса?! – вдруг оживился он. – Вот-вот гусь объявится и зайцы. Вадим вот отчаливает, а мы двинем в одно место. Часа три лету, но место сказочное. Хариус – по локоть.
Перелыгин почувствовал теплый толчок внутри, радость охотничьих сборов, запах костра у воды и призывный гусиный крик еще невидимой стаи за мгновение до того, как она стремительно выныривает из утренней мглы и плюхается в черную неподвижную воду. Осеннюю охоту мужское население всегда ждало с особым чувством – щемила душу осенней красотой тайга, радостью погожих деньков перед зимой.
– А Клешнин? Что ж, Клешнин… – Любимцев нехотя отвернулся от окна. – Люди сами всё видят.
– Знаешь, какая война за больницу шла? – Серебровского вдруг пронзила мысль, что он навсегда покидает свое детище, и голос его дрогнул. – Затея Клешнина была. – Он повернулся к Перелыгину. – Нам в Якутске говорят: «У вас хорошая больница.» Тогда Клешня возьми на бюро обкома и разыграй дурака, а делал он это артистически. У нас, говорит, даже томографа нет в районе. Понимаете? Не, представляешь? – Серебровский толкнул Перелыгина в плечо, трясясь от смеха. – Невероятно, я где эту историю потом ни рассказывал, никто не верил, – томографа у него в районе нет! Бюро чуть не задохнулось – на всю республику один был. Потом сказали, черт с вами, стройте, а томограф сами ищите, на них в стране очередь на десять лет вперед. Он им так спокойно: «В Одессе на Привозе поищем».
– Оно конечно… – Любимцев провел указательным пальцем по усам, таким же, как у Серебровского, только попышней. – Наверное, и без него многое состоялось бы, жизнь на месте стоять не может, но это наше предположение, а он оказался там, где надо, и вовремя. Выходит, спрос на него в тот момент был именно здесь. Самое главное – оказаться на своем месте в нужное время. Одно точно знаю: чтобы нелегальный завод построить, второго такого авантюриста еще поискать надо! – Любимцев мечтательно выставил перед собой ладони, будто взвешивая эту осязаемую им авантюру, включая невероятный размах ее замысла и неизмеримую пользу.
– Все собираюсь написать об этой истории, – укоризненно посетовал Перелыгин, глядя на Любимцева, – а ты никак рассказать не соберешься.
– Расскажу. Расскажу тебе такое, – успокоил Любимцев, – о чем никто не знает.
– Нет, не сходится. – Перелыгин пощелкал пальцами. – Не хватает чего-то. Самодур тоже может понастроить.
– Ха! – усмехнулся Серебровский. – Клешнин отменный вкус к жизни имеет. Любит жить красиво. Жизнелюб.
– Ну да, – хмыкнул Перелыгин. – Вино, женщины, карты, баня, охота, рыбалка. Что еще надо для полного джентльменского набора? И кто ж этого не любит? Я хочу видеть такого человека! – пробасил он с есенинской интонацией.
– Не скажи, пресса, не скажи… – Любимцев прошелся по палате, задержался у книжной полки, пробежал взглядом по корешкам. – Водку можно по-разному любить. – Он продолжал рассматривать книги. – Одному нажраться охота, а для другого – это процесс, удовольствие. То же и с женщинами. Одному все равно, где, с кем и как, а другой с красоткой на вертолете – в таежное зимовье с банькой или – в тихий уголок с аквариумом во всю стену. Чуешь разницу? – Любимцев помолчал, сел за стол. – Из-за этого жизнелюбия, так его растак, мы и остались на бобах. Кинул он нас!
Некоторое время Перелыгин обескураженно молчал.
– Неожиданный поворот, – заметил он. – Как-нибудь обосновать можно?
Серебровский открыл было рот, но Любимцев опередил его:
– Да, можно, можно, – усмехнулся он, – все объяснить можно, – но это личное, не бери в голову. – Любимцев испытующе взглянул прямо в глаза Перелыгину. – Предал он нас! Всю команду предал. – И, отвернувшись от недоумевающей физиономии Егора, покачал головой. – Не понимаешь… Представь… – Он поднялся, заходил, как учитель, сложив руки за спиной. – Клешнин собрал нас, бобиков. Каждого нашел, расставил по ключевым местам. Правильно делал! Без своей команды ничего путного не осуществишь. – Он хихикнул. – Кроме, пожалуй, ребенка. И мы пахали: знамена, ордена, почет, уважение. И скажи мне, ради чего?
– Он же вас не в дворники нанимал? – пожал плечами Перелыгин.
– А амбиции? Ну, заняли свои высотки, все молодые, но дальше-то куда? – Любимцев достал расческу, повертел ее в руках и убрал в карман. – Ты пойдешь в местную районку редактором?
– У него с головой не в порядке? – хмыкнул Серебровский.
– Верно, – кивнул Любимцев. – А в свою газету, в штат?
– Чего я там забыл? – Перелыгин не совсем понимал, куда клонит Любимцев.
– А почему?
– Здесь воля. Начальство за тысячу верст. Ну, почти воля, – уточнил Егор. – У собкоров: встал с дивана, ноги в тапочки – на работе, снял тапочки, лег на диван – дома.
– Правильно, – кивнул Любимцев. – Ты плаваешь в своей заводи, однако в любой момент можешь нырнуть куда надо. В этом твое преимущество и твоя свобода. А мы рассчитывали на Клешнина и, как киты, своими спинами выталкивали его наверх. Четырнадцать лет ухлопали. Он нас обнадеживал, но сам никуда и не собирался. Помнишь… – Любимцев посмотрел на Серебровского. – На охоте о правилах жизни рассуждал? – Серебровский слегка пожал плечами. – А я помню! – с вызовом продолжил Любимцев. – Он говорил, что правила можно нарушить, обойти, а можно использовать. И некоторые готовы голову положить, лишь бы эти правила отменить. Допустим, отменили! Понадобятся новые. Иначе – анархия. А на эти глупости жизнь тратить жалко.
– Правильно рассуждал. – Перелыгин отодвинулся от стола. – Глупо воевать с «ветряными мельницами» или отливать против ветра.
– Не торопись, пресса, – остановил его Любимцев. – Он еще говорил, что надо всех драть и все брать. Кто позволит? Это не против ветра? А после нам: выкиньте глупые мысли, ребята, нигде большего не добьетесь, потому что жить любите красиво. Пока мы вместе, говорит, делаем дело, ничего с нами не случится – победителей тут не судят, живите и радуйтесь, а в «чужом монастыре» вам враз бошки посрывают – вы же прятаться не умеете, напоказ жить привыкли. И это правильно. – Любимцев сел за стол и опять уставился в окно. – Не должен человек в свое удовольствие жить тайной жизнью. Потому мужики его пьяного из канавы на руках домой носили, а наверху не любили – не хотел от них ничего. Значит, был и у него какой-то свой выбор – что брать, а что нет.
Уже затемно Любимцев с Перелыгиным вышли из больницы, распрощались и направились в разные стороны. У дома Перелыгин вспомнил про кооперативы, он оглянулся – фигура Любимцева, освещенная фонарями, маячила в отдалении. «Ладно, – решил Перелыгин, – не возвращаться же».
Глава пятнадцатая
Пунктир времени
В эфир вышла телепрограмма «Взгляд».
В Ленинградском университете прошла конференция «Сибирь: ее сегодня и завтра в русской литературе».
В местах заключения введен 8-часовой рабочий день, впервые осужденные отбывают наказание на территории своей республики.
В Москве прошла демонстрация отказников, не желающих служить в армии.
Союзно-республиканское Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР преобразовано в общесоюзное Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
В Ереване прошла демонстрация в связи с земельным конфликтом в селе Чардахлу Нагорного Карабаха. При разгоне изорваны портреты Горбачева.
Опубликовано изложение принятого Советом Министров СССР постановления о комплексной реконструкции и застройке в период до 2000 года исторически сложившегося центра Москвы.
В Чебоксарах открыт филиал межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».
Подписано соглашение между СССР и ГДР о сотрудничестве и строительстве на территории ССР Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.
Быстро убывало лето. Август ударил первыми заморозками, разбрызгав по сопкам красно-желтые цвета. Солнце просвечивало речки и озера до дна, далекие хребты сияли белыми вершинами. Мир казался прозрачным и чистым, порождая тихую грусть о быстротечности времени.
Охотники ждали начала сезона, с тревогой следя за погодой – в конце августа обычно заряжали дожди. Если они перейдут в снег, то прощай охота на зайца по чернотропу.
С особым вниманием наблюдает за погодой охотинспектор Семен Рожков. Ему нужно безукоризненно точно выбрать место, обдумать маршрут, проверить снасти, договориться с транспортом и доложить Любимцеву о полной готовности. Многие годы Семен – верный и преданный ему человек. Если бы не Любимцев, он, скучая, принимал бы охотничьи взносы, штамповал разрешения и лицензии, объявлял сроки, зная, что каждый второй в округе человек с ружьем, а согласно бумагам, писанным в Москве, так и просто каждый – браконьер. Но сам Семен Рожков так не считал.
Испокон веку тайга кормила его народ. Каждый брал, сколько ему надо, и так продолжалось всегда. Тайга установила порядок: когда и кого можно у нее взять и, главное, думал Семен, этот порядок исполнять, тогда все будет, как заведено природой. Это вокруг больших городов опустели леса и реки, люди забросили настоящую охоту, превратив ее в дурную забаву: бить прикормленного зверя в заповедниках, а мясо скармливать собакам. Это нехорошо, неправильно, очень нехорошо! Нельзя убивать зверя ради забавы. Это знал прадед Семена, знал дед, этому учил его отец. В окруженных безжизненными лесами городах, среди угрюмого бетона и камня писались бумаги, прилетавшие в тайгу к Семену Рожкову. Он же слушал стариков-охотников, которые знали тайгу лучше собственного сердца и предупреждали: «Пора, однако, Семен зайца бить, опоздаешь – болеть будет, очень много развелось». Семен читал бумаги, предписывающие перенести начало охоты на более поздний срок, и знал, что к тому времени ляжет снег и ищи-свищи косого. К весне зайцы так расплодятся, что от голода начнут поедать кору лиственниц, а это для них чистая гибель.
Семен вяло брал бумаги и шел к Любимцеву слушать, что скажет власть. Любимцев, как и Рожков, знает, что нетерпение людей все одно возьмет верх над прилетевшей из другой жизни инструкцией – хоть всю тайгу оцепи.
Осенняя охота на зайца в золотой, остывающей перед зимним уныньем тайге – последнее всеобщее бурление, вскрик древних инстинктов добытчика, вспышка радостного азарта промысла и жажда простого мужского сидения у костра за свежей шурпой под стакан прохладной водки и воспоминания о лете.
В свободное время Семен с пристрастием читает Салтыкова-Щедрина, поэтому, подавая Любимцеву бумагу, отводя хитрые роскосые глаза, словно стесняясь, спрашивает: «Будем годить?» Некоторое время Любимцев с интересом смотрит в окно кабинета на улицу, на темно-зеленое здание быткомбината, будто видит его впервые, и раскатистым голосом, вспоминая о чем-то и удивляясь чему-то, отвечает: «А я слышал, неделю как палят. Опять опоздал оповестить?» «Как так опоздал? – возмущается Семен. – Сам в газету объявление относил». «Ну, поздно роптать и жаловаться, – машет рукой Любимцев. – Наверно, опять мелко напечатали. – Ухмыляясь и покручивая кончики усов, смотрит на Семена. – Не пора ли и нам…»
Семен спускается со второго этажа, улыбаясь душой и круглым лицом. За это он и предан Любимцеву. За то, что за бумажками, придуманными мешать человеку, видит настоящую жизнь, не дает бумаге заслонить главное, а сейчас главное там, в тайге, это Семен чувствует, как чувствовали его деды и прадеды.
А пока не началась охота и стояли погожие дни, Городок дружно высыпал по грибы, по ягоды. Главный гриб – масленок – мало напоминал подмосковный: был сухим, крепким, больше походил на боровик. Он рос в таких количествах, будто кто-то сеял его на полянах, и подбирать шляпки можно было по размеру.
Грибы солили, мариновали, сушили, а еще слегка обжаривали, укладывали в банки, заливали жиром. Так они могли стоять до следующего лета, а в сочетании с олениной, тушенной в брусничном соусе, и жаренной с луком картошкой вкусней еды не сыскать.
После обеда Перелыгин просматривал свежие газеты. Они на все лады шумели о перестройке, ускорении, гласности, научно-техническом прогрессе, демократизации, консенсусе и прочих модных терминах, стремительно вошедших в лексикон. Газеты приносили пачками – в Городке считалось неприличным выписывать мало периодики. Очень страдали почтальоны – в дни рассылки журналов их «толстой сумки на ремне» едва хватало на подъезд.
Была пятница. Около шести подойдут Колков с Рощиным – ехать по грибы. Рощин обещал место, где рос лучший для засолки, но довольно редкий черный груздь.
В дверь позвонили. Перелыгин мельком взглянул на часы – еще слишком рано. На пороге переминался экскаваторщик с «Нальчана» Геннадий Петелин.
– Вот это гость! – удивился Перелыгин.
До сих пор они встречались только на прииске. Перелыгин подолгу наблюдал, как экскаватор величиной с двухэтажный дом, точными движениями, будто повариха отмеряет в миски кашу половником, грузит карьерные самосвалы. Залезал в кабину и следил за выверенными, хоть по секундам засекай, движениями рук экскаваторщика.
– Я по делу, – пробормотал Петелин, неловко остановившись в коридоре.






