Проклятие Индигирки Ковлер Игорь
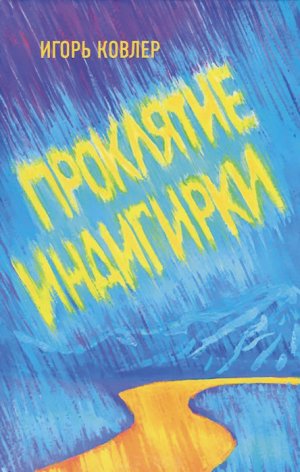
Ему вспомнился разговор с бичом Мишей по прозвищу Прудон, которое тот получил за именование бичей масонами и склонность к философствованию, впрочем, на Золотой Реке бичи были сплошь философами. Беседовали они июньским днем на берегу, за стоящим на отшибе винно-водочным магазином. В тот раз на пустыре главный бич Городка дядя Боря, бывший капитан второго ранга, по кличке Кап-два, проводил построение. Оно случалось по мере накопления жалоб на нарушение концессий по сбору стеклотары, захват чужих «танков» на теплотрассах и прочих нарушений правил цивилизованного бытия, поэтому на него обязаны были явиться все.
Перелыгин давно хотел посмотреть построение, дядя Боря не возражал и поручил его пока заботам Прудона – тот числился в советниках и в процедуре не участвовал…
Дядя Боря погиб летом в год смерти Данилы.
Тогда, после очередного построения, бичи устроили на берегу выпивку. Заспорили: можно ли переплыть Золотую Реку? Нашелся желающий. Кто-то припомнил про бухту с тонким проводом неподалеку. Дядя Боря послал отмотать, сколько надо. Обвязали смельчака, и тот плюхнулся в темную ледяную воду. Течение уносило его все дальше, провода не хватило, он натянулся и выскользнул из рук.
По внезапно проснувшемуся инстинкту моряка дядя Боря кинулся спасать. Ближе к середине Реки он понял, что не догонит, да уже и не видел цели. Ему бы плыть к другому берегу, а он рванулся обратно. Но Река делала тут поворот, и быстрое течение, оттолкнувшись от берега, вновь вынесло его на середину фарватера. Давно не тренированные инстинкты подвели дядю Борю. Могучие его мышцы стали сжиматься от холода. Он почувствовал, как тонкая острая иголочка вошла и застряла в сердце. Привычно, заученно он перевернулся на спину, еще стараясь вдохнуть воздух, но тот больше не вдыхался, только рот делал порожние глотки. Лежа на спине, дядя Боря успел увидеть над собой синее небо с белыми облаками. Ему показалось, что он поднимается к ним навстречу и видит себя сверху, со стороны, удивляясь, каким легким оказалось его тело, плывущее в чистой лазури.
Тело дяди Бори Река вынесла на галечную отмель километрах в семидесяти. Там его выловили приисковые мужики. Совсем скоро начиналось узкое ущелье с порогами, куда Река врывалась с устрашающей силой, и только прорезав Чималгинский хребет, успокаивалась, лениво растекаясь по Момской впадине. Но там были уже совсем дикие места, и дядю Борю никогда бы не нашли…
А в тот погожий июньский день Перелыгин с любопытством наблюдал, как дядя Боря с мощной оголенной грудью под распахнутой меховой курткой медленно продвигался вдоль строя, особо пристально всматриваясь в лица новобранцев. Мера воспитания применялась одна – временами ручища, напоминавшая крупное полено, вяло тыкала в провинившуюся голову, будто ставила почтовый штемпель, после чего редко кто оставался на ногах.
Прудону было лет сорок пять. С большой косматой головой и заросшим пегой шерстью лицом, передвигался он неуверенной походкой, слегка выдвинув вперед левое плечо, будто примерялся открыть дверь, когда обе руки заняты.
В прошлой своей жизни Прудон после исторического факультета работал в областном музее. В его истории не было ничего нового. Он двинул в артель – зарабатывать на кооператив. Жена, оставшись одна, завела друга. По чистой случайности в их городе оказался завод, выпускающий нужные запчасти. Он прилетел неожиданно, застукал жену, устроил дома погром, отгрузил запчасти и вернулся в артель. Попытался было взять себя в руки, но в душе его произошел разлад, и он съехал с резьбы.
– Я о человеке и человечестве много думаю, – рассуждал Прудон, сидя на ящике из-под водки. – Рассмотрим, к примеру, объективное зло – всякие природные катаклизмы, всемирное потепление, экологию, болезни разные. Человек понимает, что в одиночку против природы не попрешь, нечем ему ее, матушку, крыть. Учует чего не так, охватит его предчувствие беды, он сразу давай сосредотачиваться – иначе кирдык – и быстро так, откуда что берется, соображает: бороться надо сообща. И получается, если сильно припрет.
Прудон с хрустом потянулся – сидеть на ящике было не очень удобно, – сунул руку под рубашку, почесал под мышкой, ехидно усмехнулся мыслям, зревшим в голове.
– А вот противостоять злу, скрытому в самом человеке, от него происходящему, не можем. Как дети, ей-богу. Мешает что-то разглядеть корни этого зла. – Прудон оторвал взгляд от земли и посмотрел на Перелыгина ясными, умными глазами, пристально так посмотрел, даже нахально, с превосходством. – А все просто. Стоило возникнуть роду человеческому, и появилось двуликое, как Янус, зло и лики его – богатство и нищета. Зло двуликое, а корень один – деньги. Мало их – плохо, много – тоже. Тут бы середку какую отыскать, да ни у кого головы не хватает это человеку втолковать до печенок. У нас малость получаться стало, но, боюсь, не устоим, из последних сил жмем. – Прудон наклонил массивную голову. Он любил порассуждать вот так, вообще, особенно когда слушают не свои. – Мы вот золото моем. – Прудон произнес это так, будто полчаса, а не пять лет назад ушел с полигона. – Ну, копаем и копаем. Для победы копали, для мощи государства, для оправдания зла, для борьбы со злом, и ни у кого поджилки не дрожат. Золото? Да черт с ним! Не твое оно и не мое.
Пригревало почти по-летнему, Прудон стянул непонятного цвета светлый плащ, подставил косматое лицо солнцу. День стоял ясный, замечательный, небо сияло чистотой, лишь на макушке главной сопки Юрбе белой панамкой сидело облачко. Но от грозно шумевшей рядом Реки веяло прохладой.
– А представь, если государство с перепугу или дури какой скажет: надоело с вами возиться, сами копайте и мне несите – я куплю. – Прудон зыркнул на Перелыгина, помолчал вопросительно. – Во бардак начнется! – Он зажмурился. – Половину в землю затопчем, половину разворуем и друг дружку поубиваем к ядрене Алене. – Помолчал для придания весомости своей мысли. – Сейчас, выходит, роем для силы государства, а тогда себе на погибель станем копать, увеличивать зло на земле. Такой ералаш.
Шагая по Большой Грузинской, Перелыгин чувствовал связь между Унаканом и тем разговором с Прудоном. Как мог прочувствовать опустившийся мужик состояние огромной страны, в которое она погружается? Тогда он не придал словам Прудона никакого значения, да и какое значение могли иметь слова, будь это даже настоящий Прудон? Выходило, что он, наблюдавший бегущую мимо жизнь, рассмотрел в ней самое важное и вынес суровый приговор.
Рощин подозрительно покосился на Егора – они шли молча довольно долго.
– Ты не увлекся мыслительным процессом? – сказал он, посматривая под ноги – на тротуаре расползлась жидкая серая каша. Им было жарко в дубленках, Рощин даже предложил купить что-нибудь более подходящее для такой погоды.
– Пытаюсь понять… – Перелыгин обогнул лужу. – С кем воевать собираемся – с Сорокововым или с государством? И на что надеяться? На здравый смысл государство плюет, на свои интересы тоже. Иногда мне кажется, Сороковов – за государство, а государство – за Сороковова, иногда – что они враги.
«Осталось выяснить это окончательно, – подумал он, – и сделает это Мельников».
У Белорусского вокзала они расстались: Рощин остановил такси – ехать к друзьям отца, а Перелыгин решил пройтись, несмотря на промозглую погоду, по улице Горького.
– Подышу газами цивилизации, – сказал он.
Из телефона-автомата Перелыгин позвонил Лиде, и они договорились встретиться у Никитских ворот.
Стоя около памятника Тимирязеву, он наблюдал, как Лида спускается по Тверскому бульвару. Дул неприятный боковой ветер, она шла, чуть наклонив голову, очень похоже, как тогда на кухне, моя посуду. В этом наклоне угадывались грусть и одиночество, так, во всяком случае, казалось Перелыгину, вызывая жалость и, неизвестно почему, чувство вины. Глядя на Лиду, он вспомнил, как дожидался ее тогда, зимним вечером, как она подошла, просунула руку в варежке под его руку и, заглянув в глаза, спросила: «Пошли?»
Лида остановилась в метре, придирчиво оглядела его, одетого в джинсы, модную дубленку, норковую шапку с традиционным мохеровым шарфом, улыбнулась, подошла ближе.
– Ну, здравствуй, – сказала она, – у тебя вид преуспевающего квартирного маклера, можешь поверить, я с ними часто общаюсь.
– Здравствуй. – Перелыгин бесцеремонно положил ей руки на плечи. – Если не ошибаюсь, все квартирные маклеры – прожженные прагматики, а я помню, кто-то говорил, что именно этого свойства мне не хватает.
– Значит, ты многого достиг. Мы так и будем обниматься посреди улицы? – Лида сняла его руки со своих плеч. – Куда пойдем?
– В Домжур, разумеется! – Перелыгин уверенно двинулся на Суворовский. – Соскучился по дому родному. Впрочем, все рядом – «Прага», весь Арбат… Что скажешь?
– В Домжур так в Домжур. – Лида искоса посмотрела на него.
Он перехватил ее взгляд, отмечая про себя, что Лида почти не изменилась, ну разве что красота стала более зрелой и яркой. Трудно представить, что прошло десять лет. И сейчас они, он это знал, и она тоже знала, продолжат прерванный его отъездом разговор. Скажут друг другу, что теперь думают о случившемся когда-то. И от того, что и как они скажут, многое будет зависеть, угадывал Перелыгин шестым чувством. Но, может быть, интуиция опять подводила его? Возможно ли, вот так разом перешагнуть пропасть в долгие десять лет, за которые они оба изменились, не представляя даже, чем грозят эти изменения. Или ничего не надо перешагивать, а просто пойти дальше, оставив прошлое за спиной, не вспоминая о нем? Но разве бывает такое?
Они прошли в ресторан, где почти не было посетителей. Знакомая официантка Наташа провела к столу, засуетилась, принесла тарелку с орешками, порезанный лимон и сто граммов коньяку, положила меню.
Перелыгин с удовольствием огляделся – ему нравилось здесь, хотя за многие годы в Доме журналистов постоянно что-то менялось. Уже стал легендой знаменитый пивбар с шаржами Херлуфа Бидструпа на стенах и огромным круглым дубовым столом посередине. Там всегда толпился народ в очереди за пивом, и пока подходил твой черед, можно было перехватить кружечку у тех, кто взял с запасом, а так поступали почти все, поэтому круговорот продолжался бесконечно. Здесь всегда можно было встретить знакомых, здесь рождались темы публикаций, задумывались новые издания, обсуждались замыслы журналистских операций, обмывались назначения и премии, проматывались шальные гонорары – много всякого перевидали эти стены, храня неповторимую атмосферу корпоративного журналистского братства.
Лида почти ничего не рассказывала о себе.
– Главное ты знаешь из письма: была замужем, есть дочь, работаю в Московском союзе художников директором галереи, остальное малоинтересно. – Она положила под подбородок ладошку с длинными тонкими пальцами, приготовившись слушать, и полусерьезно сказала:
– А ты что все-таки столько лет высиживаешь в своих далях? Не заработал всех денег, не распознал законов человеческой души, не понял смысла жизни?
– Кое о чем я тебе тоже писал. – Перелыгин чувствовал, что оба они не могут найти нужных слов и тональности для откровенного разговора. – Всех денег не заработал, – прикрылся спасительной иронией Перелыгин. – А вечных вопросов не решал, просто работаю, но по секрету скажу: на них нет ответа.
– Потому что люди веками их не находят? – Лида потихоньку справлялась с неловкостью, глаза ее засветились, и Перелыгин, наблюдая, как в ней проступает прежняя Лида, понял, что он ничего не забыл за прошедшие годы: ни это особенное выражение глаз, ни этот поворот головы, ни губы, которые вот сейчас должны чуть-чуть растянуться в легкой улыбке.
– Нет. – Перелыгин положив в рот маслинку, возвел шутливый взгляд к потолку. – Не могу обездолить человечество, оно же вымрет, если ему ничего не останется познавать, ответы зависят от веры. Стоит поверить – в бога, в черта, во всеобщее братство и справедливость, в национальную идею, нацизм, сексуальную революцию, анархию, в деньги или еще черт знает во что, – обязательно отыщется свой смысл, надо только других убедить или заставить поверить, а разлюбезный здравый пусть сам выкручивается. Он, кстати, не такой и здравый, тоже от веры зависит. – Перелыгин помолчал, отхлебнул из фужера воды. – Мой знакомый бич Прудон утверждает, что высшее зло внутри каждого – деньги, и оно, как медаль с двумя сторонами – нищетой и богатством, а золотой середины люди отыскать не могут и потому погибнут. – Он опять помолчал, посмотрел на нее уже внимательно и серьезно. – Ты ведь тоже десять лет назад в меня не поверила, потому что я шел против здравого смысла.
– Наверное, ты прав. – Лида помолчала, прикусив нижнюю губу белыми ровными зубами. – Сначала я действительно думала, что твоя блажь пройдет через полгода-год, но, честно говоря, знай я тогда, как все сложится на самом деле, вряд ли отправилась бы за тобой – мне казалось это невозможным. Только потом… – Она осеклась на полуслове, а он, слушая ее с напряженным интересом, не выдержал.
– Что, что потом? – Он с требовательной вопроситель-ностью посмотрел на Лиду.
– Потом само собой пришло время… – Лида наклонила голову, – когда я поняла, что, вероятно, мало любила тебя. Прости.
«Вот, значит, как, – думал Перелыгин, сознавая, что он должен принять это признание Лиды, этот тяжелый для себя удар со смирением и достоинством. Ведь это теперь они понимают, что происходило, а тогда он был на грани отказа от их с Савичевым затеи, чтобы сохранить Лиду. Она, конечно, приняла бы его жертву с благодарностью, они поженились бы, но кто теперь скажет, как прожили бы они эти десять лет. И прожили бы? Неужели им нужны были эти годы, чтобы во всем разобраться и понять то, что тогда казалось простым и понятным. Получалось, что жизнь поступила мудро, не позволив им принести свои жертвы друг другу, чтобы ни в чем не обвинить другого, и оба оказались правы».
– А ты… – Лида подняла глаза, наполненные участливой мягкостью. – Не жалеешь о своей добровольной ссылке?
– Бывали моменты, когда хотелось себя пожалеть. – Он повертел пуговицу на темно-коричневом кожаном пиджаке. – Иногда почти чемоданы паковал, только куда ехать? Возвращаться в наш город я не хочу. Но было кое-что и еще… – Он наклонился к столу. – Знаешь, у нас там говорят про северное проклятие. Если Север примет, на тебя падает его проклятье, Север навсегда поселяется в сердце, ты не можешь без него жить и никогда не освободишься от него. Я это почувствовал лет пять назад и ничего не делал, чтобы уехать. Поэтому ни о чем не жалею, а теперь и подавно.
– Почему теперь? – В ее глазах промелькнула напряженность.
Перелыгин пожал плечами, вспоминая теплый осенний вечер, низкое солнце за спиной, себя, идущего за Лидой по улице, прячась в ее длинной тени, – это было спустя два года после их первой размолвки. Вдруг ему стало легко и свободно, словно сошла пелена долго томившей неизвестности. Он освобожденно взглянул на Лиду.
– Ты спрашиваешь, почему теперь? Потому, что иначе мы тут не сидели бы. – Он подумал, что еще вчера такая встреча показалась бы ему немыслимой, и решил прямо сейчас все выяснить до конца. – Тебе не кажется, что мы можем начать сначала?
Он заметил, как замерла рука Лиды, перебиравшая пальцами салфетку на столе. Лида медленно подняла беззащитные, почти виноватые глаза.
– Нам поздно принимать поспешные решения, – тихо сказала она. – Да и что я могу тебе предложить, кроме прописки и съемной квартиры? Мне, правда, обещают, но когда это еще случится… Шалаш, одним словом. Такая вот перспектива.
– Давай не будем об этом, – остановил ее Перелыгин. – Вспомни сказку про лягушек в кувшине со сметаной. Надо просто идти вместе, и все получится.
Лида посмотрела на него с нежной благодарностью.
– Ты остался авантюристом и противником здравого смысла, – доверчиво улыбнувшись, сказала она.
В это время официантка Наташа принесла на подставке чугунок, в котором сквозь отверстия мерцали голубым светом угольки, на чугунке возвышалась шкворчащая сковородка с мясом, грибами и жареной картошкой.
– Это же невозможно съесть! – воскликнула Лида, подставляя тарелку Перелыгину, вооружившемуся большой ложкой.
С них спало напряжение, они заговорили обо всем сразу. Перелыгин рассказал о встрече с Остаповским. Лида слушала, неотступно следя за его глазами.
– И что же теперь будет с вашим Унаканом?
– Боюсь, ничего хорошего. Для многих – это сигнал. Раньше на шурфовке перед взрывом начальник в свисток свистел – предупреждал, что сейчас рванет. Унакан – тот же свисток, как перед взрывом.
– Ничего не понимаю, – прижав пальцы к вискам, замотала головой Лида. – Что такое шурфовка, зачем ее взрывают?
– Извини, я забыл, что здесь другая страна. Шурф – это глубокая дырка в земле, из нее даже днем видны звезды, а взрывают землю, чтобы углублять шурф. Размельченную землю поднимают на поверхность, из нее геологи берут пробы.
– Жуткие вещи ты рассказываешь. – Лида откинулась на спинку стула, под тонким свитерком рельефно очертилась ее полная грудь. – Для меня золото – ювелирные украшения, никогда не поверила бы, что так могут с ним обходиться. Не бросай эту тему.
– Мое тщеславие не столь велико. – Перелыгин с любопытством наблюдал за Лидой – раньше она неохотно вступала в такие дискуссии. «Все-таки золото – страшная сила, – усмехнулся он про себя. – К тому же я мало что могу, впрочем, один шанс пока есть».
За окном стемнело, и ресторан заполнялся журналистами. Скоро он будет напоминать гудящий улей с сизыми клубами табачного дыма, плавающими вокруг плетеных абажурчиков над столами.
– Когда ты летишь обратно? – Перелыгину показалось, что ее голос и знакомые интонации пришли из далекого прошлого. Нет, он действительно ничего не забыл, помнит и этот голос, и эти интонации веселой игры, возникавшие в минуты хорошего настроения.
– Через пару дней. Завтра к матушке хочу съездить. – Он удивился, как просто и буднично прозвучали вопрос и ответ, будто они каждый вечер все годы обсуждали, что собираются делать завтра. Ему расхотелось улетать, чтобы сохранить наметившееся, робкое движение друг к другу, напоминавшее тихое, тонкое время перед рассветом, когда неясности форм проступают из темноты, еще не обретя своих четких линий, время, когда, по словам поэта, «душа с душою говорит». Вместо этого ему предстояло лететь на свой остров смещенного времени, где текла другая жизнь и где не было Лиды.
– Жаль, – сказала она. – Могли бы поехать вместе, дочка там, у бабушки, но завтра я не могу, только в пятницу, а в пятницу ты улетаешь.
Она улыбнулась виноватой улыбкой, и он, чувствуя, о чем говорит ее взгляд, подумал, что они оба понимают, каким ничего не значащим окажется сегодняшний вечер, если останется маленьким недостроенным мостиком, случайно переброшенным из прошлого в настоящее. Вдруг по ее лицу промелькнула смутная решимость, и, медленно подняв в глаза, она всмотрелась в его лицо, зрачки, будто хотела проникнуть в мысли.
– Нет. – Лида подняла рюмку, продолжая поверх нее глядеть ему в глаза. – В пятницу я никуда не поеду, в пятницу я пойду тебя провожать.
И, погасив движением руки его радость, отвечая на его немой вопрос и множество других вопросов, возвращая их незабытое прошлое, сказала:
– Давай выпьем и пойдем. – Движением руки она опять пресекла его возражения. – Поедем ко мне, ты же хочешь узнать, как я жила эти годы. – Она смущенно улыбнулась: – Но предупреждаю, я не ждала гостей.
Они вышли во дворик старинного особняка, обнесенный черной металлической оградой. Промозглый ветер нес мокрую снежную пыль, секущую темными косыми линиями желтый свет фонарей. Выйдя через массивные кованые ворота на бульвар, они остановились, поджидая такси.
– А ты слышал, – вкрадчиво сказала Лида, – что нельзя дважды войти в одну и ту же воду?
– Конечно, нельзя, – засмеялся Перелыгин, семафоря вытянутой рукой. – Та вода уже далеко.
Глава двадцать седьмая
Пунктир времени
Совет Министров СССР принял решение внести от имени советской стороны предложения по расширению гласности в деятельности СЭВ.
В Западной Сибири открыто новое месторождение нефти, названное Узбекским.
Вступила в строй первая очередь Транскавказской автомагистрали. Открыто движение по участку, соединившему Грузию с Северной Осетией.
Нападение на армян в селе Ходжалы. Первое применение огнестрельного оружия в армяно-азербайджанском конфликте.
Открылось судебное заседание по делу о защите чести и достоинства И. Сталина, предъявленного А. Адамовичу И. Шеховцовым.
В Литовской Академии наук завершена работа над проектом новой Конституции Литвы.
В Москве открылся Дом-музей русского певца Ф.И. Шаляпина.
Совершил первый полет новый широкофюзеляжный пассажирсий самолет Ил-96-300, разработанный в ОКБ им. Ильюшина. Самолет предназначен для перевозки 300 пассажиров по маршрутам протяженностью от 9 до 11 тыс. км без промежуточных посадок.
Из Политбюро выведены АЛ. Громыко и М.С. Соломенцев, из кандидатов в члены Политбюро – П.Н. Демичев и В.И. Долгих.
Лайнер, пробив густые облака, вырвался из январской московской оттепели. Внизу ветер носил в воздухе мокрый снег, под ногами чавкала грязная каша, над городом висела серая мгла, перемешанная с выхлопными газами бесконечных автомобильных потоков; здесь за бортом сияло солнце, приветливо улыбались стройные стюардессы, пассажиры устраивались перед шестичасовым полетом. Обратно они летели без посадки на Ил-62.
Рощин сидел хмурый и мрачный, под стать московской погоде. Не удалось отыскать даже намека на щелку, в которую можно было сунуть Унакан.
Один из бывших друзей его отца, человек известный в геологии, Герой Труда, к которому Рощин ездил после Остаповского, выругался: «Не делай из меня на старости лет посмешище, Артем! Скоро будете без разведки копать. И не смотри на меня как на безумца! – крикнул он с горечью. – Будете! И не думай, что я сумасшедший. Сумасшедший – вон. – Он ткнул пальцем в выступающего по телевизору Горбачева. – Вот-вот просрет страну, а ты про Унакан. Подал бумаги – и ладно, жди! Ему, – добавил, снова махнув рукой в телевизор, – на ваше золото – тьфу, он золотой запас страны, как с цыганами за ночь, прогусарил, миллиарды в прорву швыряет».
Рощин злился и на Перелыгина, с которым увиделся только в аэропорту.
– Наша миссия провалилась, – хмуро сказал он. – Не пойму, с чего у тебя такое хорошее настроение, это та, что провожала, так постаралась, кстати, кто она?
Перелыгину совсем не хотелось трепаться о Лиде, и он уклончиво пробурчал:
– Так, одна знакомая.
– Я видел, что одна, – хмыкнул Рощин, – лучше бы их было две.
– Статьи я передал, – сменил тему Перелыгин, – но по запасам информация закрытая, дело почти дохлое. Обещали прощупать обстановку, если чужака напечатать побоятся, могут своего прислать.
В Москве Перелыгин острее почувствовал тревожную неустойчивость времени. В такой обстановке тратить шесть-семь лет на разведку – утопия. Может, правда, стоит повременить. Сорок лет не доходили руки, ну и пусть не доходят, пока жизнь как-нибудь устаканится. Это золото лежало в земле тысячи лет и еще полежит, видно, судьба у него такая.
«Неужели, – думал он, – Сороковов не понимает? А если понимает?! – От этой простой мысли он закрыл глаза, будто они могли выдать его. – Конечно же, понимает! Не может не понимать! Как же я раньше не сообразил. Конечно, понимает, маскируясь конференциями, письмами, разговорами, а на фабрику везут руду. Значит, все решено, а они – обыкновенные марионетки». Перелыгин скосил глаза на Рощина:
– Что дальше собираешься делать?
– Да пошли они! – выругался Рощин. Он выглядел расстроенным, потерял лоск и уверенность, с которыми летел в Москву. – Жаль! Очень место перспективное. – Рощин цокнул языком. – Хотя наколбасил вокруг наш брат геолог, мама не горюй, – отец еще рассказывал. Там разведка нужна основательная. Золотоносные зоны там, возможно, пересекаются. Можно черт знает на что наткнуться. – Он с тоской посмотрел на Перелыгина и отвернулся к окну, но, вероятно, какая-то мысль ему не давала покоя, и он снова обратился к Егору. – Хочешь, скажу, что будет? – Рощин криво улыбнулся. – Я пойду начальником партии и раздолбаю этот Унакан к ядрене фене. Хоть что-то!
– Забавно. – Перелыгин почувствовал, что это не просто вырвавшиеся в запале слова – они обдуманы, Рощин тоже ведет свою игру. – А награды, слава, заголовки в газетах, интервью? – с простецкой наивностью сказал Перелыгин. Ему опять хотелось разозлить Рощина. – Впрочем… – Он ухмыльнулся. – Геростратова слава тоже слава.
– Знаешь что! – Рощин хлопнул рукой по подлокотнику кресла, сжав губы, несколько секунд метался взглядом по лицу Перелыгина, подбирая нужные слова. – Хоть бы и так, – прошипел он, – и вообще, иди ты!
Демонстративно опустил спинку кресла, отвернулся к окну, сложил руки на груди и закрыл глаза.
Через несколько дней Перелыгина срочно вызвали в редакцию.
Нина Семеновна защебетала в трубку:
– Собирайся на «ковер». Гостиницу заказать, как обычно?
– Что стряслось? – попытался выяснить Перелыгин.
– Не знаю, Егорушка, не знаю, взъелся шеф за что-то, очень зол.
В порту Перелыгин плюхнулся в такси и поехал в гостиницу «Лена». Шеф выражал недовольство, что собкоры предпочитают ее обкомовской, где условия лучше, но все селились в беспокойной «Лене» – хотелось шума, суеты, встреч в битком набитом по вечерам ресторане.
Дежурная, выписывая данные из его удостоверения, улыбнулась в окошко:
– Читаем, читаем… – И отправила в новый корпус, где номера были лучше.
В номере Перелыгин распаковал сумку, сунул в пакет пару копченых муксунов – для пива с мужиками, отдельно чира – для Нины Семеновны. Принял душ, поменял свитерок на рубашку, повязал галстук. Издательство располагалось поблизости, и он решил пройтись пешком.
Шел, готовясь к неприятному разговору, подозревая, что неожиданный вызов связан с Сорокововым. Неприятные разговоры с начальством считались частью профессии: редакторам иногда начинает казаться, что кто-то все делает не так, тем более если этот кто-то на расстоянии двух часовых поясов.
С шефом у Перелыгина сложились не очень гладкие отношения, хотя ничего плохого тот Перелыгину не делал. Впрочем, такие отношения у шефа были почти со всеми. Никто его особо не любил, а о двух свойствах характера знали все – он был трусоват, случись что, мог сдать любого и не умел делать добро, но Перелыгин от шефа не хотел ни квартиры, ни перехода в штат, ни должности, вызывая своим равнодушием смутные подозрения.
В редакцию его принимала Алевтина Сергеевна Антонова, замещавшая нынешнего шефа на время учебы. Придя в газету из обкома, она не дала ни малейшего повода журналистскому снобизму, которым редакции встречают «чужих». Через полгода ее стали называть «мамой», надеясь, что прежнего шефа отправят на повышение. Но вышло иначе. Провожали ее обратно с горечью и досадой, и это было ей высшей наградой.
Перелыгин, поеживаясь от порывов ветра, жгущих лицо, как спирт открытую рану, пересек площадь перед обкомом с памятником Ленину. Над памятником подшучивали, что скульптор мог бы изваять Ильича в пальто и шапке, а не студить в одном костюмчике.
Шеф дождался, пока Перелыгин устроится за приставным столиком, и принялся ходить по кабинету. Защелкал шагомер, спрятанный под пиджаком, – шеф следил за здоровьем и выполнял дневную норму по шагам. Это был полысевший мужчина с круглым лицом, широким носом и темными круглыми глазами, невысокий ростом, довольно грузный в начале пятого десятка, поэтому носил свободные костюмы, из-за чего казался еще ниже и толще.
В детстве он наверняка прилежно учил уроки, не водился с «нехорошими» пацанами, не разбил ни одного окна, не дрался улица на улицу. В молодости исправно сдавал сессии, в нужное время женился, в нужное время пришел работать, был не подвержен страстям и не способен на безумный поступок. Он не имел цвета, казался насквозь правильным и старался правильно жить, что включало в себя правильные переживания, правильное любование природой и женщинами, наслаждение хорошим вином, интеллектуальные споры, даже правильный риск, с годами уверовав, что его правильность и позволила ему достичь всего в жизни, а потому считал, что мог правильно судить обо всем.
– Вы сидите в крупнейшем промышленном районе, – начал шеф, – а в ваших материалах не чувствуется перестроечной свежести. Не подмечаете новых тенденций.
Я разговаривал с Сорокововым, он много интересного рассказал.
«Все-таки Сороковое», – тоскливо подумал Перелыгин.
– У вас что – глаз замылился от сидения в одном месте? Перестройка на ходу. – Редактор сел напротив, шагомер стих. – Отмашка сверху на гласность и демократию требует ответной волны снизу. Надо будить людей, отслеживать ростки инициативы на местах. Рабочему пора заговорить о весь голос, бичевать недостатки, не глядя на авторитеты, вы ему должны помогать. – Шеф помолчал, внимательно, даже с участием, посмотрел на Перелыгина. – Скажите откровенно, что происходит?
– Ничего. – Перелыгин пожал плечами. – Не понимаю, как сознание перестраивать мужикам, день и ночь вкалывающим на полигонах и в шахтах. Что они в своей голове должны переделать? Песни петь на работе?
Внимание в глазах шефа сменилось подозрительностью.
– Вы шутите или серьезно? – спросил он с неудовольствием.
– Какие шутки! – Перелыгину стало трудно говорить, в горле запершило.
«Если Сороковов начал новую войну против меня, – подумал он, – значит, не верит, что я союзник, и “просветить” его мог только Рощин. Еще и письма Пилипчука аукаются».
– Опять война с товарищем Сорокововым? – уныло сказал он.
– Не выдумывайте, не то время! В прошлый раз ему объяснили, что мы вас поддерживаем и знаем, что газете надо, – он человек неглупый.
Прошлый раз, о котором вспомнил редактор, случился в самом начале перестройки, которую Перелыгин воспринял с энтузиазмом и верой. За полгода Егор написал десяток статей, проанализировал невыполненные и позабытые решения. Сороковов поначалу терпел, но когда из обкома позвонил знакомый и сказал, что у них гадают, доживет ли он до выборов, то обвинил Перелыгина в очернительстве. Шеф перепугался, но на защиту встала редакция, а когда обком похвалил газету за принципиальность, успокоился.
– Я не могу поддерживать то, что не считаю верным, – глухо сказал Перелыгин, глядя в лакированную поверхность стола.
– Что это означает? – насторожился шеф.
– Ничего особенного. – Перелыгин натянуто улыбнулся. – Приезжает на прииск кто-нибудь из райкома – и давай тормошить: чего отмалчиваетесь, задайте начальничкам пару-жару, зажирели тут, а я всё – на карандаш, пускай попробуют не отреагировать. К чему людей лбами сталкивать? Директор на прииске за ночь домов не настроит, запчасти и колбаса с неба не спустятся. Все предложения связаны с финансированием, но у Комбината лишних денег нет. Тогда зачем говорильня, или это и называется перестройкой массового сознания?
– Подождите, подождите, – поморщился шеф, поднимая руку. Жест получился несколько торжественным, а во взгляде мелькнула снисходительность. – О чем вы? Речь о системе! – Шеф помолчал, подбирая правильные слова, вытянул руку ладонью вверх, будто держал на ней эту систему, прикидывая на вес. – Речь о цивилизационных процессах! Идут сдвиги исторического масштаба, слом старого сознания, тут всякая глупость возможна. Мы их еще много наделаем, это я вам обещаю. Особенно на местах. Там у вас сплошь изобретатели. И надо об этом умело говорить, вот и пишите, не молчите.
– Кто же это напечатает?
– Вы заставьте меня ночку помучиться – ставить или не ставить, – а потом говорите, кто да что.
– Тогда давайте я расспрошу людей, чего они на самом деле ждут. Откровенно. Кусков пять-шесть.
– Вы за событиями следите? – Шеф встал, заходил по кабинету под щелчки шагомера. – Газеты читаете, телевизор смотрите? Все давно поняли, чего хотят. Америку открыть вознамерились? Поздно. Люди свободно об этом говорят, а вы будто оглохли.
– Это мы за них говорим. – Перелыгин угрюмо уставился в полированную крышку стола. – Есть, конечно, активисты…
– Странные у вас мысли, не пойму, куда вы клоните. По-вашему, что же, перемены во вред обществу?
– За всех не скажу, а большинство не понимает, что происходит. Люди жили по известным им правилам. Правила выбрасывают на свалку, других не предлагают, лишают людей здравого смысла и житейской мудрости. Но не спрашивают, что они сами готовы выбросить, а что нет. Вот и давайте спросим.
– Вы в столице этих мыслей нахватались? – неожиданно спросил шеф. – О чем еще говорят?
– Что все кончится номенклатурной революцией или чем-то в этом роде, не знаю. Хаосом, из которого неизвестно что вырастет, – брякнул Перелыгин и пожалел – понавыдумывает теперь черт-те чего.
Шагомер смолк. Шеф постоял у окна, глядя на улицу, потом медленно устроился напротив.
– Валяйте, пишите. Покрутитесь недельку в редакции, пообщайтесь с отделами, освежите впечатления и работайте.
«Он хочет иметь против меня козыри, сданные моими же руками, – подумал Перелыгин. – Понадобится – признает их не соответствующими духу времени, а нет – даст как новый взгляд».
На самом деле, что понадобится завтра, мало кто понимал – вокруг кружили воздушные мозаики рушившегося времени, смешиваясь с фрагментами непонятного, объединяя несоединимое.
– Я призываю вас к мудрости, – неторопливо сказал редактор. – Учитесь справляться со своими противоречиями. Не всегда следует брыкаться и плыть против течения. Случается, оно несет в правильном направлении. Не задирайте Сороковова. Покритиковали – в другой раз найдите положительную тему. Здесь многие, – шеф многозначительно помолчал, – считают его толковым руководителем.
– Знали бы они, какую он им потемкинскую деревню подсунул, – ухмыльнулся Перелыгин, – по последнему слову техники.
– Вы о новом прииске, о письмах Пилипчука? – Редактор вздохнул, посмотрев на Перелыгина с любопытством, как смотрит врач на редкое проявление болезни у пациента.
– Да, шагающие экскаваторы, погрузчики, самосвалы – все сверхмощное. Не проект – сказка. В Москве прослезились – ускорение в чистом виде, свежий дух времени. Денег отвалили, а проект – липа.
– Давайте без оценок, – строго сказал шеф. Он не любил чужих категоричных суждений. – Были проверки, есть заключение экспертизы? Нет? Так не горячитесь! По-вашему, везде дураки? Или главное, чтоб против течения?
– Конечно, не дураки, чтобы такую сладкую песню портить, а за пять лет много воды утечет.
– Выкладывайте аргументы.
– Наши посчитали: золото есть, но очень низкое содержание, низовья большой реки, объемы переработки – мама не горюй. Пилипчук, кстати, в снабжение переведен, хотя все по полочкам разложил, расчетную производительность опроверг, но проект Объединение придумало.
– А Пухов? – Шеф задумался.
– Он себе не враг, – пожал плечами Перелыгин. – Вот вам и перестройка сознания.
– Не так, не так! – нервно остановил шеф. – Вы не разобрались. Что плохого в новом современном прииске?
– Я и говорю, дело не в прииске, а в технике, которую хотят использовать. Проектом воображение поразили. – Перелыгин чувствовал, что разговор идет куда-то не туда, но останавливаться было поздно. – Вот когда себестоимость грамма подсчитают, поразятся еще больше.
– Не лезьте в это… – Шеф, замявшись, внимательно посмотрел на Перелыгина. В его взгляде угадывался какой-то зреющий замысел, в котором отводилось место и Перелыгину. Наконец он поднялся, давая понять, что разговор закончен. – Пусть сами разбираются, мы ничего изменить не можем, а в драку надо кидаться, когда от нее толк есть.
– Во всяком случае, поставку одного шагающего экскаватора остановить удалось, другой в пути. – Перелыгин помялся, не очень понимая, о чем еще говорить.
– Не лезьте, – более строго повторил шеф. – Так вы свою войну у Сороковова не выиграете. – Он протянул руку. Перелыгин пожал мягкую ладонь, вышел в коридор и поплелся к Старухину заведующему отделом промышленности. Там уже сидели несколько человек, наблюдая за процессом чистки рыбы.
Старухин – невысокий широкоплечий, темноволосый, с черными глазами, из которых то и дело выскакивали веселые чертики, – был любимцем половины редакции и нелюбимцем другой ее части. Он все делал с таким видом, будто в ту минуту и получал главное удовольствие в жизни. Даже от чистки рыбы. Чистка велась по особому методу: очень острым ножом срезается тонкая полоска кожи со спины и брюшка, кожа снимается с обоих боков двумя кусками. Затем рыба разрезается по хордовой линии от хвоста до головы и освобождается от костей.
Несколько лет Старухин перечитывал Маркса, получив прозвище Марксист. Он убеждал окружающих, что власть давно игнорирует Марксово учение, отчего все беды в экономике. Шеф называл Старухина ревизионистом. Даже предупредил Перелыгина, чтобы тот был поосторожнее. Перелыгин передал разговор Старухину.
Тот, смеясь, отмахнулся: «Знаю, он всех предупреждает».
В последнее время при помощи Маркса пытались развить идею эксплуатации рабочих государством. Старались придать новый оттенок знакомым со школы понятиям: «прибавочная стоимость», «класс» и «классовая борьба». Эксплуататором объявили номенклатуру. Здравомыслящие люди терялись: почему подобный бред заполняет партийные газеты, журналы, радио и телевидение? Кто с кем и за что тут борется? Сторонников идей примитивного «марксизма» Старухин убивал прямым, как гвоздь, аргументом: если рабочий – иждивенец, при чем тут эксплуатация? Иждивенца кормят за свой счет. Ответить никто не мог, но шеф беспокоился – не хватало оппозиции под носом.
Перелыгин вошел в кабинет, все вопросительно уставились на него.
– Шеф приказал торчать неделю, учиться жить по-новому, потом отваливать и вести себя хорошо, – доложил он, плюхнувшись на стул. – Учите!
– Кто бы меня научил, но ты не расстраивайся, – повел плечами штангиста Старухин, сгреб со стола промасленную бумагу и довольной раскачивающейся походкой, будто секунду назад бросил штангу на помост, двинулся к двери. – Я мыться, а вы пиво открывайте, слюней полон рот.
Оглядывая небольшую компанию, Перелыгин поддался настроению, пожалел, что торчит в Городке. Один. Хорошо чувствовать себя членом сообщества, своим среди этих толковых, острых на язык, веселых людей, особенно сейчас, когда почва колеблется под ногами. Вместе разбирать подковерные интриги местного разлива, к которым, как к куклам-марионеткам, нити тянутся из самой Москвы. Знать, что в неумолимом ходе событий ты не одинокий путник, идущий на перевал узнать на вершине, что сбился с пути.
Чтобы удерживать логику событий, он запоем читал, напитывая себя состоянием и мыслями разных людей, сверяя их понимание происходившего со своим. Все хотели быстрых перемен, выискивали причины бед и обид. Многим казалось: стоит разобрать по кирпичику прочную кладку стройного, почти безупречного исторического мифа, питающего силой, героизмом и уверенностью поколение за поколением, как жизнь волшебным образом переменится.
«Но если разрушить историю, переписав ее, – думал Перелыгин, – то придется сложить новый миф, написать новую историю, а для этого потребуется другая страна. История не пальто – износил, сбросил и купил новое. Она выплавлена ценой множества жертв не для того, чтобы так легко и поспешно лишать их смысла. Пройдя самую трудную часть пути, вдруг растеряться, наделать ошибок, позволить себя обмануть?»
Вошел Старухин, вытирая руки носовым платком. Оживленно, с шумом открывались пивные бутылки. Пошли воспоминания: где, кому какую доводилось есть рыбу, возник спор, что лучше – чир, муксун или омуль?
– Ты близко к сердцу мои слова не принимай, но знай… – Старухин придвинулся к Перелыгину. – Некоторые поговаривают, что живешь ты с непонятным удовольствием, к нам перебираться не хочешь. Другие хотят, а ты нет – странно, и это раздражает.
– Что русскому хорошо, то немцу смерть. Шучу. – Перелыгин отхлебнул пива. – Я ехал не в городе торчать. Сколько у тебя за год командировок наберется?
– Раза четыре слетаю, если повезет.
– Вот! – Перелыгин одобрительно закивал. – Ты сам дал ответ. А я круглый год в командировке: летаю, езжу, плаваю – куда хочу. Взял рюкзак – и к геологам в поле. Ах, какой хлеб там пекут! – Перелыгин зажмурился. – Самый вкусный на свете. – Он приложил руку к груди. – Нигде лучше не ел, честное слово. – Он помолчал. – Если бы я не побывал там, писал бы с чужих слов – было то-то, случилось это, вон за тем бугорком и произошло, торчал бы на парадных показухах. Как тогда окажешься в нужном месте в нужное время? Можно десять раз слетать на дрейфующую станцию Северного полюса и привезти интересный материал, потому что журналист на станции – редкий гость, а рассказывать о полярниках можно бесконечно, хотя лично для тебя ничего особенного не происходит, кроме того, что ты добрался к ним. Кстати, послушать их реально и в Москве… Но однажды, если находишься рядом, ты окажешься в самолете, везущим накануне Нового года на станцию елку, подарки и письма. Мы подлетели, но сильно дуло, ничего не разобрать, по-хорошему – надо было возвращаться, а у нас – елка, письма от родных, подарки… Вел самолет Сашка Громов, раньше он носился на МиГах, но вылетел из ВеВеэС за пьянку. Он у нас всепогодный, летает, когда запрещено, но надо. Мы сделали пару заходов – без толку. И тогда люди на льдине встали двумя рядами, как маяки, показывая полосу. Видел бы ты лица тех мужиков, когда мы сели…
Заговорив о Громове, Перелыгин вспомнил то необычное знакомство. Познакомил их Глобус. Перелыгин собирал материал на автобазе. Глобус был ее знаменитостью, как и Городка, республики, Северо-Востока, а значит – всей страны. Он только подъехал из Магадана – вез на прииски соки, напитки. Перелыгин напросился к нему в попутчики.
Невысокий, плотный, кривоногий, широкий в плечах, лет пятидесяти, Глобус получил свое прозвище не за внешнее сходство темноволосой головы с мячом, а за пройденный по северным трассам путь, равный экватору, без капитального ремонта.
Тогда, апрельским днем, они выехали с базы. Приближались майские праздники, Перелыгин с радостью предчувствовал задушевный разговор, кучу северных баек. Но Глобус оказался ярым индивидуалистом, поносил коллектив, с тщеславной гордостью рассказывал, как ушел из бригады, где половина раздолбаев. Не признавал даже напарников.
– А ты думаешь, почему я на десять лет вперед всех уехал? – скрипел он недовольным голосом. – Потому что машину, как жену, никому не доверяю. Она же кормилица, я в ней живу. Думаешь, вру? – покосился он. – Ей-ей, дома реже бываю. Не-е-е-т, – скрипел он, – за раздолбаями только и знай дерьмо подчищай – там не докрутят, тут не довертят. Поколение наездников, чего с него взять.
Перелыгин уныло слушал Глобуса, очерк срывался. «Что напишешь про этого жлоба?» – злился он.
– Мне, было дело, восемь скатов пропороли, – со скрипом засмеялся Глобус, – прямо на базе. В людях злобы и зависти невпроворот.
– Ветром ее надуло, что ли? – злорадно ухмыльнулся Перелыгин.
– Откуда я знаю, – искренне удивился Глобус. – Вы молодые да умные – разбирайтесь, наше дело – баранку крутить. Только я тебе так скажу, парень, если впрямь интересуешься: раньше на трассе братство было, порядок, а теперь… – Он шлепнул широкой ладонью по рулю. – Раздолбайство! А что да почему, сам думай.
Некоторое время ехали молча.
– Я, знаешь, – оживился вдруг Глобус, – было дело, еду, слышу мотор чухает. Встал. Мороз за пятьдесят. Тихо. В тумане – как в молоке. Ну, открыл капот, ковыряюсь. Слышу, позади машина подъехала. Ага, думаю, не перевелись, значит, правильные кадры.
– А сами-то всегда останавливаетесь? – съехидничал Перелыгин.
– Э, парень, – не заметил иронии Глобус, – я тридцать лет тут шоферю. Раз, по молодости, мимо стоячего проскочил, приехал на базу, а меня – в «яму», в слесаря, значит. И не пожалуешься! Так нас, дураков, учили. А потом уже – мы. Я о чем? – вернулся он к своему рассказу. – Машина остановилась, но никого нет. Странно. Дай, думаю, посмотрю. А этот раздолбай у меня фильтры габаритные скручивает! Не, ты представь! – Глобус неожиданно весело закрякал. – При живом водиле! И самое-то главное, ты слушай… – Глобус всерьез развеселился. – Я ему: ты чё, парень, умом тронулся? А он мне, не, ты слышь, он мне: тебе-то что? Мне габариты нужны. Я так и онемел. Ну, думаю, вовсе народ сбрендил, беспредельщики, так их растак! А машина-то не наша, не базовская, с Городка. Я тихонько в кабину за монтировкой. Возвращаюсь, а он, хоть бы хны, крутит! Может, говорю, ты того, заболел, так я тебя щас подлечу! Ты же, гад, на моих глазах мою машину шаманишь! Тут он начинает въезжать в ситуацию и дико ржать. А я уж было монтировкой его чуть не отоварил. Чего ржешь, спрашиваю, олень? А он мне: я думал, ты сам присоседился, движок-то заглушен, в тумане хрен чего разберешь. Отметили, короче, с ним по маленькой знакомство, да так вместе до Магадана и дошли. Ну? – не повернув головы, спросил довольный Глобус. – Загадал тебе загадку?
Перелыгин промолчал, глядя на изумрудно-синий лед, бегущий под машину. В кабине было чисто и тепло, даже уютно тем уютом, который умеют создать дальнобойщики. Неожиданно впереди по льду серой птицей мелькнула тень, а за ней над машиной пронеслась «Аннушка». Глобус убавил скорость и довольно заулыбался, следя за самолетом. «Аннушка» уверенно тронула лыжами заснеженную поверхность Реки, заскользила, вспучивая за собой клубы искрящегося на солнце снега, лихо развернулась, проехала чуть навстречу и остановилась. Дверь открылась, опустилась лестница, по ней сбежал человек в меховом летном комбинезоне и направился к машине.
– Теперь, парень, смотри, запоминай, да не болтай.
Глобус, кряхтя, вылез из кабины. Перелыгин спустился с другой стороны.
Летчик подходил к Глобусу, раскинув руки.
– Дядя Гриша! Крестничек! Не ожидал! – закричал он, обнимая Глобуса. – А я вижу, кто-то, не иначе, огненную воду тянет! Повезло выходит, а? – Он радостно похлопал Глобуса по плечу. – А это с тобой кто?
– Корреспондент, – важно проскрипел Глобус. – Писать про меня надумал. А чего про меня писать?
– Не скромничай, дядя Гриша! Не скромничай! – крикнул летчик. – Ты, земеля, ко мне заскакивай, – легонько толкнул он Перелыгина кулаком. – Громова спросишь, любой покажет. Я много чего про него расскажу. Хочешь, прямо сейчас полетим?
– Сейчас не полечу, – улыбнулся Перелыгин, – а заеду обязательно, спасибо.
– За что спасибо-то, – засмеялся Громов.
– За приглашение спасибо, – опять улыбнулся Перелыгин.
– А-а, – протянул Громов, – тогда жду. Спасибо, землячок, после скажешь!
О Громове ходили легенды. Когда-то он был летчиком-истребителем. Считался асом, успел поучаствовать в небольшой войне, а вернувшись, загулял и был выгнан из ВВС. Здесь тоже иногда срывался в штопор, не летал, но прощали за летный талант и отвагу. Он вывозил из таежных кутьев больных, раненых, беременных, умирающих, детей и взрослых, летал, когда лететь было нельзя, за что и получил прозвище Вездеход.
– Летаешь, значит, – тепло скрипнул Глобус.
– Как видишь, дядя Гриш, только мне уже пора.
– Сейчас, сейчас, – заспешил Глобус. Порылся в инструментах, взял кусачки и двинулся в конец рефрижератора. Открыв ключом висячий замок, перекусил проволоку с пломбой и подозвал Перелыгина.






