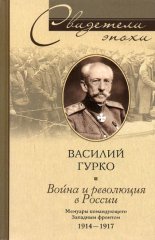Супружеские игры Нуровская Мария
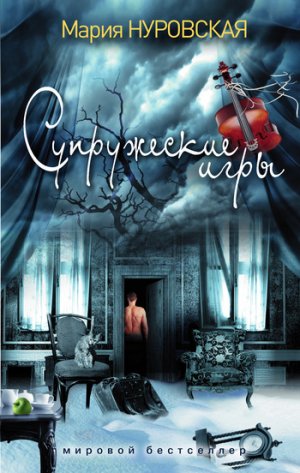
Я молчала.
– Но ведь для тебя это должно быть хорошей новостью. – В ее голосе прозвучала нотка разочарования, вызванная моей реакцией.
– Новость хорошая, – ответила я тоном вежливой ученицы, но в душе была не совсем уверена в этом. Потому что вдруг осознала, что мне, совсем как Агате, некуда идти и я даже не знаю, что мне делать с этими тремя днями обрушившейся на меня свободы. Разумеется, я могла бы поехать к дяде в Варшаву, но как войти в ту квартиру?.. Пока я не чувствовала себя в силах войти туда… Мое разбирательство с Эдвардом еще было не закончено, несмотря на то что приговор прозвучал и я отбываю назначенный мне срок. Окончание этого срока вовсе не означает для меня свободы, потому что я сама себя еще не осудила, я все еще не знала, что мне думать о себе. Мать Эдварда пришла в суд в глубоком трауре. При даче свидетельских показаний голос у нее так дрожал, что некоторые слова невозможно было разобрать. Словно все произошло только вчера, а не два года назад.
– Высокий суд, эта женщина – весьма странная особа. Она испортила моему сыну карьеру, а потом… потом…
Я никак не могла понять, какую карьеру я ему испортила, что она имела в виду. Видимо, заграничную, потому что Эдвард сразу после введения военного положения хотел уехать из страны, а я была против. Несмотря на то что его ничего не связывало с движением «Солидарность», даже наоборот, ему все же предложили преподавать за границей, в Сорбонне, на хороших условиях, обеспечивали квартирой.
– Здесь всегда была глухая провинция, – пытался он убедить меня, – а после всего этого мы вообще окажемся в средневековье. Та горстка интеллектуалов, которая у нас осталась, еще долго не поднимется после нокаута Ярузельского, ведь Польская академия наук наполовину состоит из оппортунистов, а наполовину из стукачей. И те, и другие теперь будут долго, годами, лечить свое моральное похмелье. В жизни культуры и науки наступит регресс. Так им и надо, зачем надо было совать пальцы между дверями? Прошу тебя, Дарья, уедем со мной.
В ответ я лишь отрицательно качала головой:
– Хочешь – поезжай один, наш брак все равно угасает.
А он брал мое лицо в свои ладони и, глядя мне прямо в глаза, отвечал:
– Без тебя никуда с места не двинусь.
Я была нужна ему, так же как он был нужен мне, хотя вместе мы жить не умели. И все-таки у меня оставалась надежда, что уж состариться вместе мы сумеем. Даже тогда, когда он жил с той, другой, эта надежда грела меня. В глубине души я считала, что в старости он выберет меня. Быть может, все так и произошло бы – его новая избранница была намного моложе… Какой была бы моя жизнь, если бы Эдвард все же уехал тогда во Францию? Поехала бы я вслед за ним или старалась строить свою жизнь по-своему? По прошествии трех лет, с тех пор как его нет и уже никогда не будет, я так этому и не научилась. Я все еще завишу от него, даже думать стараюсь так, как хотел бы того он. Так что физическое устранение ничем не помогло.
Его первая попытка зажить своей жизнью с другой женщиной стала последней, закончившись смертью, его смертью…
Наш Амстердам… В самолете мы сидели с Эдвардом рядом, он читал «Тайме» на языке, который я возненавидела – он отнял у меня мужа. Итак, он читал, а я сидела бок о бок с ним, чувствуя сквозь одежду прикосновение его плеча. Это прикосновение было случайным или нет?.. Желая проверить, я слегка отодвинулась, спустя какое-то время его плечо снова коснулось меня. Было в этом что-то электризующее. Я украдкой взглянула на Эдварда. Он, казалось, был целиком поглощен чтением, выражение лица было совершенно невозмутимое, но ведь мы делили с ним не постель, а всего лишь кресла в самолете.
На месте нас ожидал сюрприз: перед выездом я направила факс организаторам, уведомляя их, что приеду с мужем, а посему прошу забронировать два номера, но, поскольку факс пришел с опозданием, свободных одноместных номеров к тому времени не осталось. Господин, встречавший нас в аэропорту, долго извинялся по этому поводу.
– Нет проблем, – отмахнулся Эдвард. – Нам с женой вполне хватит и одного номера.
При этих словах я испытала странное чувство. Возможно, вмешалась сама судьба, подумалось мне, может, отсюда мы вернемся вместе… Эдвард позвонит своей пассии и скажет:
– Извини, дорогая, но я решил вернуться к жене…
Все последующее время я жила словно в трансе. Вечером первого дня мы поужинали в ресторане гостиницы, а потом на лифте поднялись к себе. В лифте наши глаза встретились, и Эдвард тепло улыбнулся мне. Мыться он пошел, как обычно, первым. Из ванны вышел в пижаме и, нисколько не смутившись, спросил, какую кровать я предпочитаю, а когда я ответила, что мне все равно, занял ту, что ближе к окну. Теперь была моя очередь идти в ванную. Помещение ванной отличалось шиком – отель был высокого класса, никогда прежде нам не доводилось жить в таком за границей. Я разглядывала себя в зеркале, оценивая свои женские достоинства. Могу ли я еще нравиться, возбуждать желание? Распахнув рубашку, я осматривала свою грудь. Кажется, она была в порядке, без каких либо признаков старения. Когда я вернулась в комнату, Эдвард спал. В той нашей жизни я приняла бы это с облегчением, теперь же я почувствовала разочарование. Я легла, но так до утра и не сомкнула глаз. День мне предстоял трудный, но, несмотря на это, ни о чем другом, кроме того, что он находится в такой близости от меня, я думать не могла.
Моя встреча с читателями прошла с успехом, потом состоялся банкет. В гостиницу мы вернулись за полночь. Это была наша последняя ночь здесь – и мой последний шанс. На сей раз первой в ванную отправилась я. В постель я ложилась с бешено колотящимся сердцем, в ушах стоял шум.
Погасив свет, Эдвард забрался под одеяло.
– Спокойной ночи, – сказал он.
– …ночи, – буркнула я.
Он лежал на боку, спиной ко мне. Я лихорадочно искала повод, о чем бы заговорить с ним, боясь, что он тут же заснет.
– Вечер удался на славу… – неуверенно начала я.
– Может, наконец ты избавишься от комплекса провинциальной писательницы?
– Это ты считал меня провинциальной писательницей.
– Ну вот, опять я виноват.
– Нет, виновата была всегда я, только я! Пресловутая черная овца в нашем супружестве!
– Дарья, не забывай, что муж овцы – баран!
Мы оба прыснули от смеха. Эдвард зажег ночник.
– Может, найдется что-нибудь в баре? Пить хочется, – сказал он.
– Да ведь у нас есть шампанское! – чуть ли не закричала я.
По приезде мы нашли на столе в нашем номере корзину цветов и бутылку шампанского в ведерке со льдом, а рядом открытку с приветствиями от организаторов моей встречи с читателями. В тот день мы спешили (Эдвард сунул бутылку в холодильник) и позабыли о ней.
Теперь мы сидели на диване – он в пижаме, я в ночной рубашке – и пили шампанское. Шампанское… совсем как в самом начале нашей игры, подумала я. Может, самое время начать нормальную жизнь?..
В голове шумело, лицо Эдварда виднелось словно сквозь легкую дымку, которую хотелось стереть с его лица – мне хотелось отчетливо видеть лицо мужчины всей моей жизни.
Я протянула руку, а он поцеловал ее.
– Вернись ко мне, – горячо зашептала я. – Начнем все с начала.
Он отрицательно помотал головой:
– Дарья, так уж устроен этот мир, что у всего существует только одно начало и один конец.
– Но в любви бывает и два, и три… и пять, если двое любят друг друга. Я никогда не переставала любить тебя.
– Я тоже.
– Возьми меня!
– Не могу, – жалобно протянул он.
Когда мы снова улеглись и Эдвард погасил свет, я пришла к нему в постель. В первый момент мы крепко обнялись, я чувствовала тепло его тела. Но он тут же выпустил меня из объятий:
– Дарья! Все это лишено смысла!
– Ты сказал, что любишь меня!
– Люблю, но не могу… мы не можем…
– Только один раз, я так хочу тебя!
– Нет! Потом ты будешь жалеть…
В бешенстве я вскочила и вернулась в свою постель.
– Извини, – услышала я из темноты.
– Убила бы тебя сейчас, – сдавленным шепотом проговорила я – слезы душили меня.
Иза закурила очередную сигарету.
– У меня для тебя еще одна информация. В вашу камеру подселят двух новеньких. Все нары будут заняты, станет совсем тесно. Хочешь, я похлопочу, чтоб тебя перевели в другую, попросторней? Есть одна камера на четверых.
– Нет, я тут уже привыкла, как кошка, которая привязывается к одному месту. И кроме того, худо-бедно сжилась со своими соседками по камере. Все не так плохо, как мне представлялось вначале.
– Понятно, – усмехнулась Иза. – Коль ты справилась с этой жуткой лесбиянкой, с остальными как-нибудь сладишь.
– Она очень несчастная женщина.
– Ну еще пожалей ее, – фыркнула Иза.
– А эти новенькие, кто они?
– Одна – москвичка. Увидишь – глазам своим не поверишь.
– Как москвичка? – не поняла я.
– Ну, русская, из Москвы к нам залетела. Кандидат юридических наук, и, несмотря на это, схлопотала у нас уже второй срок, первый получила условно.
– Наверное, за нелегальную торговлю, – догадалась я. Как-то на Центральном вокзале мне в глаза бросилась странная пара. Он – в распахнутой дубленке и меховой шапке на голове, она – в пальтишке в крупную клетку. В ногах у них стоял открытый чемодан, а в нем какие-то мелочи: электрокипятильники, утюги, фарфоровые безделушки, мужские носки. Лица у торгующих были вполне интеллигентные, и я решила что-нибудь купить. Остановила свой выбор на носках, хотя они были неважного качества, с пошлым рисунком.
Молодая женщина всучила мне еще фарфорового мишку, сувенир с Олимпийских игр в Москве. Дни славы минули безвозвратно…. Слово за слово, мы разговорились, и я узнала, что они из Санкт-Петербурга. Он – профессор-славист, богемист, уволенный из университета по сокращению штатов, она – доцент. Остались без средств к существованию, ждут ребенка. Пришлось заняться торговлей. Я хотела дать им хоть немного денег, но потом передумала – для них это было бы слишком унизительно, поэтому я решила купить еще утюг, две упаковки лампочек по шестьдесят свечей и прямоугольный кипятильник, форма которого меня несколько озадачила. Но они объяснили, что он долго не перегорит, в отличие от нашего, польского, и я смогу пользоваться им в течение многих лет. Все это я принесла домой, потому что было неудобно избавляться от этого по дороге. Мне все казалось, что они могут увидеть.
– Торговля живым товаром, – объяснила Иза. – Полбеды, если бы себя продавала, но она брала деньги за сводничество. Скорее всего, нам так бы и не удалось ее замести – такие фирмы теперь в моде, – но она стала брать на работу несовершеннолетних, к тому же иногда их похищали прямо из дома. Вдобавок ко всему у нее были обширные связи с мафией. И тому подобное. С виду ни за что не догадаешься, чем она занимается в действительности. На первый взгляд прямо гранд-дама.
– А другая?
– Дубликат пани Манко, только помладше. – Иза знала, какими кличками я наградила своих сокамерниц.
Уже в тот же вечер в нашей камере произошел скандал: явились новенькие, им предстояло выбрать верхние или нижние нары. Аферистка, как и я, привыкла к своему месту наверху, а может, просто боялась занимать нары умершей.
Первой заявилась русская. Она действительно была очень эффектной, даже тюремная роба не портила ее красоты. Впрочем, в моем представлении дама должна выглядеть иначе – это была какая-то женщина-вамп советского разлива. Мне казалось, что такая способна поставить нашу Агату на колени, а получилось совсем наоборот. Не успела новоприбывшая водрузить свой пластиковый пакет на нижние нары, как подскочила Агата и одним махом сбросила его на пол.
– Ты что, подруга? – удивленно спросила Москвичка по– польски. – Ведь место свободно.
– Свободно, да не для всех, – процедила Агата. – Не для такой русской стервы, как ты. А ну-ка полезай наверх! Здесь будет спать полька.
Москвичка с обиженным видом переложила свою сетку на верхние нары, а сама подсела к столу, положив руки на столешницу. Кисти рук у нее были некрасивые, пухлые, с короткими пальцами. Отчетливо виднелись следы от колец, которые наверняка отправились прямиком в хранилище. С ней никто не заговаривал, ни о чем ее не спрашивал. Я решила проявить гостеприимство. Отложив книгу, спустилась вниз и присела рядом с ней. Она взглянула на меня с благодарностью.
– Меня зовут Дарья, – представилась я.
– А я Лена, – поспешно ответила она.
– Ну, снюхались, – услышала я недовольный голос Агаты, но, не подав виду, продолжала разговор. Представила ей по очереди остальных сокамерниц, то есть Маску и Любовницу, хотя с их стороны не было проявлено ни малейшего интереса. Аферистки все еще не было, она торчала на кухне.
– Я не задержусь здесь надолго, – сказала новенькая. – Это просто недоразумение, мой адвокат уже работает над тем, чтоб дело прикрыли. У меня было агентство фотомоделей…
– Ага, как же, – вмешалась Агата, – давала советы, как им лучше моделировать член!
Откуда она все это знает, подумала я. Обо мне ей тоже многое было известно, не успела я еще ступить на порог камеры. И какой у меня срок, и за что. После реплики Агаты лицо Лены залилось краской, а потом она, повернув голову в сторону Агаты, с умилением спросила:
– А ты здесь за что, подруга? На базаре своим салом торговала?
Не говоря ни слова, Агата подскочила к ней, собираясь по привычке отправить Москвичку в нокаут, но та уклонилась, и удар пришелся в воздух. Лицо Агаты пошло кирпичными пятнами. Наклонив голову, она как разъяренный зверь ринулась в атаку. Завязалась борьба. Шансов у Лены не было никаких, вскоре Агата уже сидела верхом на ней и мутузила ее головой об пол. Я с ужасом думала, что сию минуту Лена умрет. В душе я чувствовала себя виноватой за то, что спровоцировала эту драку. Черт меня дернул вмешиваться. Про себя я молилась, чтобы шум дошел до надзирательницы. Если бы ее вызвала я, для меня бы это добром не кончилось. Не стоило злоупотреблять установившимися добрыми отношениями с Агатой, все же она была непредсказуема. Ей были не чужды не только переживания в стиле Скарлетт, материнское сердце, но и небывалая жестокость. Я попыталась разнять дерущихся женщин, однако Агата отмахивалась от меня как от назойливой мухи. Наконец, оторвавшись на минуту от истерзанной Лены, она со злостью огрызнулась:
– Отвали, Дарья, а не то и тебе достанется!
– Да ты ж ее до смерти забьешь!
– Не забью, – успокоила она меня. – Русский лоб крепок!
Наконец Агата угомонилась, решив, что той уже достаточно. Москвичка попыталась подняться, опершись о край нар. Сидя на полу, она постаралась привести себя в порядок, беспомощным жестом приглаживая растрепанные волосы. При виде этого жеста я почувствовала комок в горле. К тому же один глаз у нее начал заплывать со страшной скоростью, и вскоре она уже не могла поднять веко.
Намочив холодной водой носовой платок, я протянула ей, чтобы она могла себе сделать компресс. Агата же приступила к вразумлению новенькой:
– У нас тут полная солидарность, все мы дежурили по справедливости, но теперь, когда появилась такая стерва, говно за нас будет выносить она.
Лена сидела молча за столом с компрессом на глазу.
– Ну ты, стерва, слышала?
Москвичка продолжала молчать. Испугавшись, что это молчание снова может вывести из себя Агату, я сказала:
– Агата, она тоже человек.
– Стерва она, а не человек, – повторила Агата.
– Я тоже могла бы так думать о тебе! – выкрикнула я, мне было уже все равно.
Между бровями у Агаты появилось красное пятно, под кожей заходили желваки. И все же она не отважилась ударить меня.
– Знаешь, Дарья, жаль мне тебя, – только и сказала она.
Забравшись на свои нары, Агата повернулась лицом к стене. Мысленно я окрестила это положение «кит на песке». Меня всю трясло, наверное, сейчас я бы не смогла влезть к себе наверх, в ногах была противная слабость. Не хотелось мне, однако, и подсаживаться к Лене, и так я уже заварила кашу. Поэтому я просто вышла из камеры, мысленно благословляя новые предписания, которые позволяли заключенным свободно перемещаться вплоть до отбоя.
Когда я вернулась, в камере была уже вторая новенькая. Невысокая, миниатюрная женщина, лет тридцати на вид. Стоя посередине камеры, она показывала свои шрамы на руках и рассказывала о пожаре на ферме по разведению кур.
Пожар начался ночью и вконец разорил ее и мужа. Вдобавок ко всему, после дотошного следствия суд пришел к выводу, что это они сами подожгли строения, чтобы обмануть кредитовавший их банк, а на деньги от страховки поставить новые курятники. Несушек в момент пожара в курятнике не было, как засвидетельствовали понятые, только перья, якобы для введения в заблуждение следствия. Куры потом отыскались на другой ферме, куда их якобы отдали на сохранение. Кто-то накатал на них донос. Понаехало людей из прокуратуры, они подсчитали, сколько этих кур у соседей, и вышло, что ровно наполовину больше, чем нужно. Вот такие завистливые люди, злились, что им удалось разбогатеть. Но ведь это только благодаря тому, что вкалывали как проклятые, порой отказывая себе во всем. А нынешний суд такой же несправедливый, как и во времена коммуняк. То, в чем их обвинили, явная чепуха, не правда ли? Ну зачем ей было свои руки портить?
Из ее рассказа следовало, что она вовсе не вторая пани Манко (пусть земля ей будет пухом), а скорее Аферистка номер два.
Беседа с Изой
И ты его простила?
– Дело не в том, простила ли я его или нет, просто мы обе были ему нужны. Начала складываться новая конструкция нашей жизни, в которой появился новый элемент. Я хотела проверить, насколько его хватит. С какой-то животной яростью я пыталась перетянуть Эдварда на свою сторону, оторвать от другой. Это превратилось в своеобразную манию – завлечь его на Мальчевского и удерживать там настолько долго, насколько удастся, потому что тогда он будет не с ней…
– Но ведь ты сознавала, что он все-таки вернется к ней.
– Тогда для меня важны были каждые пять минут…
– А ты не пыталась связать свою судьбу с кем-нибудь другим?
– Нет, я даже никогда об этом не думала. Если мне кто и нравился, то я не рассматривала его в качестве возможного партнера. Моим партнером до конца оставался только Эдвард. Только с ним я могла разделить свою жизнь, ни с кем другим.
– Жаль все же, что ты даже не попыталась. Мне почему– то кажется, что он тебя не привлекал в физическом плане. В сексе большую роль играет восхищение другим…
– Ну почему же, я восхищалась своим мужем, его умом, интеллектом.
– Но ведь не с интеллектом ты ложилась в постель! Сама же призналась, что как мужчина он был для тебя тряпкой…
– Я никогда этого не говорила.
– Да ты что? Я слышала это собственными ушами!
– Как человек, а не как мужчина. Мне не нравилась его жизненная позиция, на этом фоне между нами без конца разыгрывались скандалы. Но как мужчина Эдвард был безупречен. Разумеется, не так красив, как Пауль Нойман[14], но по обаянию вполне мог с ним сравниться. Отсюда и такой успех у женщин.
– Тебя, Дарья, не переубедишь!
Наш супружеский союз рухнул не оттого, что мой муж ушел к другой. Причина скорее крылась в ином – его внезапное равнодушие по отношению к моей жизни и моим проблемам. До этого момента в трудных ситуациях мы всегда держались вместе. Он советовал мне, а не ей. Та была слишком глупа. Но справедливости ради стоит сказать, что он никогда не пользовался моими советами. И наоборот. Помню, что он не советовал мне публиковать фельетоны в одном из варшавских еженедельников. У тебя слишком острый язык, говорил он мне, только людей обидишь. Зачем тебе это? Сиди и пиши свои книжки. А я, несмотря на это, писала фельетоны, один из которых принес мне немало врагов. Вспоминая в годовщину смерти ксёндза Попелюшко, я намекнула, как вели себя люди из нашего общества во время его похорон. В фельетоне описала своих коллег, которые наперегонки спешили попозировать перед телекамерами заграничных репортеров ради того, чтобы мелькнуть на телеэкранах или сказать несколько слов в микрофон о том, как они потрясены произошедшим. Вдалеке от толпящихся возле телевизионных камер знаменитостей одиноко стояли родители замученного в застенках госбезопасности ксёндза. Простые люди, пожилая пара, испуганная всем, что происходило у них на глазах, – они-то приехали на похороны сына…
Мой текст стал той самой пресловутой палкой, разворошившей муравейник. Все почувствовали себя обиженными, все, кто там был, подозревали, что именно их я имею в виду. «На кого это она намекает?» – вопрошал один из обиженных. Даже поговаривали об исключении меня из Союза писателей. Я ожидала хоть какого-нибудь жеста солидарности от Эдварда.
– Так тебе и надо, – сказал он. – Я тебя предупреждал. Знаешь еврейскую поговорку: Капп man trinken, капп man tanzen aber niemals mit zasrancen?[15]
Он никогда мне не протягивал руки в минуты моих поражений, однако ожидал этого от меня, когда проблемы возникали у него. И только ту, свою другую жизнь оберегал от меня с самого начала. О болезни его любовницы я узнала, когда ей было уже совсем плохо. Довольно долго он не давал о себе знать, поэтому я позвонила в редакцию.
– Пана редактора нет, – ответила мне его секретарша.
– А когда он будет?
– Его уже не будет, он в больнице.
Я перепугалась, что с ним что-то случилось, а оказывается, это ее положили на операцию. Отняли грудь. Рак, обнаруженный слишком поздно. Секретарша не сказала мне об этом, да и как бы она объяснила жене, что ее муж в больнице сидит у постели любовницы. На мой вопрос, что случилось, секретарша сказала:
– Пан редактор сам вам расскажет.
Он был совсем сломлен, с лицом, залитым слезами. Когда-то он так же рыдал, когда у меня болел зуб. Эдвард не умел переносить боль близких ему людей. Плачешь, потому что сломалась твоя игрушка, подумала я с какой-то горькой обидой. Это было своего рода возмездием за его подлое поведение, когда умирала бабушка. Он не умел справляться с болезнями и смертью, не умел найти верный тон, быть может, отсюда и его жестокость. А теперь смерть была рядом, в одной постели с ним. Ее болезнь – это какая-то коварная игра судьбы, которая не дала им долго наслаждаться жизнью вдвоем, когда не надо было врать и скрываться. Не знаю точно, когда начался этот роман, но подозреваю, что задолго до того, как она переехала в нашу квартиру. Я успела забыть, что она уже приходила в наш дом.
Обычно я закрывала дверь в свою комнату, но до меня доносились их голоса. Обрывки английских предложений, его смех, ее смех. Его фразы типа:
– Так точно, пани профессор!
И ее ответ:
– Всего лишь магистр, пан доцент!
Это говорилось по-польски, поэтому запомнилось мне.
Чувства, которые я испытала в первый момент, когда узнала о ее болезни, постепенно менялись. Медленно, как через черный ход, приходило сочувствие. Ее болезнь потрясла меня не меньше, чем Эдварда. Она завладела мной, я уже была почти не в силах думать ни о чем другом. Слово «больница» приобрело зловещее значение. Я всегда боялась ее, но теперь при мысли о крови, операциях и перевязках просто впадала в панику. Когда я порезала руку и дядя перебинтовал ее, я вдруг не вынесла этого и в бешенстве содрала повязку. Старик, верно, подумал, что я сошла с ума. Он смотрел на меня со страхом. Его взгляд привел меня в чувство.
– Рана совсем неопасная, – оправдывалась я. – Заживет и без повязки…
Разговор с Изой
Никто от тебя не требовал сочувствия по отношению к этой женщине. Она же тебя не пожалела, когда въехала в твой дом и забрала у тебя мужа.
– И все же мое сочувствие не было показным.
Мои сокамерницы, за исключением Аферистки номер один, у которой разболелась голова, отправились в камеру по соседству смотреть цветной телевизор. Вскоре я услышала за стеной взрывы хохота, а потом вбежала Маска, она вся светилась.
– Дарья, слушай, вот так номер! В Америке одна баба своему мужу отрезала член!
– Прекрати сейчас же, меня сейчас вырвет! – откликнулась слабым голосом Аферистка, лежавшая лицом к стене.
– Что ни говори, а баба находчивая!
Внезапно, открыв глаза, я увидела перед собой белую стену. Я была совершенно одна. В изоляторе. Но где? В тюремной больнице? Нет, там, кажется, нет такого помещения. Так значит, это больница в Слубицах? А может, в Варшаве? Страшно болела голова, я чувствовала себя обессиленной, не могла даже приподнять руку с одеяла. Оказалось, что я подключена к капельнице. Что произошло? Почему я здесь?
Перед тем как я очнулась, мне снился странный сон. Снилось, что я стою у кровати моей соперницы. В больнице, где она умирала, я никогда не была. Это он там дежурил, а потом приходил на Мальчевского, забивался в угол и молчал. Мы оба молчали. Однажды я застала его сидящим на лестнице перед квартирой дяди.
– У тебя ведь есть ключи, – сказала я, а он поднял голову и посмотрел на меня. Я была в ужасе, взгляд у него был совершенно отсутствующий.
– Сегодня утром она умерла, – сказал он.
Перед моими глазами возникла сцена, когда я видела ее в последний раз. Забежав в продуктовый магазин, я случайно наткнулась на них обоих. Ее я узнала только потому, что рядом с ней был Эдвард, – так сильно она изменилась. От ее пышной фигуры почти ничего не осталось, теперь она казалась костлявой, зачесанные в пучок волосы открывали исхудавшую шею. Стоя у прилавка, она выбирала плавленый сыр, потом в какой-то момент повернула голову к Эдварду, и тогда я увидела ее лицо нездорового желтоватого оттенка, с темными кругами под глазами. Помню, я тогда подумала, что это из– за весеннего авитаминоза. Я не знала, что она больна.
Стоя в хвосте длинной очереди, я наблюдала, как они отходят от прилавка и направляются в сторону выхода. Эдвард нес сумку с покупками, идя на шаг сзади нее. В его фигуре было что-то лакейское, он чуть не наступал ей на пятки, весь подавшись вперед. Мне припомнился снимок из одного английского журнала, на котором была запечатлена мать последнего царя России, седовласая Мария Федоровна, в обществе верного ей казака лейб-гвардии. Он тоже шел на шаг позади бывшей царицы, готовый исполнить любой ее приказ. Они продефилировали мимо, настолько поглощенные друг другом, что ни один из них так меня и не заметил.
Жалкое зрелище, подумала я, впрочем, если бы я знала о ее состоянии, то не была бы столь сурова в своих оценках.
Входит мужчина в белом халате и, стоя в ногах кровати, некоторое время изучает мою карту, а потом, посмотрев на меня с улыбкой, говорит:
– Проснулась наша спящая красавица?
– Где я? – спрашиваю я, про себя удивляясь своему слабому голосу.
– В больнице.
– В Слубицах?
– Именно так.
– Это хорошо.
– Я тоже так думаю, – отвечает он, не переставая улыбаться.
Он меня не так понял. Я выражала удовлетворение тем, что меня не перевезли в Варшаву. Насколько далеко это было бы от Изы… Я все еще не понимала, из-за чего я здесь оказалась.
– Что со мной?
– Все будет хорошо, пани Дарья, – сказал он, не отвечая прямо на вопрос. – Вы еще напишете много хороших книг. Но пока вам придется полежать у нас пару-тройку дней.
Когда он наконец ушел, я с трудом воспроизвела в памяти кое-какие детали. Камера. Я иду с парашей к выходу, Агата преграждает мне дорогу. Говорит: «Свои привычки ты должна отстоять». И здесь обрыв. Фильм прерывается. Может, она меня избила? Между нами произошла ссора? Если она так же била меня головой об пол, как было в случае с Москвичкой, то ничего удивительного, что мне так плохо. Я коснулась рукой лба, потом провела по волосам – никаких бинтов не было. Но голова страшно болела. В ужасе я подумала, что меня парализовало, однако пальцы рук и ног двигались свободно. Голова, кажется, тоже, только это причиняло сильную боль. Я хотела еще о чем-то подумать, но все большая усталость овладевала мной, веки начали слипаться, они стали совсем тяжелыми. Постепенно я проваливалась в душный, почти наркотический сон. Я боялась, что вернется видение той больничной койки, которое, должно быть, все время маячило в моем подсознании.
Ночью повторился старый сон – рецензент моей ненаписанной книги, слова которого ввинчивались мне прямо в мозг.
Действие разыгрывается в женской тюрьме, на фоне жизни которой разворачиваются воспоминания главной героини, осужденной за убийство мужа. Перед нами проходят картины повседневной жизни женщин-заключенных. Героиня увлечена женщиной-офицером по воспитательной части, она открывает для себя сокамерниц, их непримиримое отношение к мужчинам. Они сходятся на общем неприятии мира, управляемого мужчинами и… сотворенного главным суперменом – Богом…
Автор использует Калицкую, дает часть биографии Калицкой своей героине, но Калицкая и Дарья из романа – разные люди. Это интересно, хотя понятно становится не сразу…
Назойливый голос наконец умолк – мне удалось вырваться из этого ночного кошмара. Слушать слова рецензии на ненаписанную книгу – это кошмар… Вдобавок ко всему трудно было сориентироваться, положительная это оценка или отрицательная. Голос бесстрастно пересказывал только содержание романа-призрака. Сам язык рецензии звучал странно… это была скорее разговорная речь, а не научный стиль, поэтому слова так застревали в памяти… быть может, это мое подсознание подсовывало мне таким образом «тему»…
До утра я так больше и не заснула. Я встала с постели и подошла к окну. В первых лучах восходящего солнца виднелась часть тюремного двора, а за забором – крона старой вербы. Она была зеленой и густо покрытой листьями. Мое возвращение в камеру пришлось на раннюю осень, обещанную увольнительную черти взяли. Но, по правде говоря, не так уж я в ней нуждалась. Теперь придется немного подождать с увольнением в город, потому что один из заключенных использовал свое увольнение, чтобы зарезать две очередные жертвы. А посему тюремная администрация начала осторожничать – не так охотно стала отпускать заключенных, подобных мне, на временную свободу. Я, правда, не такой уж головорез, но все-таки статья, по которой меня осудили, та же самая:
«Убивший человека подвергается тюремному наказанию не менее чем на восемь лет, вплоть до смертной казни».
В камеру я вернулась утром, когда все были за территорией тюрьмы, в пошивочных мастерских.
Я заняла нижние нары, которые были приготовлены для меня заранее. Снова произошли перемещения. Теперь внизу спим мы: я, Агата и Аферистка номер два, потому что она беременна. Маска с Любовницей отправились наверх, на мое место. Меня это огорчило – наверху у меня был своего рода оазис, элемент изоляции. Сейчас же вся моя жизнь будет у остальных как на ладони, а меня это совсем не радует. Встреча с Агатой прошла буднично, то есть мы обе усиленно делали вид, что друг друга не замечаем, пока Маска не выдержала и не сказала, свесившись сверху:
– Агата, ты заметила, что Дарья снова с нами?
– Я не слепая, – прозвучал короткий ответ.
Несколько дней спустя она заявилась в библиотеку. На
ловца и зверь бежит, подумалось мне. Как когда-то Любовница рылась в карточках, в ожидании, когда она сможет поговорить со мной наедине, так теперь это делала Агата. Наконец она подошла к стойке.
– Ты что-нибудь выбрала? – сухо осведомилась я.
– А я ничего и не собиралась брать, – откровенно ответила она. – Я хочу с тобой поговорить.
– Не о чем нам с тобой разговаривать. Сама же вначале сказала, что если я буду с вами по-человечески, то и вы со мной будете по-человечески. А разве ты отнеслась по– человечески кЛене?
– А как можно относиться по-человечески к гниде? Тут ведь есть люди и есть гниды. Ты сразу повела себя как человек.
Я поправила волосы жестом, подсмотренным у Изы.
– Меня не интересует, кто тут есть кто, – резко возразила я. – Для меня все люди – люди. Для меня даже животные, четвероногие, и то люди, если уж на то пошло. И отношусь я к ним по-человечески.
– Животные могут быть людьми, – согласилась Агата. – У меня был когда-то кот, вернее, кошка. Но здесь есть люди и гниды, а за забором – люди и жиды.
Я изо всех сил старалась сохранить спокойствие, опасаясь нового кровоизлияния.
Моя жизнь вошла в обычную тюремную колею: я ходила в библиотеку, спала, мылась, ела, говоря высокопарно, черный тюремный хлеб, просматривала какие-то книги. К сожалению, это можно назвать только так. Мало того что на долгие годы я была оторвана от своего любимого дела – писательства, – так еще и потеряла вкус к чтению. Потеряла способность читать чьи-то мысли, красиво облеченные в слова.
Меня это не касается, думала я. По правде говоря, собрание книг в этой библиотеке было сильно потрепанным и из– за отсутствия денег давно не пополнялось новыми поступлениями, но ведь я могла попросить дядю, чтоб он присылал мне книги. Старичок, несмотря на все мои протесты и длинные объяснения в письмах, что я все могу купить в здешнем магазинчике, посылал мне продуктовые посылки, в том числе репчатый лук, чтобы я не заболела цингой. Он перепутал мою тюрьму с оккупационной, в те времена лук действительно помогал продлить существование. Ничего удивительного. Впрочем, дядя был уже очень пожилой человек. Как и его генерал, которой приближался к своему столетнему юбилею. Удивительны все-таки польские судьбы – легендарный предводитель польской армии на Западе после войны работал у своего бывшего подчиненного официантом. На острове. Так они между собой называли Англию. Не Великобритания, а просто остров. Но не остров надежды. Это был их остров Св. Елены…
Ключ к Агате
Я все время ломала голову, как его подобрать. «Ключ к Агате» – это могло бы стать броским заголовком для сенсационного романа, хотя мне сдается – кто-то уже его использовал. Краем уха, мне кажется, я слышала такое название, только имя там было другое. Возможно, «Ключ к Ребекке», но за точность не ручаюсь. Агата… это целое явление, мимо которого я не в силах пройти. Просто не имею права. Я будто оказалась в положении хирурга, который точно знает, что есть хорошие шансы для удачной операции. Я не могла позволить, чтобы в ней навсегда исчезли последние проявления человеческого. Мне приходилось видеть тут женщин, которые окончательно лишились всего человеческого. Тюрьма раздавила их, сделала из них роботов, реагирующих на соответствующие сигналы. Парадоксально, но факт, что именно они входили в высшую тюремную иерархию и жестоко наказывали тех, кто находился на самых низших уровнях. Они били их, отбирали у них деньги, приказывали выполнять за себя все работы, а также нещадно эксплуатировали слабейших в сексуальном плане. В глазах Изы Агата как раз и была одной из таких, именно поэтому Иза предостерегала меня. Но моя воспитательница была не совсем права.
Агата еще была способна хоть на какие-то чувства, и моей обязанностью было спасти в ней остатки человеческого. Ведь я только благодаря встрече с Изой смогла защитить себя от тюремной паранойи, которая лишала воли. Если бы не Иза, возможно, я скатилась бы на самое дно этого странного сообщества. Стала бы этакой фраершей или гнидой – оба термина годились для определения подобного положения, вернее, отсутствия какого-либо положения. Если от страха я впустила бы Агату во второй раз на свои нары, быть может, теперь мне бы приходилось выносить за ней дерьмо и есть, подобно животному, в уголке. Это было вполне правдоподобно, ибо психическое состояние, в котором я тогда находилась, располагало к чему-то подобному. Два года изоляции в следственном изоляторе разоружили меня внутренне, отучили от самостоятельного мышления. Все решалось за меня, что мне было позволено, а чего нет. И я на это соглашалась все охотней. Ключ, поворачивающийся в скважине замка моей камеры, служил своего рода гарантией безопасности. Никто без разрешения не мог войти в мою камеру, никто не мог ничего потребовать и ничего не ждал от меня. И вдруг меня перенесло в мир, в котором от меня так много зависело, значительно больше, чем на воле. Выживание в этом мире требовало необычайной закалки, хитрости и физической выносливости. А я ни одним из этих качеств не обладала. Я была стопроцентной фраершей. И все-таки Агата оценила меня сразу как человека. Потому что в камеру я вошла со щитом. И этим щитом была Иза. С самого первого взгляда в ее необыкновенные золотистые глаза во мне что-то дрогнуло. Она так не вписывалась в эту действительность, что хотя бы с этой точки зрения должна была заинтересовать меня как профессионального литератора. Впрочем, в этом было что-то еще – Иза принадлежала к тем, настоящим женщинам, которые всегда для меня были загадкой и по отношению к которым я всегда чувствовала своего рода комплекс неполноценности. Правда, Эдвард твердил, что у меня есть нечто большее по сравнению с ними. Естественность. Это так, у меня до такой степени естественное лицо, что его уже ничем не поправить: ни тушь, ни помада для него не годились. Поэтому я никогда не пыталась подкрашиваться. Иза написала в своем дневнике, что у меня обнаженное лицо. Но из этого описания следовало также, что оно некрасивое. Эти набрякшие веки, горестные складки вокруг губ… Как-то Эдвард шутя сказал:
– Представь себе этакую размалеванную красотку. Все у нее на своем месте, макияж, прическа. Она потрясающая, думаешь ты про себя, но внезапный порыв ветра, и волосы нашей дамочки оказываются в беспорядке. Вместо замысловатого пучка – печально свисающий конский хвост. И в ней уже нет ничего от красавицы, она попросту смешна. А вот тебе, Дарья, такое не грозит.
Иза тоже не выглядела бы жалкой, если бы ветер растрепал ее волосы (как бы мне хотелось увидеть это!), потому что природа щедро наградила Изу. Ей не надо было добиваться тенями и тушью глубины взгляда. В ее глазах уже была глубина. Я не рискнула бы назвать ее красавицей в общепринятом смысле слова. Черты лица у нее были довольно неправильные, и возможно, на каком-нибудь из расплодившихся нынче конкурсов красоты ее неброская внешность не нашла бы признания. Но в Изе было что-то интригующее, а таких женщин редко встретишь. Иза была для меня «материалом», вне зависимости от того, удастся ли мне когда-нибудь еще написать книгу. От меня это не зависело. Притягательность Изы для меня скорее была вызовом жизни, нежели будила литературный интерес. Только потому, что в критический момент своей жизни я встретила на своем пути другого человека, сама я не перестала быть человеком. Я как бы взяла в долг, который теперь мне предстояло отдавать, спасая Агату. Ее спасение стало для меня своего рода идеей фикс. Мне во что бы то ни стало хотелось убедить Агату, что все люди братья, независимо от их происхождения и положения в обществе. Ну и задачку я себе задала! А не преувеличиваю ли я своих возможностей, когда замахиваюсь на компетенцию Бога?
Моим планам неожиданно помешало появление в нашей камере молодой цыганки, правда на «время», потому что она уже стала седьмой. Если б не знать, что воскресенье было днем отдыха у нашего Творца, то можно было бы предположить, что Он создал ее именно в этот день. Она была похожа на фарфоровую статуэтку и по-настоящему красива – у нее были длинные вьющиеся волосы цвета чернослива и огромные синие глаза на очень белом лице. И хотя она впервые оказалась в таком месте, интуитивно девушка чувствовала, как ей надо себя вести, чтобы при первой же встрече не оказаться в таком положении, как Лена. Ее методом защиты стала услужливость. Всегда готовая услужить, она прекрасно сознавала, где ее место. За стол с нами она не садилась, ела на своих нарах, примостив миску с едой на высоко – почти до подбородка – подтянутых коленях. Агата поглядывала на нее вполне доброжелательно. К своему изумлению, я стала замечать, что между этой парочкой идет своего рода эротическая игра. Цыганочка посылала Агате недвусмысленные сигналы. Мимо Агаты она проходила так, чтобы невзначай задеть ее своим торчащим бюстом, бросая при этом игривые взгляды. Со стороны это выглядело так, будто колибри заигрывала с гиппопотамом. Мне оставалось только ждать, когда же этот гиппопотам откроет свою пасть и проглотит неразумную пташку. Но Агата не скоро приняла вызов. Может, ее сдерживали остатки приличий. Цыганка, правда, была уже совершеннолетней, но ее развитие задержалось где-то на уровне пятилетнего ребенка. Все эти знаки внимания, которые она оказывала Агате, были продиктованы тем, что цыганочка прекрасно ориентировалась, кто есть кто и кто тут в действительности всем заправляет. Нам она гадала по руке. Мне сказала нечто странное – «что вскоре весь мир будет в моих объятиях». Может, это означало, что я выйду скоро на волю?
В одну из ночей, как всегда проходивших под аккомпанемент похрапывания и глубоких вздохов, Цыганка проскользнула на нары Агаты. Найдя в вырезе рубашки один из сосков ее мощной груди, она принялась сосать. Некоторое время Агата лежала без движения, а потом одним махом взгромоздила девушку на себя и, раздев донага, принялась умело ласкать ее тело. Та охотно отдавалась ласкам. Наше тюремное пугало посадила ее себе на лицо и, поддерживая за ягодицы, исследовала языком бедра девушки. Цыганка, откинувшись назад, стонала от наслаждения. Вскоре они сменили позицию, и молодуха устремилась к бедрам Агаты, почти утонув между ними. Голова Агаты перекатывалась из стороны в сторону на подушке. В этой сцене, однако, не было и грамма грубости. Может, колосс действительно опасался, что нехотя может задушить колибри, и держал в узде свои настоящие страсти. Еще раз взгромоздив девчонку на себя и приподняв голову, Агата по очереди брала в рот соски маленьких девичьих грудей, а потом, видимо посчитав, что пора заканчивать с предварительными ласками, прохрипела каким-то горловым звуком:
– Кончи!
Не знаю, договаривались ли они об этом или молодуху вела интуиция, но она начала ласкать ее рукой, делая ритмичные движения, ее рука все глубже и глубже погружалась в лоно партнерши, пока не оказалась там почти до локтя. Все завершилось бурной кульминацией: Агата выгнулась и прижала к лицу подушку, видимо для того, чтобы заглушить протяжный стон, рвавшийся из груди.
Теперь это повторялось каждую ночь, и обеим любовницам, кажется, шло на пользу. Цыганка крутилась по камере, что-то напевая, а Агата стала более приветливой. Это был явно неподходящий момент для общения, к тому же я пока не нашла соответствующего подхода к ней.
Сегодня, пока до полудня я оставалась в библиотеке одна, мне припомнилась сцена из моей прошлой жизни. Я первой вернулась домой – тогда еще мы не состояли в браке – и устроилась на диване с книжкой. Сейчас, сейчас, какая же это была книжка?.. Кажется, Кундера… Незаметно для себя я уснула. Меня разбудила хлопнувшая входная дверь, но я продолжала лежать с закрытыми глазами. Эдвард прикрыл меня пледом, а потом, сев в кресле напротив, смотрел на меня. Я следила за ним из-под полуприкрытых век. Этот мужчина меня любит, думала я, и я его люблю. Так почему же я не умею быть счастливой рядом с ним… Потому что не хочу, чтобы он слишком близко приближался ко мне, я умею любить его только на расстоянии вытянутой руки…
С появлением маленькой воровки (воровкой-то она была очень даже большой, потому что состояла в банде, которая воровала произведения искусства из костелов: иконы, костельную утварь, – я так окрестила девчонку из-за ее исключительной худосочности) роман Агаты оборвался. Агата ходила мрачная, опустив взгляд в пол. Заговорить с ней не представлялось возможным.
В один из дней она заявилась в красный уголок с целой компанией товарок, уселась за столик с чашкой кофе и уставилась в телевизор. Спустя какое-то время подошла к моей конторке.
– Мне что-нибудь почитать, – сказала она. – Что-нибудь о любви.
И вот тут мне пришла в голову одна идея. Я взяла с полки карманное издание рассказов Бунина «Натали» и дала ей.
Агата недоверчиво рассматривала обложку книги.
– Иван… – прочитала она. – Это какой-то русский написал, что ли? Я предпочла бы кого-нибудь из наших, Флешерову, например…
– Но это как раз рассказы о любви.
– Да что там этот Иван может выдумать, – презрительно отозвалась она.
– Он получил Нобелевскую премию! Самую престижную на свете литературную награду, – уточнила я.
Эта информация не произвела на нее никакого впечатления.
– А может, есть что-нибудь Хмелевской?
– Все на руках. Почитай эти рассказы, там всего-то пятьдесят страниц – и все о любви… – Видя, что Агата все еще колеблется, я с жаром принялась ее уговаривать. – Никто еще в этой библиотеке не брал эту книгу, ты положишь доброе начало… всего лишь пятьдесят страниц…