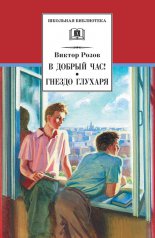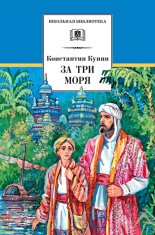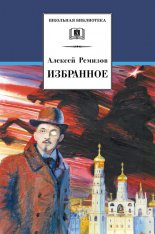Возвращение в Оксфорд Сэйерс Дороти

— Ох черт! — воскликнул он. — Вы видели, который час? Вы позволили мне заболтаться, и мы ни слова не сказали о деле.
— Я была только рада забыть о нем хоть ненадолго.
— Пожалуй, — сказал он, задумчиво всматриваясь в ее лицо. — Послушайте, Гарриет, давайте сегодня устроим день отдыха. Вы по горло сыты этим мерзким делом. Давайте лучше я вас пораздражаю для разнообразия. Это пойдет вам на пользу — всегда приятно обменять зубную боль на ревматизм. Тоже гадость, но другая. Мне нужно спешить на ланч, но он не займет много времени. Давайте-ка возьмем лодку и поедем кататься? В три на Модлин-бридж?
— На реке будет уйма народу. Черуэлл не тот, что раньше, особенно в воскресенье. Больше похоже на выходной в Маргите — граммофоны, купальники, все друг на друга наталкиваются.
— Ничего, поехали, потолкаемся и мы с остальными. Если только вы не хотите сесть в машину и умчаться со мной на край света. Но дороги еще хуже реки. А если мы найдем тихое место, то либо я начну вам докучать, либо мы займемся вашей дьявольской загадкой. Есть свои преимущества в том, чтоб оставаться на людях.
— Хорошо, Питер. Как хотите.
— Значит, Модлин-бридж в три. Поверьте, я не уклоняюсь от вашей проблемы. Если мы не решим ее сами, то найдем кого-то, кто решит. Нет ни морей непроплываемых, ни земель незаселяемых.[207]
Он встал и протянул руку.
— Питер, вы надежны как скала. Как тень от высокой скалы в земле жаждущей.[208] И о чем вы думаете, дорогой мой? В Оксфорде не приняты рукопожатия!
— Слоны ничего не забывают, — отозвался он, легко прикоснувшись губами к ее пальцам. — Я привез с собой немного космополитической учтивости. Кстати, об учтивости — я опаздываю на ланч!
Он схватил мантию и шапочку и был таков прежде, чем она успела подумать, не проводить ли его до привратницкой.
— Даже к лучшему, — сказала она себе, глядя, как он несется по двору, словно студент. — Он и так опаздывает. Надеюсь, он не взял мою мантию вместо своей. Впрочем, это не важно. Мы примерно одного роста, и моя мантия довольно широка в плечах, так что разницы никакой.
И она подумала, как это странно: между их мантиями и правда нет никакой разницы.
Гарриет улыбалась, переодеваясь для речной прогулки. Если уж Питер так привязан к уходящим традициям, то на реке вполне можно придерживаться довоенной манеры в поведении, гребле и одежде. Особенно в одежде. Современная версия мужской моды на Черуэлле — мешковатые шорты или линялый купальный костюм, небрежно завернувшийся на талии. Женская мода требовала лишь купальника и (для тех, у кого слишком нежные ступни) цветных пляжных сандалий. Гарриет покачала головой — солнце казалось не только ярким, но и жарким. Но она не готова потрясти Питера видом загорелой спины и ног, искусанных комарами. Нет уж, она оденется респектабельно и удобно. Декан, встретившись с Гарриет под буками, с преувеличенным изумлением оглядела ее белоснежный полотняный костюм.
— Если бы дело происходило лет двадцать назад, я бы сказала, что вы идете на реку.
— Я и иду — рука об руку с горделивым прошлым.
Мисс Мартин тихонько застонала:
— Боюсь, вы будете бросаться в глаза. Сейчас так никто не делает. Вы одеты, чисты и прохладны. И это в воскресный день! Мне за вас стыдно! Надеюсь, хотя бы этот пакет у вас под мышкой — записи эстрадной музыки для граммофона.
— Увы, — сказала Гарриет.
В пакете был дневник, куда она записывала все подробности шрусберского дела. Она решила, что лучше всего отдать его Питеру: пусть возьмет с собой и изучит на досуге. Тогда он сможет решить, что делать дальше.
Она пришла к мосту вовремя, но Питер был уже там. Эта его старомодная вежливость дополнительно подчеркивалась тем, что рядом на плоту сидели разгоряченные и раздраженные студентки Шрусбери — мисс Флаксман и еще одна девушка — явно в ожидании своих кавалеров. Гарриет позволила Уимзи взять у нее пакет, церемонно подать ей руку, помогая войти в лодку, устроить ее на подушках, — по его ироничному взгляду она видела, что он отлично понимает причину ее необычайной покорности.
— Как вы предпочитаете: вверх или вниз по течению?
— Вверх — более людно, но дно лучше, вниз до развилки ничего, но потом придется выбирать между густым илом и городской свалкой.
— Кажется, это трудный выбор между двух зол. Но вы только прикажите! Как жадная акула слух мой ловит божественного голоса приказ.
— Господи! А это вы откуда взяли?
— Вы не поверите, но эта душераздирающая концовка сонета принадлежит Китсу. Да, это ранние стихи, но есть вещи, которые не может извинить даже молодость.
— Поплыли вниз. Мне нужен покой, чтобы оправиться от шока.
Он повернул лодку и, взявшись за шест, аккуратно прошел под мостом.
— Несравненная женщина! Позволили мне расправить павлиний хвост перед этой парочкой покинутых Ариадн. Хотите проявить независимость и взяться за шест? Признаюсь, грести гораздо интереснее, чем сидеть сиднем, а именно желание делать все самое интересное и составляет девять десятых галантности.
— Неужели у вас и в самом деле столь щедрая и справедливая душа? Но я не дам превзойти себя в великодушии — буду сидеть словно заправская леди и смотреть, как вы трудитесь. Приятно видеть, как что-то делается на совесть.
— Ну вот, сейчас я зазнаюсь и начну делать глупости.
И вправду приятно было наблюдать, как он управляется с шестом — легко и удивительно ловко. Они с поразительной скоростью пробирались через сутолоку медленно плывущих лодок, пока на узком участке над переправой им не преградила путь другая плоскодонка, которая неловко завертелась прямо посередине, оттолкнув несколько каноэ и чуть не выкинув их на берег.
— Прежде чем спускаться на воду, — сказал Уимзи, отталкивая лодку ногой и презрительно оглядев юнца с шестом (долговязого и голого до пояса, чей розовый обгоревший торс напоминал креветку), — следует выучить правила реки. У этих каноэ здесь преимущественное право прохода. А если вы не умеете управляться с шестом, то я бы рекомендовал вам потренироваться где-нибудь в запруде, пока не поймете, зачем Господь дал вам ноги.
В этот момент мужчина средних лет, чья плоскодонка причалила чуть дальше по течению, повернул голову и вскричал:
— Кого я вижу! Уимзи из Бэйлиола!
— Так-так-так, — проговорил его светлость, забыв про розового юнца и подплывая к плоскодонке. — Ей-богу, это же Пик из Брэйзноуза. Какими судь бами?
— Черт побери, я здесь живу! Это я должен спросить тебя, какими судьбами. Моя жена, вы не знакомы — лорд Питер Уимзи, дорогая, чемпион по крикету. А это все мои дети. — Он неопределенно махнул рукой в сторону разновозрастных отпрысков.
— Решил навестить альма-матер, — сказал Питер, когда всех всем представили. — У меня здесь племянник и так далее. А ты что делаешь? Тьютор? Лектор? Исследователь?
— Натаскиваю студентов. Собачья жизнь, собачья жизнь! О боже! Немало воды утекло под этим мостом с тех пор, как мы виделись в последний раз. Но я узнал бы твой голос где угодно. В ту секунду, как я услышал этот надменный спесивый тон, в котором ясно слышится «горите все синим пламенем», — я сразу сказал себе: «Уимзи из Бэйлиола!» Так и оказалось!
Уимзи положил шест и сел.
— Сжалься, старик, сжалься. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов.[209]
— Знаете, — сказал мистер Пик, обращаясь ко всем сразу, — когда мы здесь вместе учились — как же давно это было! — если к кому-то приезжал провинциальный кузен или американец и спрашивал, как они всегда спрашивают: «Что такое оксфордские манеры?» — мы вели их в Бэйлиол и показывали Уимзи. Он очень удачно вписывался в экскурсию — как раз между садами Сент-Джонса[210] и Памятником мученикам.[211]
— А если его не было на месте или он ничего такого не делал?
— Такой катастрофы ни разу не случилось. Его всегда можно было найти в самом центре двора, и он непременно учил кого-нибудь жить со своим неповторимым высокомерием.
Уимзи закрыл лицо руками.
— Мы заключали пари, — продолжал мистер Пик, который, по всей видимости, не утратил вкуса к студенческому юмору — вероятно, этому способствовало его постоянное общение с первокурсниками, — что они про него скажут. Американцы говорили обычно: «Ба, это же настоящий английский аристократ!» или иногда: «А это стеклышко в глазу — чтобы лучше видеть, или это часть костюма?»
Гарриет рассмеялась, вспомнив мисс Шустер-Слэтт.
— Дорогой… — попыталась остановить мужа миссис Пик, будучи, видимо, женщиной добросердечной.
— А провинциальные кузены, — безжалостно продолжал мистер Пик, — неизменно теряли дар речи, и их приходилось отпаивать кофе и кормить мороженым у Буола.[212]
— Не обращайте на меня внимания, — сказал Питер, который все еще прятал голову в руках так, что виден был лишь кончик побагровевшего уха.
— Но ты неплохо сохранился, Уимзи, — одобрительно заметил мистер Пик. — Талия осталась на месте, небось годишься еще для пробежки между воротцами. От меня-то толку теперь немного, разве что сыграть иногда в родительском матче, а, Джим? Вот что женитьба делает с людьми: неизбежно растолстеешь и разленишься. Но ты-то не изменился! Ни на атом! Ни на волосок! Ни с кем тебя не перепутаешь. И ты прав насчет этих олухов на реке. До смерти надоели. То бортом притрутся, то на нос тебе налезут своей непотребной лодчонкой. И даже не извинятся толком. Им кажется, что все это уморительно смешно. Неотесанные невежи. И еще граммофон орет тебе в уши. Посмотрите на них! Нет, вы только посмотрите на них! Просто тошнит. Как обезьяны в зоопарке.
— Обнажены, точены и античны?[213] — усмехнулась Гарриет.
— Я не про это, я про их обращение с шестом. Посмотрите вон на ту девицу, как она его держит! Поворачивает, толкает — будто пытается прочистить засорившуюся трубу! Ведь перевернется.
— Она оделась с этим расчетом, — заметил Уимзи.
— Вот ты смеешься, — доверительно проговорил мистер Пик, — а они все именно потому так и одеваются. Знают, что свалятся в воду. Можно, конечно, явиться в отутюженных белых брюках, но если в них нырнуть, будешь смотреться дурак дураком.
— Чистая правда. Но мы перегородили реку. Пора в путь. Я как-нибудь зайду тебя проведать, если миссис Пик позволит. Пока!
И плоскодонки расстались.
— Н-да, — сказал Питер, когда они отплыли на достаточное расстояние, — приятно встретить старых друзей. Очень бодрит.
— Да, но разве вас не угнетает, что они повторяют те же шутки, что и сто лет назад?
— Дьявольски угнетает. В этом смысле плохо жить всю жизнь в этом городе — остаешься молодым. Слишком молодым.
— Есть в этом что-то жалкое, правда?
Река здесь была шире, и вместо ответа он согнул колени, отталкиваясь шестом, от чего лодка присела в реверансе, и вода, словно засмеявшись, с журчанием заструилась под ее задравшимся носом.
— Вы бы согласились вернуться в свою юность, Гарриет?
— Ни за что на свете.
— И я. Что бы вы мне ни сулили. Хотя это, пожалуй, преувеличение. Вы могли бы мне посулить одну вещь, ради которой я согласился бы получить обратно лет двадцать. Но не те же самые, а другие. И если бы я вернулся в молодость, я хотел бы другого, чем тогда.
— Что дает вам эту уверенность? — спросила Гарриет, внезапно вспомнив мистера Помфрета и помощника проктора.
— Яркие воспоминания о собственных безумствах… Гарриет! Неужели вы скажете, что не все двадцатилетние мужчины дураки? — Он стоял, опустив шест в воду и глядя на нее сверху вниз. Приподнятая бровь придавала его лицу карикатурное выражение.
— Так-так-так… Надеюсь, это хотя бы не Сент-Джордж. Это осложнило бы семейные отношения.
— Нет, не Сент-Джордж.
— Я так и думал, его безумства не такие наивные. Но кто-то есть. Впрочем, я не стану беспокоиться, раз вы дали ему от ворот поворот.
— Мне нравится стремительность ваших умозаключений.
— Вы безнадежно честны. Если бы вы сделали какой-то решительный шаг, то не замедлили бы сообщить мне об этом в письме. Вы бы написали: дорогой Питер, я хочу предложить вашему вниманию одно дело, но прежде я должна сообщить вам, что помолвлена с мистером Джонсом из Джизуса. Разве не так?
— Вероятно. Но вы бы все равно взялись за расследование?
— Почему бы и нет? Дело есть дело. А что представляет собой дно Старой реки?
— Ничего хорошего. С каждым гребком вперед вас оттягивает на два гребка назад.
— Тогда будем держаться Новой протоки. Что ж, я искренне сочувствую мистеру Джонсу из Джизуса. Надеюсь, переживания не помешают ему получить степень должного класса.
— Он только на втором курсе.
— Тогда у него есть время прийти в себя. Я хотел бы с ним познакомиться. Возможно, на всем свете у меня нет друга лучше его.
Гарриет ничего не ответила. Быстрый ум Питера всегда описывал круги вокруг ее более медлительных мыслей. И в самом деле, внезапная влюбленность Реджи Помфрета непостижимым образом помогла ей поверить, что чувства Питера могут быть чем-то большим, чем нежность художника к своему творению. Но просто неприлично с его стороны так быстро прийти к этому выводу. Ей не нравилось, что он входит к ней в голову как к себе домой, когда ему заблагорассудится.
— О боже! — произнес он вдруг.
Питер с ужасом всматривался в темно-зеленую воду. На поверхности медленно вскипали маслянистые пузырьки, там, где шест зарылся в густое илистое дно. Одновременно в ноздри им ударил страшный смрад разложения.
— Что случилось?
— Я попал во что-то ужасное. Разве вы не чувствуете запах? Просто невыносимо, меня везде преследуют трупы. Ей-богу, Гарриет…
— Мой дорогой идиот, это всего лишь городская свалка.
Его взгляд проследовал за движением ее руки, и он уставился на дальний берег, где стаи мух жужжали над отвратительной разлагающейся кучей.
— Ничего себе! И о чем же они думали, устраивая такое? — Он провел по лбу влажной ладонью. — На мгновение я подумал, что мы наткнулись на мистера Джонса из Джизуса. И начал раскаиваться, что говорил о бедняге в столь легкомысленном тоне. Ну-ка, давайте отсюда выбираться! — И он стремительно повел плоскодонку вперед. — Вот тебе и Айсис. На реке не осталось романтики.
Глава XV
Вдумайтесь же, сколь прекрасен сон: это алмаз столь бесценный, что, захоти тиран отдать корону за час дремоты, он не сможет совершить сделку; вида столь прекрасного, что даже у того, кто возлежит с Императрицей, сердце не будет биться долго, покуда он не ускользнет из ее объятий, чтобы упокоиться в объятьях Морфея; о да, в таком долгу мы перед этим родичем смерти, что отдаем ему богатую дань, половину жизни; и не зря: ибо сон — та золотая цепь, что скрепляет здоровьем наши тела. Кто сетует на нужду, на раны, на труды и заботы, на притеснения сильных мира сего, на рабство, когда спит? Нищие на ложе своем наслаждаются так же, как цари; можем ли мы пресытиться этой нежной Амброзией? Можем ли навредить себе избытком той пищи, коей недостаток швыряет нас в церковную ограду, а равнодушие к ней — прямиком в Бедлам? О нет, взгляните на Эндимиона, любовника ласкающей Луны, что проспал три четверти столетия и ничуть от того не ухудшился.
Томас Деккер[214]
— Корзинка с сэндвичами за вами, на носу, — сказал Уимзи.
Проплыв немного дальше, они причалили в ажурной тени склоненных ив у левого берега Айсиса. Здесь было меньше народа, и лодки проходили на большем расстоянии друг от друга, что позволяло надеяться на относительный покой. Поэтому Гарриет, наливая чай из термоса, с особенным раздражением заметила приближающуюся к ним перегруженную плоскодонку.
— О боже, — вздохнула она, — мисс Шустер-Слэтт с компанией. Она говорила, что знает вас.
Шесты были прочно воткнуты в дно по обе стороны лодки, побег был невозможен. Американский десант неумолимо приближался. И вот они поравнялись с бортом. Мисс Шустер-Слэтт издала радостный вопль. Настала очередь Гарриет краснеть за своих знакомых. С невыносимым жеманством мисс Шустер-Слэтт извинилась за вторжение, представила всех друг другу, заявила, что вечно всем мешает, напомнила лорду Питеру об их прошлой встрече, заметила, что в таком приятном обществе он конечно же не захочет на нее отвлекаться, с пугающим энтузиазмом произнесла речь о размножении приспособленных, еще раз шумно подивилась собственной бестактности, уведомила лорда Питера, что Гарриет просто прелесть, такая отзывчивая, и одарила каждого из них последним экземпляром своего опросника. Уимзи слушал и отвечал с невозмутимой учтивостью, а Гарриет, горячо желавшая, чтобы Айсис вышел из берегов и затопил их всех, могла только завидовать его самообладанию. Когда наконец мисс Шустер-Слэтт с компанией отбыли, коварные воды донесли издалека ее пронзительный голос:
— Я же говорила вам, девочки, — настоящий английский аристократ!
После чего многострадальный Уимзи улегся между чайными чашками и разразился истерическим хохотом.
— Питер, — сказала Гарриет, когда он перестал издавать кудахчущие звуки, — откуда у вас такое несокрушимое благодушие? Меня эта милая женщина сводит с ума. Выпейте еще чаю.
— Думаю, — мрачно отозвался его светлость, — довольно уже изображать из себя настоящего аристократа — пора входить в роль великого сыщика. Жизнь упорно превращает нашу романтическую прогулку в грубый фарс. Если это досье, то давайте его сюда. Посмотрим, — добавил он со смешком, — как вы справляетесь с ролью детектива, когда предоставлены сами себе.
Гарриет отдала ему блокнот и конверт с различными анонимными посланиями, снабженными, где это было возможно, датой и указанием способа доставки. Уимзи начал с писем, рассматривая их по одному, без малейших проявлений ужаса, отвращения или каких-либо других эмоций, кроме раздумчивого интереса. Затем он сложил их обратно в конверт, набил трубку, устроился поудобнее на подушках и принялся изучать рукопись. Он читал медленно, то и дело возвращаясь назад, чтобы уточнить дату или иную подробность. В конце первой страницы он поднял глаза и заметил:
— Как полезно писать детективы: вы знаете, как рассказать историю и как представить улики.
— Спасибо, — сухо сказала Гарриет. — Сэр Хьюберт уж похвалит так похвалит.[215]
Он продолжил чтение. Следующее наблюдение не заставило себя ждать:
— Я смотрю, вы исключили из подозреваемых слуг, живущих в скаутском крыле, на основании одной запертой двери.
— Я не так простодушна. Когда вы дойдете до инцидента в часовне, вы поймете, что все они оказываются вне подозрений по другой причине.
— Виноват, совершил непростительную ошибку: стал теоретизировать, не имея фактов.[216]
Признав справедливость упрека, он погрузился в молчание, а она изучала его лицо, повернутое вполоборота. В целом, как фасад, оно было ей уже довольно хорошо знакомо, но теперь она видела детали, словно увеличенные воображаемой лупой. Плотно прижатое ухо с аккуратным завитком раковины, часть затылка, блеск коротких волос в том месте, где шейные мускулы прикрепляются к голове. Крошечный серповидный шрам у левого виска. Легкие морщинки смеха в уголке глаза, нависшее верхнее веко. Золотой блик вдоль скулы. Широкий разрез ноздри. Почти неразличимые бисеринки пота над верхней губой, еле заметное дрожание мускула в уголке рта, чуть тронутая солнцем бледная кожа и внезапная белизна ниже линии воротника. Небольшая впадина у ключицы.
Он поднял глаза, и она мгновенно залилась краской, будто ее ошпарили кипятком. В глазах потемнело, в ушах стоял шум, казалось, что-то огромное нависло над ней. Потом туман рассеялся. Его взгляд был снова прикован к рукописи, однако дышал он тяжело, словно после бега.
Ну вот оно и случилось, подумала Гарриет. Но ведь случилось это давно. Вся разница в том, что теперь придется признаться самой себе. Я ведь уже некоторое время это знаю. Но знает ли он? Теперь ему трудно будет не знать. Хотя он, кажется, отказывается признать увиденное, и это тоже что-то новенькое. Что ж, тем легче будет сделать то, что я собиралась сделать.
Она решительно устремила взгляд на водную рябь, однако от нее не ускользало ни одно его движение, ни одна перевернутая страница, ни один вдох или выдох. Казалось, она чувствует каждую косточку в его теле по отдельности. И когда он заговорил, она поразилась, как могла спутать чей-то голос с этим голосом.
— Да, Гарриет, задачка не из приятных.
— Да. И так не может больше продолжаться, Питер. Нельзя допустить, чтобы людей доводили до прыжка в реку. Черт с ней, с оглаской, — это должно прекратиться. Иначе, даже если никто не пострадает физически, мы все сойдем с ума.
— Вот именно.
— Скажите мне, что делать, Питер.
Она перестала остро ощущать каждую клетку его тела — оставался лишь его привычный быстрый ум, который непостижимым образом оживлял это забавное сочетание черт.
— Ну, есть две возможности. Можно рассовать повсюду шпионов и ждать следующего эпизода, чтобы схватить виновницу.
— Вы не представляете, как трудно патрулировать колледж. И не хочется ждать следующего эпизода. Представьте, что мы ее не поймаем и случится что-то ужасное.
— Согласен. Вторая, более предпочтительная, возможность — запугать нашу психопатку, и пусть сидит тихо, пока мы раскапываем ее мотивы. Я уверен, это не просто слепая злоба, в этом безумии есть метод.
— Кажется, мотив до боли очевиден.
— Вы напоминаете мне одного очаровательного старого тьютора, ныне уже покойного, который изучал взаимоотношения папства с англиканской церковью в какой-то конкретный период, уже не помню точно, в какой. В одно время курс, очень близкий к его теме, ввели для экзамена по истории. Естественно, студентов, выбравших этот предмет, стали отправлять к старичку заниматься, и все шло отлично. Но оказалось, что ни один студент из его собственного колледжа не выбрал этот курс — тьютор отличался столь необычайной щепетильностью, что изо всех сил отговаривал их от этого, чтобы, не дай бог, невольно не повлиять на них своим энтузиазмом.
— Какой милый старый джентльмен! Я польщена сравнением, но не вижу, на чем оно основано.
— Нет? Разве не похоже, что, выбрав временный целибат, вы тут же начали населять келью призраками? Если вы хотите обходиться без личной жизни, обходитесь. И не воображайте, что тут же станете кандидатом в пациентки доктора Фрейда.
— Мы не говорим обо мне и моих чувствах. Мы говорим о неприятностях в колледже.
— Но вы не можете отделить свои чувства от дела. Нет никакого смысла туманно намекать, что в основе этих происшествий лежит секс, — это все равно что говорить, что в основе любых поступков лежит человеческая природа. Секс — не отдельная вещь, бытующая сама по себе. Обычно он прикреплен к какому-то человеческому существу.
— Это довольно очевидно.
— Так давайте рассмотрим эту очевидность. Самое большое преступление этих чертовых психологов в том, что они мешают видеть очевидное. Они похожи на человека, который пакует чемодан, чтобы съездить куда-то на выходные, и вываливает все вещи из всех ящиков и комодов, после чего не может отыскать в этой куче пижаму и зубную щетку. Давайте начнем с нескольких очевидных пунктов. Вы познакомились с мисс де Вайн в Шрусбери на встрече выпускников, и первое письмо попало вам в рукав именно тогда. Почти все подвергшиеся атаке люди — доны или стипендиаты. Через несколько дней после вашего чаепития с Помфретом Джукс попал в тюрьму. Все письма, отправленные почтой, пришли либо в понедельник, либо в четверг. Все послания были написаны по-английски, кроме цитаты про гарпий. Никто в колледже не видел платья, найденного на чучеле. Все это вместе не наводит вас ни на какие мысли, кроме подавленной сексуальности?
— Каждый элемент в отдельности наводит на множество мыслей, но я не вижу, как они связаны.
— Обычно синтез дается вам лучше. Хорошо бы вы выбросили из головы свои личные тревоги. Дорогая моя, чего вы боитесь? Две главные опасности безбрачия — вынужденность выбора и праздность ума. Волны энергии, бьющиеся в пустом пространстве, рождают химеры. Но вам-то ничего не грозит. Если уж вы решили отыскать покой, то скорее отыщете его в жизни ума, чем сердца.
— И это говорите вы?
— Речь ведь о ваших нуждах, а не о чьих-то еще. Я говорю это как честный ученый, беспристрастно рассмотревший вопрос со всех сторон.
Гарриет посетило знакомое чувство, что ее переиграли. Она поспешила вернуться к главной теме обсуждения:
— Как вы думаете, мы сможем раскрыть дело обычным расследованием, не обращаясь к психиатру?
— Я думаю, мы сможем раскрыть его прямым непредвзятым обсуждением.
— Питер, я понимаю: со стороны мое поведение кажется глупым. Но причина, по которой я хочу держаться подальше от людей и чувств и поближе к интеллектуальной стороне жизни, заключается в том, что это единственная сторона жизни, которую я не предала и не разрушила.
— Я знаю, — сказал он, смягчаясь. — И огорчительно думать, что и эта сторона жизни может предать вас. Но почему вы должны так думать? Даже если избыток учености может свести с ума кого-то одного, это не значит, что так будет со всеми. Все эти женщины кажутся вам ненормальными, потому что вы не знаете, которую из них подозревать, но ведь даже вы не можете отрицать, что виновна только одна.
— Да. Но мне начинает казаться, что чуть ли не любая из них на это способна.
— Вот здесь-то ваши страхи и мешают вам ясно мыслить. Если каждому разочарованному индивидууму прямая дорога в сумасшедший дом, то я знаю по крайней мере одного, нуждающегося в срочной изоляции от общества.
— Черт вас побери, Питер! Нельзя ли ближе к делу?
— В смысле, какие шаги нам следует предпринять? Дадите мне вечер на раздумье? Если вы доверите мне это дело, я, как мне кажется, вижу пару направлений, которые могут привести к цели.
— Я скорее доверюсь вам, чем кому-то другому.
— Спасибо, Гарриет. Давайте продолжим наш прерванный пикник? О, моя ушедшая юность. Вон плывут утки за остатками наших сэндвичей. Двадцать три года назад я кормил совершенно таких же уток совершенно такими же сэндвичами.
— Десять лет назад я тоже кормила их до отвала.
— И еще через десять и двадцать лет студенты с утками будут все так же разделять ритуальную трапезу, и утки будут хватать их за пальцы, как хватают сейчас меня. Как мимолетны все людские страсти в сравнении с несокрушимым постоянством уток. Ну все, плывите, больше ничего нет.
Он бросил в воду последние крошки, откинулся на подушки и стал смотреть на речную зыбь, полуприкрыв глаза… Мимо проплыла плоскодонка с молчаливыми, одуревшими от солнца людьми, только и слышалось, как шест с хлопком входит в воду и со всхлипом выходит из нее; потом проплыла шумная компания с граммофоном, игравшим «Любовь в цвету»; молодой человек в очках, один в каноэ, греб с таким неистовством, словно от этого зависела его жизнь; еще одна плоскодонка прошла в медленном похоронном темпе — в ней шептались мужчина и девушка; разгоряченная шумная стайка девиц в лодке с веслами; еще одно стремительное каноэ, в котором усердно гребли двое канадских студентов; маленькое каноэ, в котором опасно орудовала шестом хихикающая девушка в купальном костюме, а молодой человек с усмешкой сидел на носу, и по его облачению было видно, что он готов к неизбежному нырку; очень солидная группа прилично одетых студентов обоего пола — они явно проявили уважение к своей старшей спутнице, женщине-дону; еще одна лодка с пассажирами обоего пола и разнообразных возрастов, и в ней граммофон тоже скулит «Любовь в цвету» — это явно не университетские; пронзительные крики предваряют появление развеселой компании, которая учит неофитку орудовать шестом; потом, словно нарочитым контрастом — очень полный мужчина в синем костюме и льняной панаме, невозмутимо гребущий один в четверке, его презрительно обгоняет худой юнец в рубашке на одиночке; потом — три плоскодонки бок о бок, кажется, в них все уснули, кроме тех, кому поручены весло или шест. Одна из них прошла совсем близко от Гарриет: лохматый и довольно упитанный юноша лежал, задрав колени, с полуоткрытым ртом, лицо его раскраснелось от жары, девушка прикорнула у него на плече, мужчина напротив закрыл лицо шляпой, сцепил руки на животе, продев большие пальцы под подтяжки, и тоже не проявлял никакого интереса к окружающему миру. Четвертая пассажирка ела шоколад. С шестом стояла девица в помятом хлопковом платье, открывавшем сильно искусанные ноги. Гарриет это напомнило железнодорожное купе третьего класса в жаркий день: непростительный промах — уснуть на людях, так и хочется швырнуть что-нибудь в упитанного юношу. В этот момент девушка с шоколадом свернула обертку в плотный шарик и швырнула ею в упитанного юношу. Шарик попал ему в живот, и он проснулся с громким всхрапом. Гарриет вынула сигарету из портсигара и повернулась к своему спутнику, чтобы попросить спичку. Он спал. Это был спокойный, бесшумный сон, спящий свернулся почти как еж — во всяком случае, рот и живот были защищены от нападения. И все-таки он несомненно спал. А мисс Гарриет Вэйн, внезапно преисполнившись сострадания, сидела рядом, боялась шелохнуться, чтобы не разбудить его, и от всей души проклинала очередную лодку, полную идиотов, чей граммофон (для разнообразия) играл «Любовь в цвету».
«Как прекрасна Смерть, — сказал поэт, — и брат ее, Сон».[217] Спросив, проснется ли Ианте снова, и получив утвердительный ответ, он продолжает ткать прекрасные узоры мыслей про Десятый сон. Из этого мы можем сделать естественный вывод, что автор (как и Генри, молчаливо склонившийся над спящей девушкой) испытывает к Ианте нежность. Потому что сон другого человека — лакмусовая бумажка нашего отношения к нему. Если только мы не дикари, мы проявляем доброту в случае смерти, не важно, друга или врага. Смерть не раздражает нас, нам не хочется ничем запустить в мертвеца, мы не смеемся над ним. Смерть — последняя слабость, мы не смеем ее оскорблять. Но сон — лишь иллюзия слабости, и если у нас не возникает желания оберегать спящего, то, скорей всего, в нас поднимется недобрый насмешливый дух. С высоты самодовольного бодрствования смотрим мы на спящего, открывшегося во всей своей беззащитности, и не можем удержаться от иронического замечания о его внешности, манерах или — если дело происходит на людях — о том, в какое смешное положение поставил он своего спутника, в особенности если этот спутник — мы сами.
Поскольку Гарриет волей-неволей пришлось играть роль Фебы при спящем Эндимионе,[218] у нее было достаточно времени понаблюдать за собственным состоянием. После серьезных размышлений она решила, что нужней всего ей сейчас коробок спичек. Питер зажигал спичку, когда прикуривал трубку. И где же они? Он заснул при полном параде, черт его побери, но куртка лежала возле него на подушках — а видел ли кто-нибудь мужчину, у которого в карманах только один коробок? Добраться до спичек было непросто — плоскодонку кренило при каждом движении, и ей пришлось перетащить куртку через его колени, но Питер спал глубоким сном бесконечно усталого человека, и она вернулась на место с триумфом, не разбудив его. Со странным чувством вины она обшарила его карманы, обнаружив три коробка спичек, книгу и штопор. С табаком и чтивом можно пережить что угодно, если, конечно, книга не написана на незнакомом языке. Надписи на корешке не было, и, открыв потертый переплет из телячьей кожи, Гарриет сразу же увидела экслибрис с гербом: три серебряные мыши в черном поле, на верхушке гербового щита — угрожающе изготовившаяся к прыжку домашняя кошка. Два вооруженных сарацина держат щит с двух сторон, а внизу — высокомерный, насмешливый девиз: «Прихоть Уимзи — закон». Она перевернула страницу: «Религия врача».[219] Ничего себе! Хотя что такого? Так ли уж это неожиданно? Почему бы в перерывах между сыском и дипломатией и не поразмышлять о «странных и мистических» метаморфозах шелкопряда и о «надувательстве с подменышами»? Или о том, что «мы напрасно обвиняем в жестокости ружья и новые изобретения, несущие смерть»? «Ибо нет счастья в плену этой плоти, и глазам нашим неведома оптика, способная созерцать блаженство. Первый день нашего торжества — смерть». Она надеялась, что он не примеривает к себе эти слова, — ей хотелось видеть его счастливым и безмятежным, чтобы можно было презирать это счастье и эту безмятежность. Она торопливо листала страницы. «Когда ты без него, ты не живешь, пока не будешь с ним. Союз душ не довольствуется объятием, им хочется стать друг другом, а так как это невозможно, то желание вечно и должно существовать без возможности удовлетворения». Как ни посмотреть, неутешительный пассаж. Она вернулась к первой странице и принялась читать подряд, критически оценивая стиль и грамматику, чтобы занять поверхностный поток мыслей, не слишком вникая в происходящее на глубине.
Солнце садилось, тени на воде стали длиннее. Сейчас движение было уже не таким оживленным — те, кто устраивал водное чаепитие, отправились домой обедать, а те, кто собирался ужинать на реке, еще не появились. Эндимион явно мог проспать так всю ночь, пора было ожесточить сердце и выдернуть шесты. Она все откладывала это решение, пока громкий вопль и удар в бок плоскодонки не избавили ее от колебаний. Неумелая неофитка вернулась вместе со своими приятелями и, выпустив шест посреди реки, позволила лодке придрейфовать и врезаться в их нос. Гарриет помогла им оттолкнуться, проявив при этом куда больше энергии, чем сочувствия, и, повернувшись, обнаружила, что Питер сидит и улыбается ей смущенной улыбкой.
— Я уснул?
— И проспали почти два часа, — сказала Гарриет с довольным смешком.
— О боже, что за отвратительные манеры! Простите, пожалуйста! Почему вы меня не разбудили? Который час? Бедная девочка, мы останемся без ужина, если не поторопимся. Послушайте, я страшно виноват.
— Вовсе нет. Вы очень устали.
— Это не оправдание. — Он уже был на ногах и вытаскивал из ила шесты. — Мы могли бы оба взяться за шест, если вы простите мне такую наглость — из-за моей неслыханной праздности вам придется работать!
— Я люблю работать шестом. Но, Питер! — Он страшно нравился ей сейчас. — Куда нам торопиться? Или вас ждет ректор Бэйлиола?
— Нет, я переехал в «Митру».[220] Я не могу использовать дом ректора как гостиницу, кроме того, к ним еще кто-то приезжает.
— Может, мы тогда съедим что-нибудь на реке[221] и проведем так остаток дня? Конечно, если вы не против. Или вам необходим полноценный ужин?
— Дорогая моя, я готов есть рожки, раз уж вел себя как свинья.[222] Или чертополох. Чертополох даже лучше. Как вы добры, что меня простили.
— Давайте шест. Я буду стоять, а вы рулите.
— Вынимайте шест на счет три.
— Обещаю.
Однако, взявшись за тяжелый шест, она не могла не чувствовать на себе критический взгляд Уимзи из Бэйлиола. Потому что с шестом выглядишь или грациозно, или неуклюже, третьего не дано. Они направились к Иффли.
— Пожалуй, — сказала Гарриет, когда после ужина они снова оказались в лодке, — чертополох был бы предпочтительней.
— Такая еда предназначается для очень молодых людей, витающих в облаках. Подверженных страстям, но бестелесных.[223] Но я рад, что поужинал абрикосовым пирогом и синтетическим лимонадом, это обогатило мой опыт. Кто берет шест? Или, забыв отстраненность и иерархию, мы поплывем рука об руку к закату? — В его глазах сверкнула усмешка. — Повелевайте, я подчинюсь.
— Как хотите.
Он торжественно препроводил ее на носовое сиденье и сам устроился рядом.
— На чем это я сижу?
— На сэре Томасе Брауне. Простите, мне пришлось обшарить ваши карманы.
— Ну, раз уж я оказался никчемным спутником, хорошо, что вы нашли мне достойную замену.
— Вы с ним неразлучны?
— Я довольно всеяден. Это легко мог быть Кай Лунь, или «Алиса в Стране Чудес», или Макиавелли…
— Или Боккаччо, или Библия?
— Вполне возможно. Или Апулей.
— Или Джон Донн?
Мгновение он молчал, а потом сказал изменившимся голосом:
— Человек случайно натянул лук?
— Что, точный выстрел?
— В яблочко. Сквозь швы лат…[224] Если вы будете чуть подгребать с той стороны, будет удобнее рулить.
— Простите… Вы легко пьянеете от слов?
— Так легко, что, честно говоря, редко бываю трезв. И потому так много болтаю.
— И все-таки, если бы меня спросили, я бы сказала, что у вас страсть к равновесию и порядку — нет красоты без строгой меры.
— Бывает страсть к недостижимому.
— Но вы этого достигаете. Во всяком случае, так кажется.
— Как истинный приверженец классицизма? Нет. Боюсь, в лучшем случае это равновесие противоборствующих сил. Река снова становится людной.
— Многие выходят покататься после ужина.
— И почему бы им не кататься? Вы не замерзли?
— Нисколько.
Он уже второй раз за пять минут остановил ее на подступах к своей личной территории. Его настроение изменилось, он снова опустил забрало. Нельзя было еще раз проигнорировать знак «Проход запрещен», так что она позволила ему сменить тему. Так он и сделал с присущим ему светским тактом, спросив, как продвигается ее новый роман.
— Застрял.
— А что с ним случилось?
Пришлось изложить весь сюжет «Меж ветром и водой». Это была сложная история, и немало воды утекло под лодкой прежде, чем она дошла до завершения.
— Тут нет никакой принципиальной неувязки, — сказал он и предложил несколько небольших изменений.
— Как вы умны, Питер! Конечно, вы правы, так гораздо лучше решается проблема часов. Но почему все это кажется таким картонным?
— По-моему, все дело в Уилфриде, — ответил Уимзи. — Я знаю, что он собирается жениться на девушке, но разве обязательно быть таким остолопом? Зачем он прячет улики и придумывает все это ненужное вранье?
— Потому что думает, что она виновна.
— Да, но почему? Он влюблен без памяти, она свет его очей, и тем не менее какой-то несчастный носовой платок в спальне тут же убеждает его, что она не только была любовницей Винчестера, но и укокошила его в особо изощренной манере, — и все это на основании улик, по которым и собаку не повесишь. Может, бывает и такая любовь, но…
— Но вы хотите сказать, вы бы так не поступили. Собственно, вы действительно так не поступили…
Вот она опять, эта прежняя ярость, желание ударить побольнее, чтобы только увидеть, как он поморщится.
— Нет, — ответил он. — Я рассуждал отвлеченно.
— Чисто академически.
— Да, если хотите. С логической точки зрения поведение Уилфрида кажется мне необоснованным.
— Что ж, — сказала Гарриет, вновь обретя самообладание, — с академической точки зрения я готова признать, что Уилфрид — первостатейный идиот. Но если он не спрячет платок, что будет с моим сюжетом?
— А вы не можете сделать Уилфрида одним из тех ужасающе совестливых людей, которых вырастили в убеждении, что все приятное наверняка грешно? Тогда он может думать, что раз девушка кажется ему ангелом света, тем больше оснований верить в ее виновность. Пусть у него будет отец-пуританин и вера в геенну огненную.
— Питер, а это идея.
— Пусть пребывает во власти мрачного убеждения, что любовь порочна по самой своей сути и он может очиститься, лишь взяв на себя грехи этой женщины и погрузившись в искупительное страдание. Он все равно будет идиот, да еще и с патологией, но так его идиотизм хотя бы выйдет последовательным.