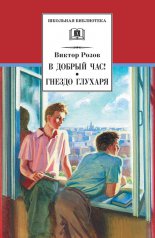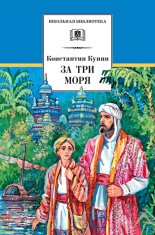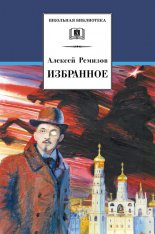Возвращение в Оксфорд Сэйерс Дороти

— Тсс! Нет, я довольно рано встал. Только тише, чтоб Бантер не услышал — а не то начнет проявлять заботу. Люди время от времени умирают, и черви пожирают их, но не ранний подъем тому причиной.[229] Народная мудрость гласит, что ранний червячок скушает пташку.
— Вы мне напомнили, — сказала декан, — что меня в кабинете ждут полдюжины червячков. Три поздних возвращения в колледж без специального пропуска, два граммофона, включенных в неположенное время, и несанкционированное транспортное средство. До ужина, лорд Питер.
Она поспешила карать нарушительниц, оставив Питера и Гарриет самих осматривать колледж. Из замечаний Питера Гарриет мало что поняла, казалось, он думает о чем-то другом.
— Похоже, — сказал он наконец, — ночами вас теперь будут мало тревожить.
— Почему?
— Во-первых, ночи все короче, а риск все больше. И тем не менее — вы не обидитесь, если я попрошу вас… если я предложу вам принять меры предосторожности?
— Какие меры?
— Револьвер под подушку рекомендовать не буду. Но я подозреваю, что вам и, по крайней мере, еще одному человеку угрожает нападение. Может, это плод больной фантазии. Но если эта баламутница встревожилась и переполошилась — а похоже на то, — следующая выходка может быть вовсе не шуточной.
— Ну, — заметила Гарриет, — по ее собственным словам, ей на меня начхать.
Его внимание привлекло что-то на приборной доске, и он ответил, глядя не на нее, а на машину:
— Да. Но без всякого тщеславия скажу: я бы хотел быть вам мужем, или братом, или любовником — но не тем, что я есть.
— Думаете, ваше пребывание здесь для меня опасно?
— Боюсь, я себе льщу.
— Но ведь если она нападет на меня, то вас она этим не остановит.
— Не факт, что она так ясно мыслит.
— Что ж, я готова рисковать — если придется. И не понимаю, почему было бы легче, если бы вы приходились мне родственником.
— Это был бы уважительный предлог для моего присутствия в колледже. Только не думайте, что я пытаюсь извлечь выгоду из этого дела. Как вы могли заметить, я тщательно соблюдаю все формальности. Просто хочу вас предупредить: знакомство со мной может быть опасно.
— Давайте называть вещи своими именами, Питер. Вы считаете, что, увидев вас здесь, злоумышленница решится на отчаянный шаг — и, вероятно, нападет на меня. И вы очень вежливо мне намекаете, что, возможно, безопаснее было бы замаскировать ваш интерес к делу под интерес иного рода.
— Безопаснее для вас.
— Да, хотя все равно не понимаю, почему вы так думаете. При этом вы уверены, что я лучше умру, чем пойду на такое неловкое для меня притворство.
— А разве нет?
— А сами вы предпочтете видеть меня мертвой, но не в неловком положении.
— Вероятно, это такая форма эгоизма. Но я всецело к вашим услугам.
— Разумеется, если вы столь опасный союзник, я могу попросить вас уехать.
— Я так и вижу, как вы упрашиваете меня уехать, не кончив дела.
— Что ж, Питер, я и в самом деле лучше умру, чем буду притворяться перед вами или вместе с вами. Но только, по-моему, вы все преувеличиваете. Обычно вы не поднимаете никакого переполоха.
— Почему же, довольно часто поднимаю. Однако если рискую только я — что мне до этого переполоха. Но рисковать другими…
— Инстинкт велит вам спрятать женщин и детей.
— Увы, — с горечью признал он, — природные инстинкты невозможно полностью подавить, даже когда того требуют разум и собственные интересы.
— Питер, какая досада. Давайте я познакомлю вас с какой-нибудь милой женщиной, которая только и мечтает, чтоб ее защищали.
— Я попусту растрачу себя. К тому же она станет меня обманывать — из лучших побуждений, для моего же блага, — я такого не вынесу. Я не согласен, чтобы мной тактично манипулировал человек, который должен быть мне ровней. Если мне нужны тактичные подчиненные, я их нанимаю. Как становятся чересчур тактичными — увольняю. Я не о Бантере. Он окатывает меня ледяным душем молчаливого неодобрения. Я его не защищаю, это он меня защищает и сохраняет при том независимость суждений. И все же — я вовсе не собираюсь брать на себя роль защитника — могу я посоветовать вам принять меры предосторожности? Честно говоря, мне не нравится, что эта дама так помешана на ножах и удавках.
— Вы серьезно?
— На этот раз да.
Гарриет хотела было сказать, чтоб он не валял дурака, но вдруг вспомнила, что рассказывала мисс Бартон: как ее обхватили сильные руки. Возможно, это правда. И сразу же мысль о дежурстве в длинных колледжских коридорах ей как-то разонравилась.
— Хорошо, я буду осторожнее.
— Это будет разумно с вашей стороны. А теперь мне пора. Как раз успею, чтобы предстать перед Высоким столом ровно в семь. Ведь в семь?
Она кивнула. Он совершенно буквально понял ее требование прийти утром, вместо того чтобы прийти в шесть. С чувством некоторой опустошенности она побрела воевать с гранками мисс Лидгейт.
Глава XVII
Много вопрошающий много уразумеет и обретет много радости, особенно ежели соотнесет свои вопросы с умениями вопрошаемых, ибо тогда он позволит им говорить с приятностию, а сам не престанет умножать знание. Но да не будут его вопрошания затруднительны, ибо это — удел бахвала; и пусть он не забывает давать каждому высказаться в свой черед.[230]
Фрэнсис Бэкон
— Вы сейчас похожи на нервную мамашу, — заявила декан, — чей сынок должен декламировать «Гибель Гесперуса»[231] на школьном концерте.
— Я скорее чувствую себя как мать Даниила:
- А Царь повелел львам своим:
- «Куси Даниила. Куси Даниила.
- Куси Даниила. Куси!»
— Уррр! — отозвалась декан.[232]
Гарриет и мисс Мартин стояли у двери профессорской, из которой хорошо просматривался вход с Джоветт-уок. На Старом дворе кипела жизнь. Кто-то торопился переодеться к ужину, другие, уже переодевшись, прохаживались группами в ожидании гонга; кто-то играл в теннис; мисс де Вайн вышла из библиотечного крыла, рассеянно поправляя шпильки (которые Гарриет успела проверить и идентифицировать); от Нового двора медленно плыл элегантный силуэт.
— У мисс Шоу новое платье, — заметила Гарриет.
— И какое шикарное! Между прочим, это в честь Даниила.
- Лилий нежнее, свежа, как роса.
- Спелая дынька, нивы краса.[233]
— Декан, вы подколодная змея.
— Все мы этим грешим. Этот ранний сбор выглядит прямо-таки зловеще. Даже мисс Гильярд надела свое лучшее черное платье со шлейфом. Мы явно рассчитываем взять числом.
Не то чтобы в этом было что-то из ряда вон выходящее: преподаватели вполне могли собраться перед дверью профессорской ясным летним вечером в ожидании ужина, но, оглядевшись, Гарриет признала, что никогда еще они не собирались в столь полном составе до семи. У всех настороженный вид, подумала она, а у некоторых даже враждебный. Избегают смотреть друг другу в глаза, сбились в стаю, будто защищаясь от внешней угрозы. Ей вдруг показалось страшно нелепым, что кто-то может бояться Питера Уимзи, — сейчас они все представлялись ей безобидной группкой нервных пациентов в приемной у дантиста.
— Мы, кажется, встречаем нашего гостя с большой помпой, — произнес вдруг ей в ухо резкий голос мисс Пайк. — Надеюсь, он не робкого нрава?
— Нрава он весьма крутого, — сказала Гарриет.
— О, кстати, — встрепенулась декан, — а как у него с манишкой?
— Вкрутую, разумеется, — запальчиво ответила Гарриет. — Если она хоть раз хлопнет или вздуется, с меня пять фунтов.
— Хотела спросить, — сказала мисс Пайк, — а как получался этот хлопающий звук? Я не решилась задать доктору Трипу столь личный вопрос, но мне очень любопытно.
— Спросите лучше у лорда Питера, — посоветовала Гарриет.
— Если вы считаете, что его это не обидит, то спрошу, — совершенно серьезно ответила мисс Пайк.
Часы Нью-колледжа несколько не в лад прозвонили четыре четверти и пробили семь.
— Пунктуальность — явно одна из добродетелей, присущих нашему джентльмену, — сказала декан, глядя на привратницкую. — Вы бы встретили его, подбодрили перед испытанием.
— Думаете? — Гарриет покачала головой. — Таммаса Йони с толку не собьешь.[234]
Может быть, мужчине и нелегко идти в одиночку по широкому двору под перекрестными взглядами академических дам всех видов и мастей, но это просто детские игрушки в сравнении с долгой дорогой от павильона до питча на «Лордс», когда выбито всего пять калиток, а нужно еще девяносто девять. Тысячи современников могли бы узнать этот легкий, неторопливый шаг, эту уверенную посадку головы. Гарриет дала ему пройти три четверти пути в одиночестве, а затем вышла навстречу:
— Вы не забыли почистить зубы и помолиться?
— Нет, мама. Еще я подстриг ногти, помыл за ушами и взял чистый носовой платок.
Взгляд Гарриет упал на проходивших мимо студенток — увы, они не могли бы сказать о себе то же самое. Они казались растрепанными и неопрятными, и Гарриет внезапно почувствовала благодарность к мисс Шоу, которая всегда уделяет столько внимания одежде. Что касается ее спутника, он весь, от прилизанной желтой шевелюры до кончиков ботинок, излучал опасность. От утреннего настроения не осталось и следа, глаза горели озорством, которого хватило бы на целую стаю диких обезьян.
— Что ж, идемте, и ведите себя прилично. Вы виделись с племянником?
— Виделся. Вероятно, завтра мне придется объявить себя банкротом. Он просил передать вам его любовь, будучи уверенным, видимо, что хоть этого добра у меня осталось вдоволь. И вся она вернулась к вам, хотя была моею.[235] Вам идет яркий цвет.
Тон его был приятно отстраненным, и она надеялась, что он имеет в виду ее платье, а не ярко вспыхнувшие щеки, но кто его знает. Она была рада передать Питера декану, которая подошла приветствовать его и избавила Гарриет от церемонии представления гостя всем присутствующим. Гарриет же могла забавляться, наблюдая за происходящим. Мисс Лидгейт в своей непосредственности встретила Питера точно так же, как встретила бы любого другого гостя, и стала заинтересованно расспрашивать его о ситуации в Центральной Европе. Светская улыбка мисс Шоу лишь подчеркнула отрывистое приветствие мисс Стивенс, которая тут же принялась оживленно обсуждать дела колледжа с мисс Эллисон. Мисс Пайк задала какой-то острый вопрос о недавнем убийстве, мисс Бартон приблизилась к Уимзи с явной целью внушить ему должные взгляды на смертную казнь, но была обезоружена его неколебимым дружелюбием и вместо этого заметила, что сегодня чудесный день.
«Каков артист!» — подумала Гарриет, наблюдая, как мисс Бартон, потерпев поражение, передает его мисс Гильярд.
— Рад знакомству, — говорил тем временем Уимзи, с улыбкой глядя в колючие глаза тьютора по истории. — Ваша статья в «Историческом вестнике» о дипломатических аспектах развода…
(«Боже, — подумала Гарриет. — Надеюсь, он знает, о чем говорит».)
— …поистине мастерски. Мне только кажется, что вы несколько недооценили то давление, которое испытывал Клемент,[236] когда…
— …судя по неизданным донесениям, которые находятся в распоряжении…
— …вы могли пойти в своих рассуждениях дальше. Вы совершенно верно замечаете, что император…
(Да, он действительно читал статью.)
— …искажено предрассудками, но значительное влияние канонического права…
— …необходимо тщательно проверить и заново отредактировать… Бесчисленные ошибки в написании и, по крайней мере, один возмутительный пропуск…
— Если вам понадобится доступ к этим документам, я мог бы вас связать… по официальным каналам… личное знакомство… никаких затруднений…
— У мисс Гильярд такой вид, — сказала декан Гарриет, — словно она получила подарок ко дню рождения.
— Кажется, он предлагает ей доступ к каким-то закрытым источникам информации.
(В конце концов, подумала она, он довольно важная фигура, хотя об этом постоянно забываешь.)
— …не столько политическое, сколько экономическое…
— Раз уж речь зашла о национальных финансах, — заметила мисс Гильярд, — то в этой области мисс де Вайн — признанный авторитет.
Она представила друг другу Питера и мисс де Вайн, и беседа потекла дальше.
— Так, — сказала декан, — мисс Гильярд он безусловно покорил.
— А его безусловно покорила мисс де Вайн.
— Думаю, это взаимно. У нее распустилось несколько прядей — верный знак удовольствия и интереса.
— Да, — согласилась Гарриет.
Уимзи со знанием дела дискутировал об отчуждении монастырской собственности, но она не сомневалась, что на уме у него сплошные шпильки.
— А вот и ректор. Придется их разлучить силой. Ему надо познакомиться с доктором Баринг и вести ее к столу. Ага, все хорошо. Она его прибрала к рукам. Твердое установление королевской прерогативы! Хотите сесть рядом и держать его за руку?
— Не похоже, чтобы он нуждался в моей помощи. Лучше вы. Вне подозрений и при этом источник ценной информации.
— Хорошо. Я сяду рядом и буду щебетать, а вы садитесь напротив и пинайте меня, если я скажу что-то лишнее.
Усевшись в соответствии с этим планом, Гарриет обнаружила не слишком приятное соседство: по одну сторону от нее оказалась мисс Гильярд (которая всегда испытывала к ней неприязнь), а по другую — мисс Бартон (которая все еще беспокоилась о сомнительном детективном хобби Уимзи). А прямо напротив нее сидели два человека, с которыми ей опасно было встречаться взглядами, если она намеревалась сохранить серьезность. С другой стороны от декана очутилась мисс Пайк; с другой стороны от мисс Гильярд, в непосредственном поле зрения Уимзи, — мисс де Вайн. Мисс Лидгейт, эта несокрушимая крепость, уселась в дальнем конце стола и вряд ли могла предоставить ей убежище.
Ни мисс Гильярд, ни мисс Бартон не заговаривали с Гарриет, так что она могла без помех наблюдать за прямолинейными попытками ректора составить мнение об Уимзи и за куда более дипломатичными, но не менее упорными попытками Уимзи составить мнение о ректоре — состязание это сопровождалось неизменной учтивостью с обеих сторон.
Доктор Баринг начала с того, что спросила Питера, показали ли ему колледж и что он о нем думает, добавив с подобающей скромностью, что с архитектурной точки зрения Шрусбери, разумеется, не может состязаться с более старинными учреждениями.
— Учитывая, что архитектура моего собственного старинного учреждения с математической точностью составлена из свержения, выметания, уморжения и обделения,[237] — горько ответил его светлость, — ваше замечание кажется саркастическим.
Ректор, почти поверив, что нарушила правила хорошего тона, стала серьезно уверять гостя, что за ее словами не стояло никаких личных намеков.
— Весьма полезное напоминание, — сказал он в ответ. — Готика девятнадцатого столетия призвана смирить нашу бэйлиоловскую гордыню, чтоб не забывали Бога. Мы разрушили хорошее, чтоб создать плохое, вы же, наоборот, создали мир из ничего — гораздо более по-божески.
Ректор, с трудом маневрируя на скользкой грани между серьезностью и шуткой, нашла наконец опору:
— Вы верно подметили, нам пришлось извлекать все возможное из того малого, что нам доступно, и это очень типично для нашего положения в университете.
— Да, ведь вам приходится обходиться почти без фондов?
Вопрос был задан так, чтобы вовлечь в разговор декана, которая весело ответила:
— Совершенно верно. Но голь на выдумки хитра.
— Учитывая все обстоятельства, даже восхищение может показаться дерзостью. У вас прекрасная трапезная, какой архитектор ее строил?
Ректор тут же принялась излагать главу местной истории, но оборвала рассказ на полуслове:
— Но наверное, вас не особенно интересует вопрос женского образования?
— А что, это все еще вопрос? По-моему, он давно исчерпан. Надеюсь, вы не станете меня спрашивать, одобряю ли я, что женщины делают то или это.
— Отчего же?
— Потому что это предполагало бы, что я имею право одобрять или не одобрять.
— Уверяю вас, — сказала ректор, — даже в Оксфорде все еще встречаются те, кто настаивает на своем праве не одобрять.
— А я думал, что вернулся в цивилизацию.
Тут стали уносить рыбные тарелки, все немного отвлеклись, и ректор воспользовалась возможностью, чтобы перевести разговор на положение дел в Европе. Теперь ее гость был в своей стихии. Гарриет встретилась глазами с деканом и улыбнулась. Но приближался новый экзамен: от международной политики перешли к истории, а история — по крайней мере, в представлении доктора Баринг — была неотделима от философии. Внезапно из переплетения слов вынырнуло зловещее имя Платона, и доктор Баринг выдвинула философскую сентенцию, словно пешку, соблазнительно поставленную en prise.[238]
Многие собеседники устремлялись к неминуемой катастрофе по вине философских пешек доктора Баринг. Пешку можно было съесть двумя способами, оба оказывались роковыми. Можно было притвориться, что знаешь, о чем идет речь; можно было выразить неискреннее желание получить объяснения. Его светлость улыбнулся нежной улыбкой и отказался разыгрывать гамбит.
— Это за пределами моего понимания. У меня не философский склад ума.
— А как вы определяете философский склад ума, лорд Питер?
— Никак. Определения — опасная штука. Но я знаю, что философия для меня — закрытая книга, как музыка для тех, у кого нет слуха.
Ректор бросила на него быстрый взгляд, но не увидела ничего, кроме невинного профиля, задумчиво склоненного над тарелкой, — так цапля сидит у пруда.
— Очень удачный пример, — сказала ректор. — У меня как раз нет музыкального слуха.
— Правда? Я так и думал, — невозмутимо отозвался он.
— Очень интересно. И откуда вы узнали?
— Может быть, что-то в звучании голоса. — Он посмотрел ей в глаза честными серыми глазами. — Но это рискованный вывод, и, как вы заметили, я не стал его делать. Истинное искусство шарлатана — выудить признание и представить его как собственное умозаключение.
— Вот как, — сказала доктор Баринг. — Вы с удивительной прямотой раскрываете свои приемы.
— Вы бы все равно заметили, так лучше уж я разоблачу сам себя и создам себе незаслуженную репутацию человека, неспособного солгать. Главное преимущество правды в том, что ей никто не верит, — это суть .[239]
— Значит, есть все же философ, чьи книги для вас не закрыты? В следующий раз я начну с Аристотеля.
Она повернулась к соседке слева, освобождая его от ответа.
— Простите, — сказала декан, — мы не можем предложить вам крепких напитков.
Его лицо ясно выражало смесь настороженности и лукавства.
— Как уцелеть под бороной, известно жабе лишь одной.[240] Вы всегда испытываете своих гостей коварными вопросами?
— Пока не напоремся на Соломона. Вы прошли испытание с честью.
— Тсс! Главная мудрость в светской беседе — знать пределы собственных возможностей.
— Бывало, студентов и нервных молодых донов уносили отсюда в конвульсиях, и все потому, что им не хватало духа честно признаться в собственном невежестве.
— Потому что они не так умны, как Сократ, — добавила мисс Пайк, перегибаясь через декана, — который признавался в незнании довольно часто.
— Ради бога, не поминайте Сократа! — взмолился Уимзи. — А то все начнется сначала.
— Нет, — успокоила его декан. — Сейчас она не станет больше задавать вопросов, разве что спросит что-то, чего не знает.
— Я хочу задать один вопрос, если только вы не поймете его превратно, — сказала мисс Пайк.
Разумеется, она все еще раздумывала о манишке доктора Трипа и намеревалась получить разъяснение. Гарриет надеялась, что Уимзи правильно поймет ее любопытство: не как жеманство, а как ненасытную жажду точной информации, столь характерную для ученого ума.
— Этот феномен, — с готовностью ответил он, — входит в сферу моей компетенции. Он является следствием того, что человеческий торс обладает большей вариативностью, чем готовая сорочка. Описанный вами взрывной звук возникает, когда манишка несколько длинновата для ее носителя. Жесткие края чуть раздвигаются из-за наклона туловища, а потом возвращаются в прежнее положение и соприкасаются с громким щелчком, похожим на тот, что издает надкрылье некоторых жуков. Звук этот не следует путать с тиканьем точильщика пестрого, который издается при помощи челюстей и считается любовным призывом. Щелканье манишки не имеет любовных коннотаций и лишь создает неудобство насекомому. Его можно устранить, боле тщательно выбирая сорочку или же, в крайнем случае, сшив ее по мерке.
— Спасибо большое, — сказала мисс Пайк. — Это исчерпывающее объяснение. В наше время не будет слишком большой вольностью провести параллель со старомодным корсетом, который мог причинять сходные неудобства.
— Неудобство могло быть еще более значительным в случае ношения доспехов, — добавил Уимзи, — их приходилось подгонять с большой точностью, чтобы в них вообще можно было двигаться.
В этот момент мисс Бартон отвлекла Гарриет каким-то замечанием, и она потеряла нить разговора, а когда снова прислушалась, мисс Пайк рассказывала своим соседям любопытные подробности о минойской цивилизации, а ректор явно ждала конца ее объяснений, чтобы снова вонзить когти в лорда Питера. Повернувшись направо, Гарриет увидела, что мисс Гильярд наблюдает за группой со странно сосредоточенным выражением. Гарриет попросила ее передать сахар, и та с усилием вернулась с небес на землю.
— Кажется, они там отлично поладили, — сказала Гарриет.
— Мисс Пайк любит работать на публику, — ответила мисс Гильярд с такой злобой, что Гарриет застыла в изумлении.
— Мужчине полезно иногда посидеть и послушать, — заметила она.
Мисс Гильярд рассеянно согласилась. После небольшой паузы, во время которой все продолжали трапезу, она вновь заговорила:
— Ваш друг уверяет, что может обеспечить мне доступ к одной частной коллекции исторических документов во Флоренции. Как вы полагаете, он действительно намерен это сделать?
— Если он обещал, то обязательно сделает.
— Приму ваше ручательство, — сказала мисс Гильярд. — Я рада это слышать.
Тем временем ректор вновь завладела вниманием гостя и что-то серьезно говорила ему негромким голосом. Он внимательно слушал, чистя яблоко, узкие ленты кожуры медленно скользили между его пальцами. Он что-то спросил, покачал головой:
— Это очень маловероятно. Я бы сказал, почти никакой надежды.
Гарриет спрашивала себя, уж не обсуждают ли они анонима, но в этот момент Питер произнес:
— Триста лет назад это значило довольно мало. Но сейчас на дворе век национального самоутверждения, колониальной экспансии, век варварских вторжений, упадка и разрушения — все сжаты во времени и пространстве, все вооружены отравляющим газом и следуют восходящему движению развитой цивилизации. В такой век принципы опаснее страстей. Стало необыкновенно легко убивать людей в огромных количествах, а первое, что делает принцип — если это действительно принцип, — убивает кого-то.
— Настоящая трагедия не в борьбе добра со злом, а в борьбе добра с добром. У этого конфликта нет решения.
— Да. И это, разумеется, не может не тревожить упорядоченный ум. Можно покориться неизбежному, и тебя назовут кровожадным прогрессистом. Или можно пытаться выиграть время, и тогда тебя назовут кровожадным реакционером. Но когда главный аргумент — кровь, то любой спор обернется кровопролитием.
Ректор и бровью не повела, услышав это пророчество.
— Иногда я думаю, можно ли выиграть что-нибудь, пытаясь выиграть время.
— Ну, если достаточно долго не отвечать на письма, некоторые из них ответят сами на себя. Никто не может предотвратить падение Трои, но человек скучный и осмотрительный может вынести из города ларов и пенатов, хоть он и рискует, что к его имени приклеится эпитет pius.[241]
— Считается, что университеты всегда должны быть в авангарде прогресса.
— Но все эпические битвы — удел арьергарда: взять хоть Ронсеваль, хоть Фермопилы.[242]
— Что ж, — смеясь, сказала ректор, — умремте ж с честью, не оставив по себе ничего, кроме эпоса.
Она окинула взглядом весь Высокий стол, поднялась и величественно вышла из трапезной. Питер вежливо прислонился к панелям, давая дорогу донам, и оказался у края помоста как раз вовремя, чтобы поймать шарф, соскользнувший с плеч мисс Шоу. Гарриет спускалась по ступенькам между мисс Мартин и мисс де Вайн, которая заметила:
— Вы — смелая женщина.
— Почему? — спросила Гарриет. — Потому что привожу сюда своих друзей и подвергаю их испытанию?
— Ерунда! — вмешалась декан. — Мы все вели себя примерно. Даниил до сих пор не съеден — один раз он даже укусил льва. Кстати, он правда догадался?
— Про музыкальный слух? Может, даже чуть более нечаянно, чем изображал.
— Он собирается весь вечер расставлять нам капканы?
На мгновение Гарриет поразилась, как странно все складывается. Она снова смотрела на Уимзи как на опасного противника, встав на сторону женщин, которые со странным великодушием принимали у себя инквизитора. Однако она ответила:
— Если и собирается, то на самом виду и галантно продемонстрировав механизм действия.
— Уже после того, как жертва попалась. Очень утешительно.
— Этот мужчина способен обуздать себя, когда ему нужно, — сказала мисс де Вайн, отмахиваясь от легкой пикировки. — Мне жаль того, кто пойдет против его принципов, каковы бы они ни были и если они вообще есть.
Она отделилась от группы и угрюмо направилась в профессорскую.
— Любопытно, — заметила Гарриет. — Она сказала о Питере Уимзи то, что я всегда думала о ней самой.
— Узнала родственную душу?
— Или противника, достойного ее клинка… Но я зря так говорю.
Тут Питер и его спутница поравнялись с ними, и декан увела вперед мисс Шоу. Питер улыбнулся Гарриет странной, вопросительной улыбкой:
— Что вас тревожит?
— Питер, я чувствую себя Иудой!
— Чувствовать себя Иудой — одна из профессиональных обязанностей сыщика. Боюсь, это работа не для джентльмена. Ну что, умоем руки, как Пилат, и будем гордиться своей респектабельностью?
Она взяла его под руку:
— Нет, мы уже ввязались. Давайте вместе опускаться на дно.
— Замечательно. И будем сидеть на сточной трубе, как те любовники в фильме Штрогейма.[243]
Под тонким сукном она чувствовала его мускулы, успокаивающее тепло руки. Гарриет подумала: «Мы с ним — из одного мира, все остальные — пришельцы». И еще: «Черт бы их всех побрал! Это наша личная битва, что они все тут делают?» Но это было абсурдно.
— Что мне нужно делать, Питер?
— Кидайте мне мяч, когда он выкатится из круга. Но незаметно. Просто используйте свой разрушительный талант придерживаться темы и говорить правду.
— Это нетрудно.
— Вам нетрудно. За это я вас и люблю. Вы не знали? Нет, сейчас мы не можем об этом поспорить, они подумают, будто мы что-то замышляем.
Она отпустила его руку и вошла в профессорскую первой, внезапно смутившись и оттого глядя с вызовом. Кофе был уже подан, и все собрались вокруг стола. Она увидела, как мисс Бартон подходит к Питеру, вежливо предлагая ему десерт, однако в глазах ее светится решимость. Гарриет больше не беспокоилась за Питера. Он кинул ей новую кость, и она должна была как следует ее разгрызть. Взяв кофе и сигарету, Гарриет удалилась в угол. Она часто спрашивала себя, в отстраненной манере, что именно в ней привлекло Питера — привлекло, очевидно, с самого первого дня, когда она сидела на скамье подсудимых, когда давала показания, от которых зависела ее жизнь. Теперь она это знала, но трудно было найти два более неподходящих качества, чем эти, чтобы объяснить ими чью-то преданность.
— И вы не чувствуете никакого неудобства, лорд Питер?
— Нет, я бы так не сказал. Но разве мое или чье-то еще удобство имеет такое уж большое значение?
Мисс Бартон, видимо, сочла фразу легковесной, но Гарриет услышала знакомые безжалостные нотки: «Пусть это будет сколь угодно болезненно — какая разница, если получится хорошая книга?» Ладно, пусть себе спорят. Неприятные качества, да. Но если он сказал правду, это многое объясняет. Именно эти черты характера можно разглядеть в самых тяжелых обстоятельствах. «Беспристрастность суждений… Если вы нравитесь кому-то за это качество, такая симпатия искренна». А это сказала мисс де Вайн, вон она сидит, недалеко, ее глаза за толстыми стеклами очков устремлены на Питера со странным, изучающим выражением.
Все беседовали, разбившись на группы, но постепенно беседа стала смолкать, прерываться паузами. Все начали разбредаться, садиться. Стали отчетливо слышны голоса мисс Эллисон и мисс Стивенс. Они обсуждали какие-то дела колледжа, взволнованно и огорченно. Позвали мисс Берроуз, чтобы спросить ее мнение. Мисс Шоу повернулась к мисс Чилперик и сделала какое-то замечание о купании в Девичьей запруде.[244] Мисс Чилперик стала отвечать — отвечала она слишком пространно, ее долгая речь привлекла внимание, она смутилась и замолчала. Мисс Лидгейт с тревожным выражением лица слушала рассказ миссис Гудвин о ее сынишке, на середине истории мисс Гильярд, сидевшая неподалеку, решительно поднялась, потушила сигарету, смяв ее в пепельнице, и медленно, словно нехотя, двинулась к оконной нише, возле которой все еще стояла мисс Бартон. Гарриет видела, как ее сердитый, горящий взгляд остановился на склоненной голове Питера, потом метнулся к окну, снова вернулся. Мисс Эдвардс сидела неподалеку на низком кресле, по-мужски уперев руки в колени, она наклонилась вперед, будто чего-то ждала. Мисс Пайк стояла, прикуривая сигарету и явно ища возможности привлечь внимание Питера, она была оживлена, заинтересована, чувствовала себя явно свободнее остальных. Декан, устроившись на пуфике, прислушивалась к разговору Питера и мисс Бартон. На самом деле к их разговору прислушивались все, хотя и пытались сделать вид, что это просто обычный гость — не враг, не шпион. Они старались не показывать виду, что он в центре внимания, хоть он и занимал мысли всех присутствующих.
Ректор, сидя в глубоком кресле у камина, не пыталась исправить положение. Постепенно, один за другим, все разговоры иссякли и замерли, оставив лишь тенор, который звучал словно сольная партия инструмента, исполняющего каденцию при молчании оркестра.
— Казнь виновных неприятна, но куда хуже истребление невинных. Если вы жаждете моей крови, то не позволите ли вручить вам более подходящее оружие?
Он огляделся и увидел, что все, кроме них и мисс Пайк, сидят в молчании, сделал небольшую вопросительную паузу, которая выглядела как дань вежливости, но которую Гарриет мысленно назвала «теат ральной».
Мисс Пайк первая двинулась к большому дивану, стоявшему рядом с сиденьем в оконной нише, которое заняла мисс Гильярд, и спросила, усаживаясь в уголке:
— Вы имеете в виду жертв убийцы?
— Нет, — ответил Питер. — Я имею в виду своих собственных жертв.
Он сел между мисс Пайк и мисс Бартон и продолжал приятным светским тоном:
— Например, я случайно обнаружил, что молодая женщина убила старую из-за денег. Это мало что изменило: старуха в любом случае умирала, а девушка (хоть она этого и не знала) должна была унаследовать ее состояние. В результате моего вмешательства девушка снова принялась за свое, прикончила двух невинных людей, чтобы замести следы, пыталась убить еще троих. В конце концов она покончила с собой.[245] Если бы я оставил ее в покое, то вместо четырех смертей была бы всего одна.
— О боже! — воскликнула мисс Пайк. — Но она бы осталась на свободе!
— Да. Она была не слишком приятная особа и дурно влияла на окружающих. Но кто убил двух других — она или общество?
— Они были убиты из страха перед смертной казнью, — заявила мисс Бартон. — Если бы несчастную лечили, и она, и две ее жертвы сегодня, возможно, были бы живы.
— Я говорил вам, что это хорошее оружие. Но все не так просто. Если бы она не убила еще двоих, ее бы не поймали, и никто не стал бы ее лечить — жила бы себе припеваючи и развращала бы души еще нескольких человек, если вы готовы признать, что это тоже важно.
— Видимо, вы имеете в виду, что эти невинные люди умерли за других, были принесены в жертву социальным принципам, — сказала ректор, пока мисс Бартон возмущенно пыталась сформулировать свое несо гласие.