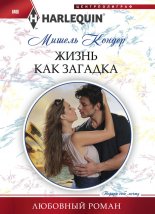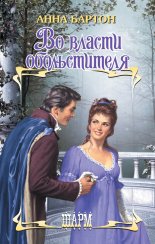Найти себя Елманов Валерий
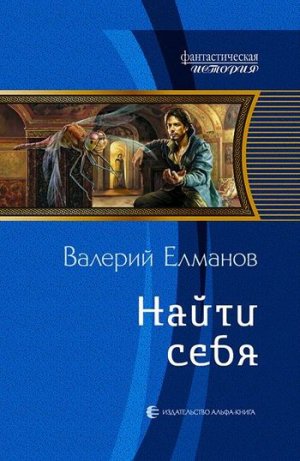
Голос принадлежал царевичу.
Оказывается, Квентина не успокоило, а, скорее напротив, еще больше насторожило мое недоумение по поводу неожиданной задержки. Вот почему на полпути, да что там, уже близ кремлевских стен поезд царевича развернулся и вновь двинулся по направлению к объезжей избе.
Правда, когда выяснилось, что бумага уже составлена, а сам Федот, то есть Феликс ушел, Квентин успокоился и больше из мальчишеской лихости и желания показать, в каком он нынче почете у царского сына, упросил того двинуться дальше и нагнать отпущенного.
Мол, то-то смеху будет.
Получилось у меня «с корабля на бал», а если совсем точно, то из острога прямиком в царскую мыльню, где спустя всего час я блаженствовал в парилке. Не пожелавший отпускать меня надолго Федор Борисович, возбужденный столь редким приключением, лично распорядился и о баньке, и о том, чтобы княж Феликс, как только намоется, немедля вместе с Квентином к нему.
– А почему Феликс-то? – первым делом поинтересовался я, блаженствуя под умелыми руками дюжих банщиков, у почти невидимого в густых клубах пара Квентина.
– Федот – это не...– последовал авторитетный ответ жалобно постанывавшего Квентина.– У нас нет Федот. Я и помыслил взять сходное. Да и красно[68] звучит – Феликс Мак-Альпин,– заметил он, явно гордясь подобранным для меня звучным именем.
– Ну-у,– неопределенно промычал я, осваиваясь с новым именем.
Вообще-то я и сам собирался его поменять, только как-то все забывал, да к тому же в иностранных именах не силен. Впрочем, выбор Квентина был недурен, имя звучало и впрямь неплохо, особенно в совокупности с фамилией.
– Пришлось немного поведать о себе,– продолжил разрумянившийся Дуглас в предбаннике, наслаждаясь ледяным квасом,– но я сразу сказать царевичу, что пока все это тайна, и он обещал сохранить ее.
– Ты рассказал ему, что являешься старшим сыном короля Якова? – обалдел я.
– Все равно он рано или поздно все узнать,– равнодушно пожал плечами Квентин,– а тут такой случай. Был нужда спасать тебя, и что оставалось делать? Ну и о тебе тоже пришлось...
– Так-так,– насторожился я.– А что ты еще рассказал про меня?
– Кроме того, что ты сам мне поведать, ничего,– заверил меня Дуглас.
– И на том спасибо,– вздохнул я и вдруг вспомнил: – Погоди-погоди, а почему царевич в карете называл меня твоим кузеном?
– Я сказать, что мы – родичи,– весело подмигнул Квентин.– То не есть ложь. Ежели поискать, то у всех наших родов в пращурах непременно сыщутся и... как это по-русски? – нетерпеливо прищелкнул он пальцами.
– Представители других родов,– со вздохом подсказал я.
– Да, да,– кивнул он.– Тогда мы есть родичи.
«Час от часу не легче,– горестно подумал я,– вранье на вранье и враньем погоняет. Да если бы еще хоть врать научился по уму, чтоб никакая проверка не вычислила, а то ж одна несуразность на другой и все, можно сказать, в глаза бросаются. С какого перепуга мы так по-разному путешествуем, если двоюродные братья? Поругались? А чего ж тогда выручать кинулся? Да и в остальном столько вопросов можно задать, что... Ох, Квентин, Квентин...»
– А если дознаются? – уныло спросил я, но больше для порядка – и так понятно, что непременно дознаются.
– Кто? – удивился Квентин.
– Кто угодно,– проворчал я.– Ты хоть понимаешь, что я на вашем языке знаю от силы сотню слов и могу ответить лишь на самые элементарные вопросы, да и то если пойму, о чем именно спрашивают.
– Вот об этом я не думать,– виновато ответил Квентин.
– А надо думать. Ладно, если дальше станут спрашивать, то скажешь так. Мол, ты назвал меня кузеном потому, что... так принято между всеми королями,– нашел я выход. Слабенький, конечно, но хоть какой-то.– А если кому-то подумалось, что мы родичи, то он ошибся. И еще одно,– вовремя вспомнил я,– больше никогда никому ни слова о том, что ты сын английского короля.
– Почему? – опечалился Квентин.
– Потому,– сердито ответил я.– Представь, что будет, если слух об этом дойдет до царя.
– И что? – вновь не понял Квентин.
– Он обязательно захочет это проверить,– пояснил я,– хотя бы уже для одного того, дабы окружить тебя соответствующим почетом. Ну и заодно предупредить Якова, мол, сынок твой у меня гостит, но ты не волнуйся, нужды ему ни в чем нет, и вообще живет он тут как у Христа за пазухой. Понимаешь, что тогда с тобой будет? Да и с фамилией твоей тоже загадочная накладка – ведь он потребует объяснений, почему Яков – Стюарт, а ты – Дуглас. И что ты ответишь?
– Я сказать как есть,– невозмутимо пожал плечами Квентин.– Брак не было по причине смерть мой матери.
Может быть, следовало откровенно сказать ему то, что я услышал от лекаря Арнольда Листелла. Не знаю. Но пойти на такое я не решился – язык не поворачивался. В конце концов, сегодня парень меня здорово выручил, можно сказать, спас от смерти, а я вдруг ляпну эдакое. Да и не поверит он мне – кому охота самолично отказываться от столь радужных иллюзий, да еще замененных на не просто правду, но отвратительную правду.
Но если не говорить ему истины, которая чересчур горька, надлежит топать кружным путем, что я и делал, будучи уверенным на все сто, что, затяни он свою шарманку при старшем Годунове, и дело кончится плохо не только для него, но и для меня тоже.
– А ты уверен, что король вообще согласится признать тебя своим сыном? Вспомни, он же ни разу не сказал тебе ничего подобного,– наседал я, желая не мытьем, так катаньем добиться его молчания.
– То не его вина. У него плохие советники, и королева Анна – это они виноват,– огрызнулся Квентин.
– Да какая разница?! Никто не спросит тебя о причине, когда придет известие, что ты не имеешь ни малейшего отношения к королевской семье. И что тогда будет?
– Что?
– Поверят им, а не твоим объяснениям. И после этого тебя уже никто не станет слушать, а возьмут и с треском выгонят... в лучшем случае.
– А в худшем?
– В Сибирь сошлют. Будешь там снег убирать,– проворчал я и, вспомнив графа Калиостро из телефильма «Формула любви», мстительно добавил: – Весь.
– Как весь? – растерялся тот.– Я сам видеть, на Руси его очень много.
– Во-во,– поддакнул я,– и пока не уберешь, не отпустят. И вообще, кажется, пора к царевичу, а то он уже заждался.
Но еще до визита к нему меня ожидал приятный сюрприз – оказывается, вся моя одежда исчезла. В предбаннике раздевались только мы с Квентином, то есть особо и искать негде. Я заглянул под лавки, еще раз внимательно осмотрел стены и даже бросил беглый взгляд на потолок – нету. Испарились мои штанишки с кармашками, мой кафтанчик, мои сапожки, мое...
А что здесь лежит, аккуратно сложенное, такое нарядное, с блестящими пуговками, золочеными узорами и прочими выкрутасами? Странно, если учесть, что Квентин уже полуодет, то есть это не его, а помимо нас в мыльне ни души – у массажеров-банщиков свой закуток.
Вначале даже мелькнула мысль, что, пока мы самозабвенно наслаждались в парилке, сюда каким-то образом просочился некто из царевых слуг, причем самых знатных, если только не сам Федор, но недоумение развеял Квентин.
Весело улыбнувшись, он приглашающе указал на кипу одежды и заверил:
– Твое, твое, можешь не сомневаться. То подарок от Федора Борисовича. Со мной первый раз тако же было – вышел, а вместо моей совсем иное лежит.
Я озадаченно покрутил головой, вздохнул и... принялся одеваться.
Надо признать, что человек из Постельного приказа, подбиравший для меня гардероб, имел весьма наметанный глаз. Длина штанов четко соответствовала моим ногам, кафтан – плечам, рубахи оказались в меру просторными, сафьяновые сапоги с еще более остро загнутыми вверх носами, чем у меня были, ни капельки не жали. Да и шуба, обтянутая каким-то синим материалом, тоже была новенькой, не с чужого плеча, судя по специфической кислинке, которой она отдавала.
– Совсем иное дело,– одобрил Квентин.– Вот теперь ты точно князь Феликс Мак-Альпин.
«Интересно было бы узнать, как пишется моя фамилия – слитно или через дефиску? – подумалось мне, но я сразу выкинул эти мысли из головы как несвоевременные.– Тут впереди прием у наследника русского престола, а я о всякой ерунде, не стоящей выеденного яйца».
Провожатый, терпеливо поджидавший на улице, при виде нас радостно оживился, не смущаясь, шумно высморкался в ближайший сугроб, после чего, проворчав: «Эва, яко припозднились-то, а мальцу почивать пора», приглашающим жестом указал нам на темнеющую в вечернем полумраке громаду царских палат. Оказывается, тут с банькой поступают точно так же, как в деревне, выставляя ее наособицу, метрах в пятидесяти от прочих строений.
– Не поздно мы к нему? – опасливо спросил я у Квентина.
– А нам какое дело? – беззаботно отмахнулся шотландец.– Сказано опосля мыльни прийти, значит, придем. Вон он и доведет.– И кивнул на провожатого, уверенно топавшего чуть впереди.
Шли недолго, да и в узеньких коридорчиках царских палат почти не петляли. Лесенка, ведущая на второй этаж, пара проходов, галерейка, и вот перед нами уже палаты Федора Борисовича, как высокопарно выразился все тот же провожатый.
Комнату, в которую мы зашли, судя по ее размерам, правильнее было бы назвать комнатушкой – где-то четыре на четыре метра, не больше. Оглядеться я не успел, не до того – за столом сидел улыбающийся Федор Борисович.
– Ну, зрав буди, князь Феликс.– Он встал с лавки и подошел поближе.
– И тебе поздорову, ваше высочество,– промямлил я и повинился: – Ты уж прости, не ведаю, как здесь на Руси принято обращаться к царским особам.
– Батюшке земной поклон отдают да длань целуют, а со мной можно не чинясь. К тому ж ты, почитай, с завтрашнего дня мой учитель, так что это мне надлежит тебе кланяться, княж Феликс.
– Про учительство мне неведомо. Тута яко государь завтра повелит,– проворчал забытый нами провожатый, застывший у входной двери.– Да и молод он больно для учительства. Ни власов седых, ни бороды. Срамота голимая.
– А ты ступай себе, ступай,– небрежно кивнул ему Федор.– Привел и ступай. Неча тут.
– А обратно? – усомнился провожатый.– Они же иноземцы,– последнее слово он произнес тоном, явно выражающим все его неприятие нерусских людей,– заплутают тута у нас с непривычки-то.
– Ну за дверью их пожди,– предложил царевич.– А мы тута мигом.
– Ведаю я, яко оно. Поначалу завсегда мигом, ан глядь – час, а то и два. А времечко-то – почивать пора.
– Ну иди уж! – нетерпеливо повысил голос царевич, и провожатый, не переставая ворчать себе под нос что-то осуждающее, нехотя удалился.
– То дядька[69] мой, Ванька Чемоданов. Он завсегда ворчит, и на меня тож, потому ты на него не гляди,– пояснил мне царевич и весело махнул рукой.– А что до батюшки, то он мне в этом перечить не станет – поверь, а ты мне враз полюбился, егда мы еще с тобой в возке катили. Хоша ты и млад летами, а эвон где побывал. Мне-то, поди, за всю жизнь и десятой доли того повидать не доведется,– чуточку взгрустнул он, но тут же вновь повеселел и пригласил нас с Квентином к столу, на котором небрежно валялись разные свитки.– То мне батюшка на выбор прислал к Прощеному воскресенью, дабы я по своему усмотрению выбрал тех, кого помиловать,– пояснил он, начав собирать свитки в кучу, но затем, ойкнув, бросил их и испуганно уставился на меня.– Я-ста, чаю, ты ныне и не потрапезничал вовсе, княж Феликс.
Я отмахнулся:
– То пустяки, царевич. К тому же домой вернусь, там до отвала накормят.
– Не-е, то не дело, чтоб гости из царского дворца с пустым брюхом отъезжали. Разве ж можно. Ну-ка посидите тута, а я мигом с дядькой обговорю. Время и впрямь позднее, но он чего-нибудь придумает.– И, не обращая внимания на наши с Квентином протестующие возгласы, выскочил из комнаты.
От нечего делать я взял со стола наугад один из свитков и попытался прочитать его. Кириллица давалась с превеликим трудом, но я не сдавался, подключив всю логику. Затем, плюнув, взял другой. Та же абракадабра.
А как с третьим? Тут писец постарался, почерк прямой, твердый, буквы не прыгают, и завитушек вокруг них вроде бы поменьше. Постепенно мне удалось сложить их в слова, а там и осмыслить. Получалось следующее:
«По государеву цареву и великаго князя Бориса Федоровича всея Pycи грамоте, воеводы, князь Борис Петрович Татев да Василей Тимофеевич Плещеев, спрашивали детей боярских резанцов: хто на Дон донским атаманом и казакам посылал вино и зелья и серу и селитру и свинец и пищали и пансыри и шеломы и всякие запасы, заповедные товары...»
Так-так. Выходит, с донскими казаками торговать чем хочешь нельзя – имеются ограничения. Будем знать. У меня-то пока в наличии лишь одна пищаль и сабля, которые самому нужны, но мало ли как дальше сложится.
И что там дальше? Кто у нас нарушитель? Я вновь уткнулся в свиток.
«Захарей Лепунов вино на Дон казакам продавал и панцирь и шапку железную продавал...»
Ишь какой фулюган. Ну и какой срок ему за это светит? Я углубился в самый конец свитка:
«Захара с товарыщи бить кнутом...»
Ну кнутом – это по-божески. С другой стороны, как лупить – можно ведь и до смерти засечь. М-да-а, влип парень. Пусть мужик и знал, на что шел, но все равно. Тем более масштабы продажи не впечатляли. Такое ощущение, что человек не спекулировал, а продавал свое, не исключено – последнее. Может, ему хлеба для семьи купить надо было, а тут...
На секунду мне стало остро жалко этого неведомого Лепунова, к тому же фамилия показалась на удивление знакомой. Погоди-погоди, а не тот ли это Ляпунов, который был во главе первого народного ополчения, которое собиралось в Рязани? Хотя нет, того вроде звали иначе. Как-то на «П», то ли Петр, то ли...
Но все равно, возможно, родственник, а может, вообще отец[70]. Помнится, Ляпуновы и в свержении Шуйского участвовали, если только я ничего не путаю. Короче, видная фамилия. Может, подсказать царевичу? Или не стоит с первого дня так бесцеремонно соваться в его дела?
Но тут одно за другим стали вносить блюда для трапезы. Чемоданов расстарался на славу – на столе перед нами оказалось пяток здоровенных блюд, преимущественно мясных, и еще пяток поменьше – с солеными грибочками, мочеными яблочками, хрусткими огурчиками, квашеной капусткой – словом, что-то вроде средневековых салатов.
Жаль, не было моей любимой селедки под шубой. Хотя да, тут, по-моему, свекла то ли еще не завезена, то ли не тот овощ, который допускается на царский стол.
На отдельном блюде красовались сладости – изюм, сушеный инжир, чернослив, вяленые полоски дыни и прочее.
– И вовсе они лишние,– ворчал Чемоданов, выставляя перед каждым из нашей троицы пустую тарелку.– Можно и оттеда ложкой черпануть да в рот, яко в старину. А то ишь удумали баловство.
Беседа, после того как я утолил первый голод, проходила строго в одном ключе – любознательный Федор, которому все было интересно, выспрашивал нас с Квентином о том о сем, а мы отвечали.
- Вызывает антирес
- Ваш технический прогресс:
- Как у вас там сеют брюкву —
- С кожурою али без?[71]
Вопросы царевича преимущественно адресовались мне, поскольку из шотландца, как я понимаю, царевич выжал что мог раньше, в первые дни его пребывания в должности учителя. Затронули почти все, включая гастрономию.
- Вызывает антирес
- Ваш питательный процесс:
- Как у вас там пьют какаву —
- С сахарином али без?..[72]
Правда, о какаве с сахарином разговора не было, врать не стану, но просветил я его изрядно.
На сей раз меня с интересом слушал даже дядька Федора, не упуская ни слова из моих рассказов. При этом Чемоданов иногда спохватывался и выразительным покрякиванием демонстрировал, что сам-то он безоговорочно осуждает и бестолковых немчинов, и суетливых англичан, и чопорных гишпанцев... И вообще ему невдомек, отчего чудной иноземный народец доселе не понял, как правильно надо жить, чтоб по уму да по старине, и не хочет брать пример со святой Руси.
Но слушал внимательно.
Он же первым и спохватился насчет позднего времени, в которое дитятку полагалось видеть уже десятый сон, а он еще и к первому не подступился.
– К завтрему жду,– напомнил мне разрумянившийся Федор, с явной неохотой прощаясь с нами.
Я кивнул, стоя уже у выхода, вежливо поклонился, а распрямляясь, вспомнил про свитки.
– Ежели дозволишь, царевич, небольшой совет, и ежели ты еще не определился с выбором тех, кого хочешь избавить от наказания, то я бы обратил внимание на Захара Ляпунова.
– Да я ентот выбор яко гадание творю,– откровенно поделился со мной Федор.– Свитки все беру и вверх над столом кидаю. Кои свалились, те пущай маются, а кои на столе лежать осталися, тех и жалую.
«Ой как весело и непредсказуемо происходит на Руси процесс помилования!» – восхитился я эдакой непосредственности. Ну что ж, раз тут помилование осуществляется методом тыка, мне же проще, и я еще раз настоятельно посоветовал сделать так, чтобы список с приговором Ляпунову «остался лежать на его столе, а не упал на пол».
– Погоди-погоди, Ляпунов – это из рязанских, кажись,– проявил свою эрудированность Федор.– А он что, из твоих знакомцев?
– Да нет,– пожал я плечами.– Мне и видеть-то его ни разу не доводилось. Просто Ляпуновы хорошо известны в тех краях, вот и посчитал возможным дать совет его простить.
– От плахи? – уточнил Федор.
– От кнута,– поправил я и, увидев, как разочарованно присвистнул Федор, заметил: – То еще страшнее, царевич. Плаха – это смерть, а кнут – оскорбление, и свое унижение мало кто прощает, обида остается на всю жизнь.
– И пускай серчает,– улыбнулся Федор.– Что мне с его обидок?
– Зато и человека, который избавил его от этого унижения, он тоже никогда не забудет. Разве плохо? – осведомился я и не удержался от небольшого комментария: – А ты не задумывался, царевич, что когда ты милуешь убийцу, если список с ним, к несчастью, остался на твоем столе, то тем самым принимаешь участие в дальнейших убийствах, которые он совершит, выйдя на свободу?
– Об том я и вовсе чтой-то...– растерялся Федор.
– Вот и подумай,– предложил я.– А пока – и считай это нашим с тобой первым уроком практической философии, царевич,– запомни, что благодеяния надо не разбрасывать, а распределять, ибо главное не в том, что ты дал, а в том, кому ты дал.– Но для юноши, который только-только перестает быть подростком, желательно сделать учебу более привлекательной, поэтому я сразу сменил тональность и продолжил в ином ключе: – И совсем хорошо, когда это случится так, как ныне. В самый последний миг, когда Ляпунова приведут на площадь и уже станут снимать с него одежду, готовя к казни[73], вдруг откуда ни возьмись появишься ты на белом коне...
– На коне запретил царь-батюшка,– внес коррективу Чемоданов.– Токмо в возке кататься дозволено.
– Хорошо,– не стал спорить я.– Появляется откуда ни возьмись твой возок, останавливается близ места казни, из него выходишь ты и, держа в одной руке указ о помиловании, другой указываешь на Ляпунова и громко говоришь...
Разумеется, расписанный мною в стихах и красках процесс больше напоминал игру, но юный Федор загорелся сразу. Судя по мечтательному выражению его глаз, он уже представил, как оно все будет происходить, как он выйдет да как скажет...
– Разузнай к завтрему про ентого Ляпунова,– вернувшись из мира фантазий, деловито приказал он Чемоданову.– Когда да где, да упреди ката[74], дабы ежели заминка с моим приездом приключится, чтоб он не удумал за кнут хвататься, пущай ожидает.– И вновь обернулся ко мне.– Благодарствую, княж Феликс, за задумку веселую. Будет чем в пост позабавиться.
Я же говорю – для него это все игра. Ну и пускай. Главное – цели я своей добился, человека от позора выручил. А там кто знает – может, и вспомнит когда этот Ляпунов при случае, кому он обязан своей целой спиной и спасением от позора.
– А как же ты по нощным улицам-то, чрез рогатки? – вдруг вспомнил Федор.– Княж Дуглас-то в Кремле, у лекарей батюшкиных проживает, а тебе...
– Эва, спохватился,– проворчал Чемоданов,– я уж давно стрельцов позвал, кои битый час ожидают, покамест вы тута не того. Поди уж злобиться учали, потому давайте-ка поскорее.– И принялся настойчиво подталкивать нас с Квентином на выход.
Мы не сопротивлялись. Царевич, правда, покраснел от такой бесцеремонности дядьки и открыл было рот, чтоб попенять ему за столь хамское поведение. Но я с заговорщицким видом успел ему подмигнуть, и он, решив, что это начало какой-то очередной интересной игры, радостно закивав мне, так и не сказал ни слова.
Забегая чуточку вперед, скажу, что фамилию Ляпунова Федор не забыл и свою роль сыграл от и до, о чем он мне как-то потом рассказал во всех подробностях.
Вот и славно.
Что же до остатка сегодняшнего дня, то тут мне поведать особенно нечего. Была радостная встреча и довольная Марья Петровна, чьи щи я с трудом запихивал в себя в течение получаса. После царского угощения места в желудке почти не осталось, а обижать ключницу не хотелось.
Был и ликующий Алеха, который тут же принялся бравировать собственными подробностями пребывания за решеткой и выпытывать, как там сейчас.
А еще они наперебой рассказывали мне, сколько часов стояния на лютом морозе стоило им терпеливое ожидание Квентина, который куда-то запропал, да как их пару раз прогнали стрельцы, чувствительно съездив по спине Алехи тупым концом бердыша.
– Ей-богу, синяк во всю спину был,– уверял он.– Думал, позвоночник сломал. Но я ж за тебя в огонь и в воду, так что затаился, а потом зашел с другого бока и все равно своего добился.
– Он добился,– тут же ехидно перебила Марья Петровна и, отвесив легкий подзатыльник нахальному вралю, взяла нить дальнейшего рассказа в свои руки.– Ежели б я не догадалась, что стрельцы – тож люди, подарок завсегда примут, то и...
Было уже за полночь, когда я остановил их и вяло заметил, что они у меня оба молодцами и молодицами. И я за это выражаю им самую искреннюю признательность, а ненаглядной ключнице, в сообразительности которой никогда не сомневался,– нежный сыновний поцелуй, каковой незамедлительно влепил в ее разрумянившуюся щеку, после чего поплелся спать.
Да и на следующий день все произошло в точности, как уверял царевич, так что я без проблем и осложнений занял место учителя философии.
Ах да, в ближайшие дни я уговорил Квентина переехать ко мне. Дескать, вдвоем веселее. Он охотно согласился, не подозревая главной причины приглашения – чтобы шотландец все время был у меня на глазах, а то мало ли, начнет делиться своими «сокровенными тайнами» с кем ни попадя, и пиши пропало.
Слух о папаше-короле непременно долетит до Бориса Федоровича, и у царя вполне может возникнуть желание выдать за принца свою дочь Ксению, которая по причине неудачного выбора женихов – то веру отказываются поменять, то помирают не вовремя – и без того засиделась в девках выше крыши. Если мне не изменяет память, невесты ее возраста ныне на Руси и так уже считаются перестарками. Сколько лет ей точно, я понятия не имел, но, скорее всего, девахе исполнилось уже двадцать два, а то и двадцать три года.
Именно поэтому Борис Федорович, искренне желая дочери счастья, во-первых, всерьез воспримет Квентина как очередного потенциального жениха, неожиданно нарисовавшегося в Москве, решив, что король Яков прислал такого учителя для царевича Федора сознательно, с тонким намеком на возможную свадебку.
Разумеется, как неизбежное следствие этого он – это во-вторых – немедля ринется наводить справки о Квентине. И остается только гадать, насколько страшен будет гнев, вызванный разочарованием от очередной вытянутой пустышки, невесть какой по счету.
Вот осенью – дело другое. Раньше следующей весны направить в Англию послов не выйдет, а весной Борис уже скончается, и потому всем станет наплевать, королевского рода Квентин или незаконно примазывается к Стюартам. Да и учителя к тому времени станут не нужны, ибо ученика, то бишь царевича Федора, тоже к следующему лету в живых не будет. Так что осенью Дуглас проболтаться о своем «королевском» происхождении может – не страшно, а раньше...
Но что касается их смертей, то об этом я, проявив благоразумие, и вовсе не стал упоминать в разговоре с Дугласом. Вообще, такая штука, как видения, весьма и весьма скользкая тема, а молчаливость и умение хранить тайны, в том числе и чужие, даны не каждому, и я сильно сомневался, что Квентин входит в их число.
К тому же Дуглас и без того загорелся идеей сватовства к царевне, в чем, увы, я ему невольно поспособствовал, потому усугублять не стоит. Если рассказать ему о смерти царя и царевича, он непременно ринется предупреждать Годунова, а толку? Изменить историю все равно не получится, разве что, наоборот, поспособствует, чтоб все сбылось в точности как в учебниках.
А что – не исключено, что именно неблагоприятные новости о Квентине, как о самозванце-женихе (в случае если он решится посвататься к Ксении), которые привезут английские послы, окончательно загонят в могилу Годунова-старшего. Такое запросто может случиться.
Однако мои осторожные предупреждения оказались тщетными, и виной тому оказался... я сам.
Правда, невольно, сам того не желая, но тем не менее.
Глава 17
Эти горячие шотландские парни
А дело заключалось в элементарной ревности, которую Квентин начал испытывать ко мне спустя всего пару-тройку недель после того, как я приступил к обязанностям учителя царевича. Очень ему не понравилось, когда Федор к концу урока начинал нетерпеливо вздыхать и украдкой поглядывать на дверь, в проеме которой с минуты на минуту должен был появиться князь Феликс.
– Он совсем скучать на моих танцах! – возмущался Дуглас.– Раньше у него burnet two inextinguishable eyes..[75]
– По-русски, Квентин, по-русски,– скучающе напомнил я ему в очередной раз.
– Я так и сказывать,– вновь забывая про спряжение глаголов и бурно жестикулируя, продолжал Квентин.– Совсем недавно он более всего жаждать освоить бас-данс[76], павану, веселые гальярду, вольту или жигу[77] и пуще всего огорчаться, если не получалось верно поставить нога в эстампи[78], а ныне все не так. Я объяснять, из чего состоять эстампида и как важно понять, что каждый punctum[79] иметь две части с одинаковым началом, но разными завершениями, а он зевать, ничего не понять и все время смотреть на дверь, ибо ожидать твой приход. Я рассказывать про бранль простой, бранль двойной, бранль веселый, монтиранде и гавот[80], а он...
– Просто я новый для него человек,– возразил я.– Вспомни, что когда-то, причем не так уж и давно, ты тоже был для него новым, и, скорее всего, кто-то из прежних учителей точно так же возмущался, что из-за твоих эстампи и паван царевич совершенно не думает о дробях и прочих математических действиях. Вспомни-ка.
Квентин ненадолго задумался, затем его лицо озарилось радостной улыбкой.
– А ведь ты говорить правду,– довольно сообщил он.– Я припомнил, именно так оно и было.
– Ну слава богу,– вздохнул я, однако прошла неделя, и ревность вновь вспыхнула в Квентине, но на этот раз она касалась... царя.
– Я приметить, еще когда ты зайти к нему в самый первый раз вместе со мной. Он очень странно на тебя тогда смотреть,– пояснил Дуглас.
– А ты с каждым днем делаешь все меньше ошибок в окончаниях слов,– заметил я, пытаясь увильнуть от неизбежных очередных разборок, но все было тщетно.
– Он смотреть так, будто пытается представить тебя как будущий жених царевна,– тянул Квентин дальнейшую нить рассуждений, не реагируя на скупую похвалу.
Я мог бы поведать истинную причину странного взгляда Бориса. Скорее всего, дело заключалось в том самом моем внешнем сходстве с дядей Костей, с которым государь был хорошо знаком в пору своей юности и который даже предсказал ему еще тогда, более чем за четверть века, царский венец.
Нет, думается, он не пытался вспомнить, где и когда ему встречался человек, разительно похожий на нынешнего учителя царевича. Это как раз навряд ли – слишком цепка была его память, чтобы нужное имя не всплыло в его голове уже в первые минуты нашей встречи, когда царь вздрогнул, испуганно отпрянул, завидев меня, и даже пару раз с силой потер рукой левую сторону груди – не иначе как защемило сердце.
– Феликс,– медленно, чуть ли не по слогам произнес Борис Федорович, повторяя мое имя, и после паузы, пытливо поглядывая на меня, заметил: – Ведом мне был один иноземец, кой прозывался Константином. Славный был молодец, да несчастье с ним приключилось. Ох как я тогда по нем кручинился. А ты-то сам, запамятовал я, из каковских будешь?
– Из рода шотландских королей Мак-Альпинов,– отчеканил я, по-прежнему не желая раскрывать свое инкогнито и обнаруживать родство с дядей Костей.
Тем более помимо гордости тут уже добавилась дополнительная причина. Мне и так уже во время первой встречи царевич пришелся по сердцу, а если еще и отец его всю душу мне раскроет...
«Нет уж, парень,– твердо сказал я себе,– помни про мокрый асфальт и зарок не пускать никого в свое сердце, который ты сам себе дал. Хватит и одной боли, от которой ты чуть не сошел с ума. Световид, конечно, мудрый старец, но не все его советы мне подходят. А уж Годуновых как потенциальных покойников, которым осталось чуть больше года, к себе в душу пускать тем более нельзя – ни старшего, ни младшего».
И я, подстраховываясь, чтобы государь не спросил моего отчества, иначе обязательно насторожится, услышав про отца Константина, припомнил Тверь и рассказ Квентина. Конечно, далеко не все, но и пятой доли хватило, чтобы лихо закрутить сюжет насчет своих предков.
И пускай я и не говорил этого впрямую, но преподнес все так, что Борис Федорович, по всей видимости, решил, будто Малькольм был прадедом не Феликса, который мифический младший сын короля Дункана, а моим. А чтоб царь не начал ничего уточнять, пошел сыпать именами, включая родителей Дункана, и лишь увидев, как Годунов приуныл, перевел дух и вежливо заметил:
– Словом, о своих пращурах можно рассказывать долго, но не следует отвлекать венценосную особу от важных государственных дел.
– И то правда,– с некоторым облегчением вздохнул царь.– Да мне и без того понятно стало, ведь тот-то фряжского роду был, а ты, вишь, шкоцкого.– Разочарование на усталом лице Бориса Федоровича было написано столь явно, что мне на секундочку даже стало жаль этого измученного заботами человека.
Но только на секундочку.
– А ты, княж Феликс, часом, не православный? – неожиданно сменил тему Годунов.
– Увы, государь.– Я сокрушенно развел руками.
Хоть в этом я не солгал и не покривил душой. В моего отца советская школа вбила столь устойчивое неприятие любой религии, включая и само существование бога, что Алексей Юрьевич так и остался убежденным атеистом. Не уверовал он и потом, невзирая на новые веяния и пример партийной элиты, в одночасье перекрасившейся в демократов и резко возлюбившей Христа, что, впрочем, не мешало этим людям на практике ежедневно и со смаком плевать на все его десять заповедей.
Скрепя сердце мой отец допускал иконки на тумбочках больных, игнорировал крестики на их шеях, но освящать новую клинику, которую возглавил, отказался напрочь. Правда, в публичные дискуссии не вступал и вообще предпочитал помалкивать, когда речь заходила о святых, чудесах и прочей белиберде, как он называл все это, зато в беседах с домашними отводил душу сполна, особенно со мной как с «неокрепшим умом».
Я не стал, подобно отцу, воинствующим безбожником, однако благодаря именно разговорам с ним придерживался стойкого нейтралитета – бог, если и есть, сам по себе, а я сам по себе, что же до религии, то тут я и вовсе оставался убежденным скептиком. Впрочем, с подачи дяди Кости Екклесиаста-проповедника и еще кое-что из Ветхого Завета я прочитал. Да и евангелия, хотя и бегло, но разок прочел. Правда, чисто из спортивного интереса, не более – очень уж хотелось проверить, насколько справедлива папина критика.
Надо ли говорить, что с таким папой никто и не заикался о крещении сына, опасаясь скандала. Но предстать перед царем вовсе не крещеным мне не хотелось – тогда выходило, что я вообще не христианин, а черт знает что. Потому в своем ответе Борису Федоровичу я отделался неопределенным отрицанием, позволяющим считать, будто отношусь к протестантам. Удачно вставленная мною в речь якобы цитата из Кальвина, выбранного по причине практически полного отсутствия его приверженцев – из протестантов в Москве жили преимущественно лютеране,– позволяла даже более конкретно определить мою приверженность к швейцарскому течению.
– А окреститься в истинную веру ты бы не хотел? – осведомился царь, но вид у него был отчего-то раздосадованный.
– О том еще рано вести речь, государь,– вежливо уклонился я.– Мне так мыслится, что спустя полгода, возможно, у меня и возникнет подобное желание, а пока что надлежит присмотреться к обрядам, обычаям, постам и прочему. Да и вообще, философия – наука, коя требует не спешки, а рассудительности в словах, осмотрительности в делах и неторопливости в поведении. Хорош же я буду, если как учитель стану рассказывать твоему сыну, государь, обо всем этом, а на деле поступать совершенно иначе.
– Разумно,– согласился Борис Федорович.– А почто не враз объявился? Да и дом прикупил ажно за Белым городом – не далеко ли?
– Коль повелишь – нынче же перееду в тот, который укажешь,– выразил я готовность пойти навстречу любому капризу.– А что до появления, так тут одежка виновата. Поизносился в дороге, ехал ведь не прямиком, как Квентин, а через Данию и Речь Посполитую, вот и пообтрепался гардероб. Думал, встречу знакомцев, одолжусь у них, а уж тогда и предстану пред твоими очами.
На том первая аудиенция и закончилась. Точнее, закончились вопросы, а началось расписывание всяческих благ службы у царя.
Разумеется, Феликс Мак-Альпин, несмотря на королевскую кровь, струящуюся в его жилах, выразил бурный восторг и даже позволил себе – но только самую малость, чтоб, упаси бог, не обидеть и не оскорбить царственного собеседника,– выразить некоторое сомнение:
– Неужто правда все, о чем ты рассказываешь, государь?
– Истинная.– Борис Федорович в подтверждение своих слов даже перекрестился.– Более того, я еще не обо всем тебе поведал,– улыбнулся он.– На самом деле я перечислил лишь некоторые из благ, ибо их гораздо больше.
– Что ж, мудрому правителю и служить приятнее,– не остался я в долгу.
– Не рано ли меня в мудрецы вписал? – с недовольным видом усомнился моим словам царь и сурово предупредил: – Льстецов я не терплю, князь Мак-Альпин. Ступай себе, но вперед о том помни и ответствуй завсегда токмо одну лишь правду.
Кажется, я смазал первое благоприятное впечатление о себе, да еще в конце аудиенции. Нехорошо. Надо бы исправиться. Правду, говоришь? Ну-ну. Будет тебе правда.
– Я не льстец,– возразил я.– Как-то великий римский император Марк Аврелий, который вдобавок справедливо считался не токмо покровителем науки и философии, но и философом-стоиком, в своей мудрой книге «Размышления» сказал: «Не пошел я в общие школы, а учился дома у хороших учителей и понял, что на такие вещи надо тратиться не жалея». Но он понял это только после того, как сам прочувствовал разницу, то есть на собственном опыте, что свойственно умному человеку. Ты же, не скупясь на оплату лучших учителей для своего сына, постиг это без всякого опыта, а такое свойственно только мудрым. Только потому я тебя так и назвал. Что же до лести, то к оной я вовсе не приучен. Так воспитывал меня мой батюшка.
– Ну-у, ежели так, то... пущай будет,– протянул явно польщенный сравнением с римским императором Борис Федорович, и как ни сдерживал улыбку, все-таки она вынырнула у него с уголков губ.
Вот теперь можно и удалиться...
Как потом заметил услужливый подьячий в приказе Большого дворца, выписывая мне авансом жалованье за полугодие, не иначе как государь возлюбил князя Феликса Мак-Альпина пуще всех прочих.
Не знаю, что тут сыграло большую роль – мой язык и удачная концовка нашей первой встречи, или все-таки основное значение возымело мое сходство с дядей Костей. Но как бы то ни было, а по сути подьячий прав. Действительно возлюбил.
К примеру, если тот же старый географ, как я называл про себя француза с жутко сложной и почти не воспроизводимой на русский лад фамилией – впрочем, он не обижался на любые искажения и был весьма добродушен,– получал три блюда с царской кухни, да и Квентин тоже, то мне положили четыре.
Лошадей, в отличие от прочих учителей, даже самых заслуженных, имевших не больше трех, – Дуглас пока вообще обошелся парой,– мне было даровано целых четыре штуки. Из них две верховые и две для кареты. Помимо того новому учителю философии была дадена в кормление деревенька под названием Кологрив, числом в сорок три души, какой вообще не имел ни один из остальных учителей.
Переехать на новое подворье, коим Борис Федорович наделил меня в самой Москве, мне пришлось почти сразу. Прежде просторный терем принадлежал одному из Романовых, вроде бы Михаилу, хотя точно я не запомнил, да и не до того мне было – слишком много хлопот вызвал переезд. Добираться до Кремля оттуда было не в пример удобнее и гораздо быстрее.
Появились у меня и новые холопы, помимо тех, что достались от прежних хозяев, числом аж пять человек, причем рекомендовал их... Игнашка Косой.
Встретились мы с ним в следующий раз спустя целый месяц, да и то случайно, на Пожаре. Первым меня приметил Игнашка.
– А я не признал тебя поначалу, сосед-сиделец,– шепнул мне кто-то невидимый сзади.
Я обернулся и глазам не поверил. Выглядел амнистированный вор шикарно – никакого сравнения с недавним узником объезжей избы. Радостные объятия вскоре перешли в воспоминания о совместном сидении в общей камере, после чего я недолго думая предложил обмыть встречу.
– А есть на что? – осведомился Игнашка и, склонив голову набок, хитро уставился на меня.
Пока я растерянно хлопал себя по поясу и недоуменно разглядывал свежий срез на куске кожаного шнурка – остальная часть вместе с кошелем куда-то испарилась, Косой, улыбаясь, протянул мне исчезнувшее.
– То я тебе свое художество выказал,– пояснил он.– Опять жа дай, думаю, гляну, яко он в такой баской одежде со мной обойдется. Ежели нос кверху, мол, ведать тебя не ведаю, то кошель я бы себе оставил. Ну яко наказание али урок. А коль ты не чинясь со мной говорю завел, то и я, стало быть, по-людски. Хотя кошель тут так не носят – енто тебе свезло, что я первым попался.
Выяснилось, что заглянуть ко мне в гости он уже порывался не раз, тянуло его «переведаться»[81], но смущали мои высокие титлы, потому желание свое он старательно гнал прочь. Ну а раз так выпало, значит – судьба.
Вот с той встречи на Пожаре он нет-нет да и набегал в гости проведать меня. Уж больно лестно было ему иметь в знакомцах целого князя. Правда, визитами старался не злоупотреблять и чаще раза в неделю не появлялся.
По части выпивки он тоже не проявил себя великим охотником.
– Загулять, конечно, можно, да и нельзя русскому человеку без того – уж больно жизня тяжкая. Одначе добро тому пити, кто может хмель в себе скрыти, а у меня оно не больно-то выходит, нутро слабоватое,– пояснил он свою умеренность.– Да и не столь много в жизни радостев, чтоб вот так вот их все в одну кучу слепливать. Енто я к тому, что добрая говоря с умудренным человеком – одно, а гулянка – вовсе иное, потому и пущай они наособицу друг от дружки будут. Неча им вместях делать. Ты лучше мне вон что поведай – неужто и в самом деле...
Любознательным оказался мой тюремный сосед – все-то ему интересно. Но раз такая тяга к знаниям, надо удовлетворять, так что я охотно рассказывал обо всем, что только он ни спрашивал.
Как потом выяснилось, Игнашка еще и потому был в чести у преступного мира, что обладал очень редкой специализацией. Он был наводчиком, или, как в кругу «сурьезного народца» называли эту профессию, дознатчиком.
– Украсть – пустяшное дело. Тута головой думать не надобно, руки трудятся, а ты сам знай себе поплевывай да посвистывай,– объяснял он мне.– Оно и дурень могет. Я-ста, на таковское потому и не гораздый, что уж больно оно все просто. Мне бы чаво похитрее измыслить, дабы закавыка имелась.
– А мой кошель на Пожаре? – напомнил я.
– Э-э-э,– презрительно протянул он.– То я так, яко дите, позабавился слегка, вот и все. А вот выведать, где что у кого лежит,– иное. Тута не десяток, сто потов прольешь, прежде чем вникнешь. Потому и ценят меня сурьезные людишки.– Вздрогнул, испуганно посмотрел на меня и торопливо заметил: – Тока ты не помысли, будто я и к тебе в терем за ентим хожу. Тута я и на икону перекрещусь – полюбился ты мне, хоша и князь, вот и все. Опять же выручил ты меня дважды – с бугаями теми, кои на меня тож поглядывали, да с прощением царевича. Однова я ужо расплатился, но ишшо разок за мной – о том я памятаю.
– Забудь,– махнул я рукой.
– Ни-ни, никак не можно,– не соглашался Игнашка.– У нас, середь сурьезного народца, такое строго.
К хлопотавшей в просторном терему Марье Петровне Игнашка относился очень вежливо, сразу почуяв в ней не простую ключницу, а нечто большее, и называл ее не иначе как «баушка». Получалось певуче и красиво.
– Тока что ж она у тебя одна? – осведомился он как-то у меня.– Я тако мыслю, что клюшнице надзор надобно держать за прочими заместо хозяйки, а она все сама да сама. Опять же и лета у ей немалые – не дело оно.
– Так вроде бы есть те, кто от прежних хозяев остались. И стряпуха, и конюх, и истопник,– возразил я.– И эта, как ее, сенная девка[82].
– И сколь всего? – усмехался он.
– Человек пять, если считать саму Петровну.