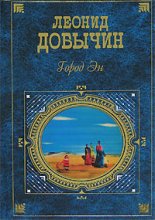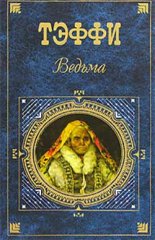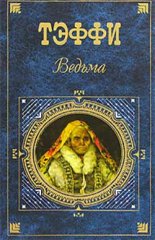Почти последняя любовь Говоруха Ирина

– Привычка…
Она видела, как он расхаживает по своей большой квартире с чашкой в руке. На плите булькает овсянка, по телевизору новости, а в ноутбуке почта. Вот он гладит рубашку. Выбирает галстук. Звонит телефон. Нет, это звонят в дверь. Сын…
Они сидели в халатах и смотрели на туман. Город медленно приходил в себя после ночи.
Кряхтя, проехал трамвай. Он пил сок. Она кофе.
Чего-то испугавшись, взлетели голуби…Я не слышу, как дышит шафран.
И не знаю, дышу ли я тоже.
Почему-то небелый туман
У меня оседает на коже.
Пахнет вечером и сквозняком.
Маргариткам уже не до смеха.
Я несу тебе чай с молоком,
А ты выключил жизнь и уехал.
В саду было холодно. Сирень надела мохеровую кофту. У пиона понизилось давление. Тюльпаны, в разноцветных гольфах, молитвенно сложили лепестки.
Он уехал… Вчера… А она не спросила куда…
Май ходил в плаще с длинными рукавами. Она лежала на шезлонге, укрытая по нос одеялом и писала ему письмо.
– Не пиши. Лучше говори.
– А разве так можно?
– Со мной можно все…
Она огляделась по сторонам. Сад, с шарфом на шее, пил бульон. Пустые холодные лавочки. Цветы прикрывали уши руками. Боялись отита. Она отчетливо слышала его голос со всех сторон. Его голосом говорила облетевшая вишня, давно не крашеная калитка и даже удивленная герань.
Дождь напротив ел леденец на палочке. У него была еще полная коробка петушков. Значит, есть время…
Вышла мама, с чашкой сладкого какао. Сверху для вкуса она посыпала тертый шоколад… 16:00… Солнце закрыло лицо руками.
– Может, иди в дом? Замерзнешь.
– Нет…
Покраснели пальцы. Северный ветер отдавал морозом. У вишни покрылась мурашками кожа. Тюльпан стеснялся плакать. Она пила горячее какао, а хотелось водки.
Май выбился из сил. Он разносил пледы и свитера цветам.
– Почему ты так тяжело дышишь?
– Я уже 12 часов за рулем.
– Остановись. Нужно походить.
– Идет дождь…
Она посмотрела напротив. Ворох оберток от леденцов. Дождя нигде не было.
– Сколько градусов?
– +5. Иди, родная. У тебя уже синие губы.
– Еще чуть-чуть.
У гиацинтов поднялась температура. Май разговаривал с соседкой. Просил у нее одолжить одеял.
– Иди, солнышко.
– Почему?
– Я не могу ехать. Ты все время стоишь у меня перед глазами.
А про себя добавил: как когда-то, сотни лет назад, круглосуточно стояла напротив самая первая, самая израненная любовь…
Температура падала. Ночью будет 0. Изо рта шел пар. У пиона от низкого давления разболелась голова. Май помчался к ним с чашкой кофе. У сирени в рукавах маялись обмороженные цветы…
1967 год. Конец июля. Киев – Минск
Сколько в поезде едет тревог…
Сколько радости едет и горя.
Бесконечность железных дорог
Протянулась от моря до моря.
Но у каждого где-то в пути
Есть свое станционное зданье
Где ты жил, где ты должен сойти,
Где ты с детством назначил свиданье.
Сколько зим не бывал, сколько лет.
А вернешься к родному порогу.
Дайте в юность обратный билет.
Я давно заплатил за дорогу.
С. Островой
На киевский вокзал напал мощный летний ливень. Теплая вода, фыркая, летела вниз, надувая в лужах пузыри. Взбивая по краям пену мутно-белого цвета. А потом, спустя время, под ногами валялись куски радуги. И еще долго и весело прыгали капли. Щелкали по носу. Целились прямо за шиворот.
С третьего перрона в 18:45 отправлялся белорусский поезд «Киев – Минск». Такой же, как и все остальные: безликий, длинный и зеленый. Георгий, удобно устроившись в купе на второй полке, смотрел в окно. Его дождь не задел. На часах было полседьмого.
Он был горд. Ехал сам поступать в мединститут. Чтобы стать доктором. Одним из лучших. У него был чемоданчик со сменным бельем, белая рубашка, спортивная форма и бутылка сладкого лимонада «Буратино».
Родители остались дома. Ехать, провожать – просто стыдно. Деньги в коричневом твердом конверте – на дне чемодана. И адрес родственников, у которых он остановится, – четким маминым почерком. В доме под шпилем на углу улиц Коммунистической и Красной. В комплексе домов для офицерских семей.
За окном лежал мир, как на одной огромной ладони. С твердыми, задавненными мозолями. Ладонь пахла ячменем, гречихой и прибитой асфальтной пылью. А еще суетой наваленных в кучу вещей. Постоянно мерзли отсыревшие стены навесов, несмотря на экватор лета. Слева дымил паровоз со стекающим по бокам темным маслом, которое издали напоминало кровь. И ветер сушил перрон, некрасиво меняясь в лице.
Еще с обеда уставшие составы отдыхали на соседних путях. Тащили телеги носильщики, словно тяжеленный крест. У них были скучные, ничего не ждущие от жизни лица. Георгий смотрел на них глазами, которым вот-вот должно открыться откровение. Тайна… Он, окончивший школу, еще ни разу не любивший, ехал становиться взрослым. И ожидал от этого путешествия больших и увлекательных открытий.
Он лежал в теплом животе купе на твердой полке. Слишком узкой и не по размеру короткой. И вдруг какое-то движение: мягкое, очень женственное – заставило его подобраться. Движение, от которого немеют кончики пальцев и покалывает иголкой в височных долях.
На зябком перроне стояла девушка, одетая в короткое зеленое платье. Издали – цвет напоминал холодную садовую мяту. На ногах тонкие шестисантиметровые шпильки.
Она была такая ладная, как Венера с картины Боттичелли. Но откуда знакомы эти черные волосы? Он точно знал, что они тяжелые, как гири. И чуть-чуть пахнут яблочным уксусом и шалфеем. И это движение плеч без намека на малейшую ветреность… Он уже где– то видел эти серьезные глаза отличницы. Да и не только видел. Он точно знал ее голос, взгляд и даже то, что она любит мармелад. Георгий потер виски. Вспоминал, не отрывая глаз от стекла. Исцарапанного и очень толстого. Обветренного в бесконечных дорогах.
Ее провожали родители. Папа бодрился, поддерживая чемодан. Мама из последних сил заглатывала внутрь себя слезы. Их толкали люди с мокрыми по колено брюками. Они бежали по перрону, зажимая билеты в руках. Многие в темно-синих плащах «болонья». Почему-то плащи гордо именовали летними пальто. А с двух сторон разлеглись прозрачные стеклянные лужи. И голуби, жадно лакающие это стекло.
Вдруг поезд зашевелился, и все ускоренно бросились целоваться. Вагоны нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Из-под колес валил дым. Георгий увидел, что девушка торопливо заходит именно в его вагон. И ему стало очень жарко. А потом в купе появилось красное лицо отца. Он недоверчиво и зло посмотрел на Георгия, пытаясь глазами сказать что-то очень резкое. Предупредить… Он уже и так все знал…
За ним робко, тенью, проскользнула она. В купе запахло цветами. Села на краешек полки и вжалась в тонкую фанерную стенку… Замерла. Ей было неловко с этим молодым человеком. Совсем чужим и таким модным. Ей показалось, что слишком самоуверенным.
Поезд все копошился и никак не мог оторваться. Родители, стоя под окном, волновались, что-то говорили, показывая на пальцах. Ничего не было слышно. А потом перрон закачался, отъехав как-то боком. Мокрый вокзал исчез совсем, и потянулись гаражи, бараки, стоянки. Лица родителей потеряли свою четкость. И такая тоска ввалилась в прохладное купе. Села на шею, пробуждая астматическое дыхание. Глаза стали тяжелыми, полными и почти уже переливались через край…
Георгий с ходу начал знакомиться. Он протянул ей руку и представился.
– Аля, – ответила она.
Редкое и очень знакомое имя…
– Ты едешь учиться?
– Да, поступаю в аграрный…
– А я в мединститут…
Аля подвинула корзинку, сняла с нее бязевую салфетку с вышитыми анютиными глазками, и запахло вкусной едой.
– Хочешь есть?
Георгий есть хотел всегда. Она достала жареную курицу, домашний хлеб, соль в спичечном коробке и вареные яйца, завернутые в газету. Георгий пришел с теплым лимонадом и бумажным пакетом, в котором пахли пирожки. С капустой и печенкой. Испеченные мамой утром.
Аля села напротив и стеснялась что-то съесть. Ее отсыревшее после дождя платье натянулось на груди, показывая замерзшие четкие сосочки. Полная на редкость грудь и твердые бугорки Георгия парализовали. Чтобы отвлечься, он стал с аппетитом жевать и рассказывать о том, что часто менял школы, так как отец военный. Только бы не смотреть, как на вдохе грудь, словно живая, плавно двигается под тканью…
Аля ничего не замечала и заинтересованно слушала.
– У меня тоже папа военный. До второго класса мы жили в закрытом городке, где зима не кончается никогда.
– Постой, и я там жил. Одноэтажная длинная школа с зеленой крышей? Учительница с усами и в крепдешиновом костюме круглый год?…
И тут он все понял. Самая маленькая по росту девочка, самая аккуратная в классе, с накрахмаленным передником, вязанными на коклюшках манжетами. С ней все хотели сидеть. А учительница посадила его. И они дружили трогательной детской дружбой. По очереди макали перья в чернильницу-непроливайку. Играли на перемене в крестики-нолики. Он дрался за ее портфель с мальчишками, списывал и даже танцевал на новогоднем утреннике. В глупом костюме Петрушки. Он помнил ее тугие косички и то, что они любили столовский пышный омлет-суфле, а на десерт – песочное печенье-звездочку с джемом посредине. А еще Аля обожала мармелад. Приносила его в желтой упаковочной бумаге и сперва слизывала сахар. Только потом откусывала по крохотному кусочку.
– Аль, ты до сих пор ешь свой мармелад или уже подостыла?
Аля впервые ненатужно засмеялась.
– Да… Хочешь, у меня есть немного к чаю?
…Опять брызнул дождь. Тонкими струйками, как из шприца. Стало темно и уютно. Тут же включили неуверенный свет. Жидкий, как чай.
Поезд ни на что не обращал внимания. Четко следовал своим маршрутом. И ему не было никакого дела, что эти двое едут им впервые.
Он давно выехал из мокрого города и сейчас летел через поле, на котором доживала сухая, бурого цвета, кукуруза, подсевшая в росте, как после стирки в неверном режиме. И рыжие подсолнухи с поджаренными семечками внутри. С поля возвращались люди в брезентовых дождевиках. А они пили чай в ажурных подстаканниках и говорили…
– Гош, а помнишь, как на грамматике ты чистил мне под партой вареного рака? А я не решалась его есть. И все ждала перемены… А еще пугал девочек живыми холодными лягушками…
– А ты мне внушала, что на руках теперь вырастут бородавки…
Сон кто-то сглазил. За окном пролетали звезды, словно в детском калейдоскопе. И луна то выныривала из-за дерева, то старательно пряталась за невзрачными станциями. Георгий снял тяжеленный матрас и расстелил его для Али. А потом заправил постель. На нее никто так и не лег. Они просидели друг против друга на заправленных вагонных простынях всю ночь. Пока поезд пыхтел, тужился и отряхивал с плеч воду, они рождали свою первую любовь. Невесомую, как фламандское кружево. Любовь, которую страшно тронуть рукой. О которой невозможно говорить, чтобы не запылить дыханием. Которую можно поцеловать, только когда наберешь смелости полные легкие.
Под утро у Али побледнели щеки. У Георгия засверкали глаза адреналиновым блеском.
А за окном спал пригород, подложив под голову ладошку. По-летнему сочный и яркий. С привкусом малинового молока. И было понятно, что эта волшебная ночь закончилась. И сейчас минский вокзал проснется, умоется, почистит зубы и объявит прибытие. Заполнится шумными пассажирами, засуетится… А дальше у них разные пути. Он поедет в центр к тетке, в ее одинокую после смерти мужа квартиру. Аля – на Чижовку, в общежитие. На окраину города.
…Скрипели стены в деревянном вагоне, колеса осматривали свежие мозоли, и Георгий, держа в руках Алины сумки, наконец-то решился.
– Аль, а можно вечером я к тебе приеду?……Он часто приезжал и встречал ее заплаканную до синевы. Она болезненно скучала по дому. И тогда он ее вез в Александровский сквер, где при входе часовня Александра Невского. Или водил в Городской театр, в котором все время достраивались этажи. Или в парк Горького, где переростком торчало чертово колесо…
…Нинка, как раненная, выла. Одна на весь такой же одинокий дом. Соседи снизу стояли под окнами. Клеили изолентой дыры в оконной раме. Сверху нависали захламленные балконы с подшивками старых газет, ржавыми санками и тонкими лыжными палками. С подвешенными, для проветривания, зимними шубами и пальто. По коридору катался чей-то ребенок на трехколесном велосипеде. И громко ругались на кухне за подсолнечное масло.
– Это мой бидончик, видишь, крышка изогнута.
– Да нет же, твой был пуст…
Два совершенно одинаковых алюминиевых, обмасленных бидона стояли на столе.
А Нинка, уткнувшись в подушку, кусала ее зубами. На столе в банках стояли странные отвары. Плотно упакованный лавровый лист и что-то похожее на полынь. Она в перерывах между рыданиями пила поочередно то из одной, то из другой. Вытирала рот, от горечи становившийся косым. Заедала сухим кисельным брикетом.
Ее бросил очередной парень. Только в этот раз все в тысячу раз хуже. В этот раз она беременна. А он посмотрел пустым взглядом и вонючим ртом, со съеденным передним зубом, сказал: «Не от меня». А Нинка не стала напоминать, как он подолом ее юбки обтирал окровавленный член… И как при этом ее бил озноб…
В комнату робко постучали. Она, сидя с поджатыми под грудь ногами, прохрипела: «Войдите». На пороге стояла перепуганная девушка и с ужасом смотрела на давно не крашеный пол и запутанную постель. И на девушку, застывшую в мученической позе. Под потолком была натянута веревка, на которой болтались два полотняных полотенца и заштопанные чулки.
Нинка, оторвавшись от разодранной подушки, спустила ноги в больничные тапки, одернула платье и кисло сказала:
– А, ты новенькая? Че стоишь, входи.
И повернулась к стене.
Аля переступила облупленный порог, поставила чемодан и остановилась.
– Не стой, как на выданье. Вот твоя кровать, тумбочка, полшкафа. Да хоть и весь шкаф, мне все равно нечего вешать.
Нинка оторвалась от своей подушки и прокричала, как для глухой. У нее не было сил на гостеприимство.
В углу стояла сетчатая кровать. Сверху матрас с бурыми пятнами. На нем полулежал таракан с длинными шевелящимися усами. Окно, заляпанное краской. Практически пустые стены. Только пару плакатов из «Советского экрана». Да худая пластмассовая балерина на этажерке, с Дулевского завода. Да еще дешевая ваза с подкрашенной сухой травой.
Аля присела на краешек и тоже заплакала. Она вспомнила маму и их уютную квартиру, взбитые подушки друг на друге, прикрытые тюлью. Обеденный сервиз «Мадонна», хранившийся в серванте, хрустальные дефицитные рюмки за стеклом. Чистые простыни, пахнущие лавандой. Мама всегда в постель закладывала травы. И трехъярусную люстру с изящными висюльками…
– Да ладно тебе, не реви. Привыкнешь.
Нинка посмотрела на Алю точно таким же запухшим лицом. У нее были русые волосы, мокрые на висках, курносый нос и море веснушек.
– Я уже третий год здесь живу и ничего.
Потом подошла к тумбочке, пошарила в ней, нашла кусок засушенного хлеба и стала грызть.
Аля начала распаковывать чемодан. Нинка, как завороженная, смотрела, как из него появляются вафельные белые полотенца, туфли на каблучке-стопочке, конфеты «Золотой ключик».
– Угощайся, – Аля протянула горсть ирисок в желтых бумажках.
Нинке так хотелось сладкого, что рот тут же наполнился густой слюной. Она размотала, сунула ее в рот и в животе громко икнуло. А потом вспомнила, что там сидит ее заморыш, который никогда не вырастет. И это он так по-звериному хочет есть, не зная, что жить ему осталось совсем чуть-чуть. Сидит там, сосет свой пальчик, бултыхаясь в теплом животе, а ей все решать в одиночку…
В пакете с конфетами были еще и белые карамельки «Снежок» с мятной отдушкой. Аля их никогда не ела. Ей нравились шоколадные «Столичные» или «Школьные». А Нинка с жадностью стала поглощать то, что у них месяцами залеживалось в вазочке. Разглаживала фантики, любовалась и складывала их друг к дружке. И даже на миг забыла о своем горе. Аля же разбирала вещи, стелила белье, мылась посреди комнаты в тазике и все посматривала на часы.
– Что ты на них уставилась? Каждые пять минут у тебя скашивается голова. Они отстают.
Вдруг дверь зашлась от стука и в щель прокричали:
– Семенова, тебя ожидают.
Аля покраснела. Чуть не пролила мыльную воду. Метнулась к окну и возбужденно засмеялась. Вытащила из чемодана бусы из колотого граната…Георгий стоял на ступеньках в белой нейлоновой рубашке и в тесных брюках-дудочках. В его зачесанных кверху волосах копошился летний ветер. В руках стеснялись васильки, купленные у бабки на троллейбусной остановке за десять копеек. Он был чисто выбрит и надушен. Он пришел на свидание, крепко сжимая в кулаке волнение.
Весь день он думал о ней. Когда подавал документы, слушал теткины новости и переписывал расписание экзаменов. Он ждал назначенного времени, не отрывая взгляд от часов «Ракета», подаренных отцом на семнадцатилетие. Аля стояла перед ним всюду, с влажными глазами, прозрачной кожей и запахом мыла. И сейчас он увидит ее: взволнованную, робкую, почти любимую…
Аля, вылетев вихрем, остановилась.
– Привет. Долго ждешь? У нас часы неправильно идут.
Ее голос, от нерва, звучал в чужой тональности. На пару тонов выше.
У Георгия кровь хлынула в пах и мелко затряслась.
– Нет, недолго. Как ты устроилась? Познакомилась с соседями?
Аля грустно кивнула, а он этого не заметил. Или просто не стал расспрашивать.
– Когда у тебя экзамены, уже узнавала?
Аля воодушевилась, описывая институт, деканат, аудитории.
– Я, знаешь, сразу-сразу побежала в институт. Вот просто с вокзала. Даже домой не заходила. А там так холодно, замерзла немножко… А декан факультета поздоровался со мной за руку, представляешь?…
А он с восторгом принялся рассказывать о медицинских кабинетах и кафедрах…
Так они и шли длинной аллеей, прилегшей на бок в вечернем закате. Наконец-то притихла и успокоилась летняя жара. Тонкие тополя стремительно теряли в весе. И острая трава, как резанная ножницами. Зелень была изумрудного цвета, и на ее фоне Аля в белом платье и белых выпускных туфельках выглядела девственно. А он, на голову выше, с влюбленным румянцем на щеках, был немного смущен. Их руки в движении иногда соприкасались. И от этого становилось не по себе. Неловко. Приятно. А потом он решился и взял ее ладонь в свою. И сердце остановилось, прислушиваясь к новым ощущениям, а потом полетело, прыгая по телу, как мяч…
У бабки-мороженщицы он купил пломбир в вафельном стаканчике под тематическим названием «Лето». Они сидели на лавочке и придерживали подтекающее мороженое, слизывая его то со дна, то с боку. Потом стреляли в тире, и он даже выиграл неудачную деревянную игрушку.
У общежития долго не могли расстаться…
– Аль, завтра не смогу – консультация. А вот послезавтра – в пять, хорошо?
Аля, не понимая – хорошо или плохо, кивала. Пыталась осознать себя. Принять эту новую волнующую точку отсчета. Луна катилась по небу с выпученными глазами, как будто была не в себе. И звонили колокола в церкви Святого Георгия……Они встречались почти каждый день. Днем готовились к экзаменам, утром блестяще их сдавали, а вечером жили только друг для друга. В парке имени Горького брали лодку напрокат. Он садился за весла, а она смотрела в его серые, с бледной голубизной, глаза. За спиной падало солнце прямо в воду, поднимая ворох брызг. Он стеснялся и чуть краснел.
Потом на горизонте блеснуло первое золото, экзамены остались позади, и дождливая осень оседлала облака. Как необъезженную лошадь. Она повсюду оставляла свои мокрые круглые пятна. На лавочках, детских горках, будке регулировщика…
Когда начался театральный сезон, Георгий купил билеты в оперный театр на «Ивана Сусанина». В ложе бельэтажа, в мягкой темноте, он не выпускал ее маленьких ладошек. А Аля слушала увертюру и скользила по его пальцам сверху вниз.
Он водил ее в кинотеатр «Победа» по улице Преображенской, где показывали кино в летнем зале. Аж по ноябрь. Шел болгарский фильм «Бегущая по волнам», смысл которого они так и не поняли. Она мерзла, и Георгий обнимал ее изо всех сил, мучая свое отзывчивое тело. Справа глядел фонтан с гипсовыми лягушками по кругу, а в кармане, в жестяной коробке, грохотали леденцы-монпансье.
По выходным они смотрели на центральном стадионе соревнования по волейболу или ехали на проспект Победителей на традиционную осеннюю ярмарку. Бродили между рядами речной и прудовой рыбы, любовались белым амуром и кобальтовой клюквой. Покупали домашнюю выпечку у пышных женщин в белых фартуках и слушали многочисленные фольклорные коллективы, которые пели на смешном языке. Аля держала его под руку и умирала от нежности. Запрокидывала голову, чтобы еще раз на него посмотреть. Она не могла им налюбоваться…1 сентября 1967 года
…Утро началось звонким, под железным колпаком, будильником. Гоша скосил на него недовольный взгляд: 6:30.
На кухне свистел чайник, припадочно гудел однорукий «ЗИЛ» с коллекцией лекарств на полке слева и пахло мясным бульоном. Тетка считала, что день нужно начинать со свежего супа. Поэтому за мясом ходила на рынок каждую неделю с безразмерной авоськой.
Эхо традиционной радиозарядки просачивалось сквозь дверную щель. Трехпрограммный радиоприемник «Маяк-202» вот-вот должен был объявить пионерскую передачу. И точно. Зазвучал горн, и бодрый мужской голос сказал неизменную фразу.
– Здравствуйте, ребята! Слушайте «Пионерскую зорьку»!
Георгий откинул тонкое одеяло и собрался в одних трусах идти умываться. Но вовремя вернулся за шортами. Трусы от здоровой эрекции оттопыривались основательно, создавая бугры. Поэтому сразу же стал под привычный холодный душ. И тер себя до тех пор, пока тетка не стала стучать поварешкой в дверь и страшным голосом обещать, что если и дальше так пойдет – он непременно простудится. А потом случится пневмония.
За завтраком он слушал новости и с аппетитом ел. К тарелке супа приложил почти буханку хлеба. А потом его запил приторно сладким чаем с халвой.
У него было приподнятое настроение, ведь сегодня начало учебы. У них по расписанию торжественная линейка, а потом анатомия человека и история СССР. На диване уже лежал накрахмаленный и отутюженный белый халат. Его любимая одежда на ближайшие сорок лет. Рядом неприметная шапочка. После пар он оформится в библиотеку и потом поедет к Але. От воспоминания о ней у него покраснела шея и даже спина…
На улице пахло праздником. Утро с осенней хрипотцой в голосе было задумчивым. С чуть замедленными, но очень выверенными жестами. Девочки в белых передниках и коротких платьицах несли цветы. Мальчишки тоже несли, но упираясь. Малышня, не доросшая до школы, смотрела на них с завистью и прыгала в резинку. У них как раз была вторая высота и совсем несложные «бантики». Из-под коротких платьиц проглядывали трусики. Мамы с колясками-домиками сидели на лавочках и читали журнал «Здоровье».
Георгий шел через парк залихватской пружинистой походкой. У него в руках был коричневый кожаный портфель, привезенный отцом из-за границы. В него с утра тетка пыталась запихнуть два краснощеких яблока, пока он не прекратил это безобразие. Он шел и знал, что идет правильной дорогой…
…Наступили учебные будни. Все были в восторге от пятидневки с двумя выходными. Ее ввели еще с марта, но в нагрузку добавили черные субботы…
Каждый вечер он просиживал в анатомичке, где под залог студенческого билета выдавали кости и череп. Он сидел с атласом по анатомии и пытался найти изученные возвышения, бугорки, отверстия и каналы. Через месяц начались крупные суставы и связки. Они вылавливали в бачке части конечностей, то есть кости со связками, и долго на них смотрели. Постепенно он привык к анатомическим препаратам и к запаху формалина.
Георгий таскал с собой учебник по анатомии Привеса, а по физиологии Татаринова. Да еще три тома атласа Синельникова. Частенько со всем этим богатством он приезжал к Але. Читал, когда ехал в троллейбусе № 16, когда ждал ее, сидя на пне, царапая единственные брюки, когда возвращался, стараясь не беспокоить дремлющий город. Иногда, проснувшись в три часа ночи, тетка заставала его согнутым за столом. Положив голову прямо на височную кость, он крепко спал.
Иногда ему приходилось пропускать такое желанное свидание. Время сжималось, и в сутках не хватало часов. И не хватало места для конспектов. И тогда он бежал к телефону-автомату на перекрестке улицы Козлова и Ленинского проспекта, чтобы предупредить Алю. Но там всегда стояла очередь.
Он грел в руке двухкопеечную монету, посматривая, как киоск «Союзпечать» бойко торгует газетами. Как какой-то мужичок стреляет у прохожих сигарету. Очень хотелось пить, но в кармане редко было больше 5 копеек. Этого хватало на маленький стакан кваса, который ему был ни к чему. Пол-литровый стоял 6 коп. А литр – целых 12.
Круглые, с толстым стеклом, часы на фонарном столбе показывали уже 17:15. Он нервничал. Ведь Аля ждет его с пяти часов, а он сегодня ну просто никак. Завтра нужно сдать реферат…
Крупная дама в будке не спеша записывала рецепт бифштексов из баклажанов. Она кричала во все горло:
– Мила, не поняла, повтори, как резать сухой хлеб? Сколько-сколько баклажанов? Два крупных?
Вся очередь волновалась, и он в самом хвосте. А она дотошно, не торопясь, обсуждала синенькие.
В 17:30 Георгий вернулся в анатомичку… Аля выглядывала его на остановке до самых густых черничных сумерек. А потом, опустив голову, поникшая, поплелась домой…Георгий не предполагал, что можно столько учиться и практически не спать. Рассвет начинался в пять, а то и в четыре. Плохо давалась латынь. Он читал вечером, а потом тот же материал – утром. И каждый раз, к своему удивлению, в прочитанном вчера находил что-то новенькое.
Первая пара стартовала в 8:00. В коридоре ходили красные, с чем-то лопнувшим, глаза. Все зубрили, обступив подоконник, подпирая стены, понимая, что в голове уже ничего не держится и превращается в сплошной винегрет. Только Георгий просто стоял. Спокойно ожидая начало занятия. Он терпеть не мог догонять. Он все выучил ночью.
Через две недели преподаватели начали с ним здороваться за руку, а одногруппники считали его гением.
У Витьки, его киевского друга, все было по-другому. Он учился так себе, спал сколько хотел и все время шутил. Рядом с университетом был овощной магазин. Он пугал в нем продавцов, представляясь инспектором СЭС. Когда его там выучили, стал ходить в хлебный. Однажды он ехал в автобусе и, когда нужно было выходить, заметил бахилы на своих ботинках. Он шел так от самой больницы……Возвращаясь домой, Гоша частенько заставал в квартире запах вываренного белья. На плите стояло специальное обсмаленное ведро, в котором варились простыни и наволочки. В мойке валялась ржавая терка со стружкой стирального мыла. Заранее был приготовлен крахмал из картошки либо мутная, клейкая вода после варки макарон. И тетка, в драных спортивных штанах, из которых давно вырос сын, постоянно мыла полы.
У нее на подоконнике всегда что-то настаивалось. Грецкие орехи, календула, ромашка. На всех банках были этикетки с датой. Потому что, к примеру, огуречная настойка настаивается семь дней. Потом огурцы достаются, режутся на мелкие кусочки, отправляются обратно в банку еще на семь суток. И только тогда настойка готова.
Однажды она увидела у Георгия маленький прыщик. Тут же пришла со своей болтушкой… Она свято верила, что конский навоз лечит суставы, лучше всяких докторов, что мочой нужно укутывать больное горло на ночь, а угри смазывать только менструальной кровью. По ее мнению, получалось, что девушки, которые выходят рано замуж, преждевременно стареют и тогда не пахнут, как должны, парным молоком и свежими яблоками. И что волосы нужно мыть не чаще, чем раз в 8-10 дней. Поэтому приходила в ужас от его ежедневного мытья.
– Гоша, волосы моются в воскресенье, перед понедельником. А к пятнице мыть не положено, потому что так они быстрее салятся……И все-таки, как же было здорово жить! Наблюдать, как по утрам в окна лезет рассвет, трогая подоконник своими прохладными чистыми вымытыми руками. Смотреть, как разноцветные голуби с легкой сединой взлетают с крыш и купаются в синем, словно проточном, небе. А богатый красками сентябрь с любовью развешивает по городу крупную рябину. Наверное, к холодной зиме.
Радостно было вскакивать, жмуриться и отжиматься от пола. Радостно было бежать на лекции, слушать профессора Тихонова и понимать все, о чем он говорит. Радостно было слышать за окном бесцеремонный свисток молочницы с флягами. Во дворе шустро выстраивалась очередь с бидончиками. Тетка высовывала голову из окна и звучным голосом кричала: «Я первая»! Она даже еду готовила ухом к окну. А то пропустишь, и ищи-свищи ее в соседних дворах.
Волшебно было любить впервые… Волноваться, трогать острую косточку на запястье, обнимать… Рубашка от чувств плавилась, и он, голой, чуть волосатой грудью, чувствовал тепло и тяжесть ее полной груди, морщинистую кожу соска… И животик, чуть выпуклый и мягкий, и запах, поднимающийся из самой глубины…– Завтра воскресенье, может, хватит смотреть в учебники, так и мигрень можно схватить, съездил бы ты за город, в Мирский замок. Осень такая тихая…
Тетка пекла орешки в тяжелой чугунной сковородке. Он выхватывал их из-под рук, макал в сгущенку, сбитую с маслом, и бросал в рот. На столе лежала закапанная жиром тетрадь с рецептами, рядом тесто, желтое от домашних яиц.
– А где этот замок, далеко?
– Нет. Полтора часа езды с автовокзала Восточный. Садишься по направлению до Новогрудок или Кареличи. Все они останавливаются в поселке Мир. Погуляешь там, подышишь и обратно.
Гоша стоял у открытой форточки. На асфальте были криво нарисованы классики. За столом яростно хлопали в домино, забивая козла, и сосед еще с обеда ковырялся в мопеде. Тетка замусоленной прихваткой держала ручку и рассказывала…
– Когда-то возле замка был экзотический сад. Цвели там цитрусовые, рос инжир, самшит, кипарис, красное и лавровое дерево. Сад называли «Итальянским». С правой стороны от замка. А потом новый владелец Николай Святополк Мирский приказал вырубить его и на этом месте выкопать пруд. Через время ему пришло видение. Он увидел мать одного из погибших лесорубов во время вырубки, которая прокляла пруд и пообещала, что теперь здесь каждый год будет по утопленнику. Так и случилось. Вскоре утонула двенадцатилетняя княгиня Сонечка, а потом найден на берегу мертвый и сам Николай. С тех пор тонут там люди. Так что ты, Гош, не подходи к пруду. Издали смотри.
Георгий загорелся замком, его 25-метровыми башнями и стенами в добрых три метра. Завтра они с Алей встречаются в 10:00. А почему бы и не поехать?Они впервые провели целый день вместе. С самого только зачатого утра. Ходили тропой Святополка, где сосны никогда не заканчивались, сидели на древе Любви, на которое садятся пары с желанием пожениться. А дерево, словно специально разрослось как удобное кресло, почти касаясь воды. Смотрели на церковь-усыпальницу Святополк-Мирских. Ели бутерброды, не доедая хлеб. Мякиш бросали голодным рыбам и грациозным лебедям с розовыми крыльями.
Замок красно-бурого цвета, с четырьмя башнями и пятой под давно не существующий разводной мост – смотрел на них близоруко. Он устал от этих бесконечных, бездумных туристов. Земля вокруг него была забита тысячами ног и твердая, как гранит. Желтые сентябрьские круги плавали на воде, а на ногах у женщин были одинаково удобные и совершенно безобразные туфли…
Винтовая узкая лестница, казалось, все время прижимает к стене. Не каждый решался подняться на самый верх башни. Георгий легко поднимался, не выпуская Алиных рук. Ее юбка в страхе запутывала ноги. Ее ладонь в крепких сухих ладонях влажнела. Скользила. Она жутко этого стеснялась и не знала, как незаметно ее вытереть. Она тогда не знала, что его руки и ступни не потеют никогда. Она так и не узнала, как это встречать его у порога в конце дня, снимать с него ботинки с носками и целовать пахнущие утренним мылом ноги.
А когда небо башни открылось – на голову рухнули круглое, как яичница, солнце, прохладная глубина пруда и бесшумно плывущие своим маршрутом облака. Георгий впервые тогда сказал: «Люблю…» Аля чуть не обожглась этим с виду обычным словом.
Из стен продолжала крошиться вековая пыль. В них намертво вросли прямоугольные узкие окна. Экскурсовод все стояла во внутреннем дворе……Воскресный вечер тетка проводила у телевизора. Как и десять лет назад. Были завершены все дела, на полу в старых махровых полотенцах сушились ее шерстяные кофты, а на журнальном столике стояла полная вазочка с «Рачками».
Она сидела в привычном кресло, укутавшись в платок, и смотрела фильм. В этот раз шел «А если это любовь?» Юлия Райзмана. Она уже неоднократно его видела, но всякий раз не могла сдержаться. Вспоминала, как в 62-м ходила на премьеру в кинотеатр. Еще был жив муж, и они чуть не опоздали. И так было нарядно на улице и еще душно после целого летнего дня. Он купил ей цветы, завернутые в газету, а после сеанса угощал «Ленинградским» мороженым, одетым в фольгу…
Тихо повернулся ключ, и в темную прихожую зашел Георгий. От него пахло дымом, пригородом и чуть горькими тополиными листьями.
– Гоша, я налистничков пожарила. Твоих любимых, с печенкой. На сковородке.
Она кричала, не отрывая взгляда от телевизора.
– Ты посмотри, что делается. Срамота! В любовь они вздумали играть. Учиться нужно, выпускные на носу, а они прячутся по углам. Ты мне смотри, Георгий, – тетка почему-то в телевизор пригрозила кулаком, – чтобы я не видела и не слышала ничего такого. Об учебе думать нужно, о профессии. Сперва долг свой выполнить перед страной. Отработать, что государство вложило в твое образование. А потом можно и о девушках задуматься. Вот в наше время…
Георгий больше не слушал. Он с аппетитом ел прямо со сковородки. Можно, пока тетка утратила бдительность и увлечена своим монологом. Горячие, с хрустящей корочкой блины таяли во рту. Запивал компотом из сухих яблок и груш прямо из банки. Мычал ей в ответ. А сам себе думал: что она может понимать в жизни? Со старомодными взглядами вдова… И разве она знает, что такое любовь? Разве хоть раз ее чувствовала? Она ведь до сих пор хранит ситец в рулонах, на котором набит серп и молот. А еще упаковки стирального мыла и спичечных коробков. И перешивает себе юбки из старых мужниных рубашек. Где тут место для любви?
А в это время десятиклассники Ксеня и Борис боялись себя. Боялись своего влечения. За это стыдили и презирали. За это высмеивали на собраниях и в учительской. Тетка стала мирно задремывать, согревшись под пуховым платком, а Гоша, прячась за тулупами и старыми шубами, набирал номер Алиного общежития…
…Ровно в 21:00 в программе «Время» напряженным голосом диктора было рассказано о теракте на Красной площади. Взрыв с помощью самодельного взрывного устройства совершил литовец, страдающий психическими расстройствами. Эту новость весь институт возбужденно обсуждал перед первой парой…Нинка грустнела с каждым днем. Быстро поджимали допустимые сроки. Она, наконец-то, всеми правдами и неправдами достала направление на аборт. Завтра… В понедельник… Без укола новокаина. На это у нее совсем нет денег.
Просто так на аборт не брали. Она ведь не замужем и без детей. Аля пыталась утешать, но глубины не понимала. Ей сложно было представить как беременность, так и действия, которые к ней приводят. Нинка замечала ее счастливый и отсутствующий взгляд. Сильнее сжимала челюсти. Почему у этой зеленой первокурсницы такой парень? Каждый день, в одно и то же время берет ее за руку и ведет прощаться с птицами или в кино. А она уже на третьем курсе… Неглупая, с рыжими мягкими волосами и курносым носом. Но все вокруг сволочи. И завтра у нее аборт…
Завтра наступило очень быстро. Вечер переродился в утро. Поседевший за ночь лес сочувствующе кивал головой. Холодный туман сиротливо стоял у двери храма. Его все пытался проесть рассвет. Мужик в кирзовых сапогах нес в ведре уголь. Худая собака бежала, болезненно поджимая лапки. Ночью были заморозки. В чьем-то дворе голодно мычала корова и, кашляя, заводился трактор. Она шла, остро слыша и запоминая звуки. Как будто больше никогда не будет петухов, хрипнущих на заборах, земли с рубцами вчерашней грязи и малыша, которого она бережно несла в своем животе. Ее сковал страх. Нет, не ее. Пупса, который сжался и вспотел, пытаясь хоть куда-то спрятаться. Мечущегося по матке в поисках хоть какой-то, самой крохотной щели.
В центральном абортарии Нинку раздели и выдали ношеные бахилы. Словно плохо стиранные. Побрили, сжимая по миллиметру очень белую, как у всех рыжих, кожу. Оставляя перечеркнутые мелкие порезы. Потом Нинка еще пару недель не могла мыться вместе с Алей в бане, стесняясь своего неприкрытого лобка.
Покрученная морщинами медсестра покрикивала на всех, ждущих своей очереди. Ледяные стены коридоров прожигали прислоненную к ним спину. Нинка чувствовала себя облезшей волчицей. Загнанной в капкан. Она выла не переставая. Без звука. Она знала, что если передумает – всю жизнь проживет в этом общежитии, мать-одиночка…
Только когда на холодном кресле почувствовала лед металла внутри себя – выть перестала. Потому что в ушах стоял перепуганный детский крик, доносившийся из тонкой кожи живота. Молчала, пока вводили расширитель во влагалище, крепили зажим к шейке, и когда боль, тянущая и живая, выпадала вместе с плацентой. Ей вживую открывали матку, а потом кюреткой отдирали то, что так крепко приросло. Ощущала шкрябанье железа внутри, и холодный пот стекал по замерзшим красным ступням. Она сцепила зубы, и они стали крошиться прямо в рот. И ненависть на весь мир плашмя падала на пол, под ноги крепкой тетке, выдирающей ее нутро. А та все время повторяла свою ключевую фразу: «Теперь будешь знать, как ноги расставлять. Терпи, милочка».
А на следующий день, видя, как Аля собирается на свидание, вышла за минуту раньше. Она больше не могла терпеть такое неприкрытое счастье. Она больше себе не принадлежала. Была, как ядом, отравлена своей болью. Насквозь. И не осталось никаких сил жить с чужой, ощутимо теплой любовью по соседству… Даже не за стеной, а в одной, не подготовленной к зиме, комнате…
Георгий стоял под беззубым дубом и спокойно ждал. Почти все желуди с оторванными шляпками прятались в нечесаной траве. Нинка, желтая после вчерашнего, проковыляла и стала рядом.
– А ты не жди. Она передала, что больше не выйдет. Что разлюбила. Бывает…
Георгий подумал, что ослышался. Переспросил сухим, как песок, голосом. А потом резко развернулся, чуть не ударив локтем чахлую Нинку.
Как раз подъехал троллейбус, медленно раскачиваясь по сторонам, словно танцуя. Он прыгнул на ступеньку и только тогда разжал кулаки. На ладонях была кровь…Аля выбежала к старому дубу через минуту. Отъезжающий троллейбус с блеклыми глазами… Дуб, пахнущий не собой. Пахнущий им. Дым, ползущий с перекопанных на зиму огородов. Небо, поколотое лучом. Закат, уже ложившийся на брюхо… Она же его видела из окна. Он стоял в теплом сером свитере из чистой шерсти. Что могло случиться? Почему? Она ждала долгий час. Встретила и проводила глазами еще не один троллейбус. Слезы щекотно скатывались и падали за шиворот. А потом вернулась домой и плакала, пока не уснула на мокрой подушке. Нинка, уткнувшаяся в учебник по философии, ни о чем не спрашивала…
Прошла неделя. Георгий не приезжал… Аля по инерции открывала не выспавшиеся глаза, бежала по холодному коридору, чтобы умыться. Потом на кухню – поставить на плиту обгоревший черным чайник. Всюду гуляли сквозняки, дико нападая из-за углов. Хватали за голые щиколотки, как одичавшие псы.
Она механически шла в институт, чтобы отсидеть положенные пары, а потом возвращалась домой и все время находилась у окна. Уцепившись двумя руками за подоконник, сидела на табурете, пока спина не становилась колом. Смотрела, как носится осень по садам, как болтается на дереве кусок бурого бинта и как нищенски выглядит рабочая Чижовка.
…Шли последние дни сентября. Целыми днями моросили дожди, которые Нинка по-простому обзывала «мыгычкой». Уже совсем остыло общежитие, а Аля впервые почувствовала, что означает «не хочется жить». Она не могла ни есть, ни пить. Даже чистую воду. Ее сердце болело так, как будто его разрезали бритвой на узкие ровные полосы. И продолжали аккуратно, с особым удовольствием, резать дальше. А потом, когда из нее почти полностью вытекла душа, наступила на гордость своим осенним ботинком и поехала к нему в институт.…Только закончилась четвертая пара. Он вышел из двери с напряженными взглядом… Рядом, подбрасывая листья, шел Витька. В спортивной кофте под пиджаком. Неточно насвистывая модный мотив… Расхлябанно нес сумку с книгами, задевая прохожих.
Георгий, увидев Алю, остановился и сузил глаза. В них была боль. И арктический холод.
– Зачем ты приехала? Не все сказала? Так пришли подругу, она мне все передаст.