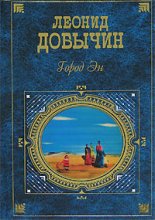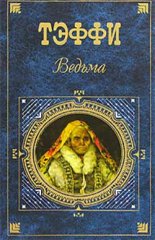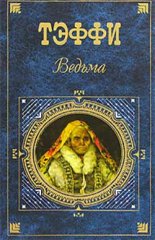Почти последняя любовь Говоруха Ирина

…Полночь… Так тихо, что слышно, как бьется его сердце. И слышно, как он смотрит сны. Она встала с постели. Бесшумно разделась. Рубашка упала на пол, как падает с потолка паутина. Открыла окно. Шею холодил лунный камень.
Она долго смотрела в лунные глаза, пила серебряный ликер маленькими глотками, трогала ее нежные прохладные руки. Дышали легкие луной, а потом подключились и яичники.
Глаза в глаза… Небесная и земная женщины. В каждой тайна и безграничная сила. В каждой своя история. Она ощутила свою внутреннюю готовность. Положила лунный камень в рот, под язык, и, купаясь в голубом холодном свете, спросила… О нем… Ждала… Она знала, что ответ придет. Сам собой. Может, рано утром, когда птицы будут полоскать горло водой, а потом выплевывать под крапиву. А может, в выходные, когда на сцене зазвучит скерцо?
Луна даст ответ. Пришлет с голубями, нарисует иероглифы на песке. А может, напишет дождем на стекле или в новой, только купленной книге. Она откроет наугад, а там то, что так долго ждешь.
– Малышка, ты где?
Он спросил, не открывая глаз. Только руки мяли простыни справа и слева.
– Я сейчас.
Луна слегка улыбнулась. Одними тяжелыми волосами. Потом послала ей в подарок кусочек магнетизма. Она с благодарностью приняла и примерила. Он был ей к лицу. А под конец луна решилась. Сбросила с себя платье и вошла в ее тело… Холодным голубым лучом, таинством ночи, бледным призраком…
Он опять проснулся. В облаке лунного света, полностью обнажена, стояла она. Ожерелье на шее казалось живым. Он протянул к ней руки и опешил. Рук было не две, а четыре. Везде: на затылке, на ступнях, на ягодицах, широкой спине были маленькие женские руки. И везде он чувствовал очень твердые возбужденные соски. И влажность… И запах, который ни с чем не спутаешь. На его животе лежал мягкий животик и точно такой же, округлый, сбоку. Одна женщина была горячей, как прогретая июлем земля, а вторая – прохладная, как утреннее заспавшееся небо. И там, где одни руки ложились пламенем, сверху тут же падали купавшиеся в родниковой воде. И там, где губы истекали мякотью слив и груш, появлялись другие – свежие, с прохладой зеленого чая и жасмина.
Этой ночью он занимался любовью сразу с двумя женщинами, одна из которых – чужестранка…
1970 год. Конча-Заспа. Август. Николь
Звенит в ушах лихая музыка атаки,
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь.
И все в порядке, если только на площадке
Великолепная пятерка и вратарь…
«Трус не играет в хоккей» С. Гребенников
Волейбольная сетка провоцировала сквозняк. Широкие клетки, связанные нитями. Две команды парней настороженно приветствовали друг друга. Крепкие и неравномерно загорелые. Похожие, как близнецы из соседних галактик. Студенты Франции и УССР.
Весь спортлагерь пришел на стадион. Даже ленивые. Даже старенькая врач из медблока. И прихрамывающий дворник дядя Ваня. С ним была собака, слепая на один глаз.
Послеобеденное солнце село в первый ряд. В дешевых тряпичных кедах. Вокруг него все толкались, устраиваясь. Мест не хватало. Поэтому многие сидели прямо на бодрой траве, стояли в проходах. Ждали…
А от лета оставалась только треть. И август вкусно наливался спелостью. И прелые листья каштанов сворачивались на земле в хрустящую трубочку. И любовь только начиналась… С этой игры… Хотя еще не были знакомы пары и только искоса изучались новые лица – в воздухе явно подрагивали нервы.
Наконец-то свисток судьи. По жребию – первыми подают французы. Все приготовились. Ноги на втоптанной в цемент земле. Глаза болельщиков: кошачьи – зеленые, раскосые, ореховые и цвета вяленой вишни были на этих 12 игроках. Еще каждый думал только на своем языке. Еще каждый ровно за своих. Пока…
Подача… Мяч летел, закручиваясь в спираль. Низко. С сумасшедшей силой. Русский капитан принял с трудом и сразу оценил противника. У него были русые волосы и от спины квадратная тень. В глазах – тихая одержимость. У игры тут же родился характер. Жесткий и техничный.
На площадке не спадало напряжение ни на минуту. Атака, попытка блока, мяч «за»… Болельщики больше мешали. Каждый блок сопровождался аплодисментами. Стало непонятно кто за кого. Стала важна только сильная, красивая, мужская игра.
Солнце жарило одним в спины, другим в глаза. Николь в модных, круглых очках на пол-лица смотрела с третьего ряда. Вот верхнюю подачу, подпрыгнув на полметра, взял ее бывший любовник Пьер. Вот прикрикнул на своих капитан советских. Голос полоснул бритвой весь стадион. Потом вытер футболкой лоб, оголив полоску идеального живота. С темными волосиками, жеманно уходящими под красные шорты. Николь сняла очки. Протерла ладонью вспотевшие стекла…
Первая партия со счетом 14:13 почти иссякла, как вдогонку за мячом неудачно упал игрок УССР. Застонал. Вывернутая нога отъехала в сторону. Капитан бросился к нему, умело щупая суставы. С напряженным лицом спрашивал: «Болит? А так? Пошевели пальцами…» У Николь потянуло шею. Она смотрела на грамотное оказание помощи, и волна вожделения хлестнула по щекам. Ей захотелось с ним встретиться. И завладеть вниманием этих рук. Но без орущих чужаков и немного на другой площадке.
В следующей партии играли шесть французов против пятерых. Больше никто не сидел. И никто не болел. Даже солнце стояло босиком, без привычных кед. Каждый проживал игру, как самую важную часть жизни. Размахивая руками, ощущал шероховатость мяча. Трогал скорость.
Из столовой красноречиво пахло ужином. Над полем боялись перелетать бабочки. Весь лагерь следил за последней подачей сборной УССР. Капитан как бы нехотя поднял руку с глубокой чувственной подмышкой. Отправил мяч вперед. Николь держалась за сердце. Наверное, не рассчитал силу. Он не перелетит. Слишком низко. На той стороне расслабились. Обмякли. Все равно победа… Мяч перелетел над самой сеткой и, не черкнув ее, упал в пыль. Теплую и по-летнему пышную. Под самым носом французов. Трибуны встали, обнимая друг друга. Ничья…
Игроки в своих мокрых майках жали руки. Незаметно сканировали яркие женские пятна. Наконец-то осилили имена. Обнявшись, направлялись в душ. За ними шли глаза Николь. Вернее за тем парнем, самым главным. Пока дверь на огромной пружине не стала на свое, насиженное место.
Болельщики тоже нехотя расходились, поднимая примятую траву. Сыпались приглашения на танцы.
Наконец-то стали вылетать из нор сонные комары, с припухшими глазами. Из окон столовой стучали посудой. Накрывали сытный ужин. Гречневая каша и тефтели с круглым рисом. Салат из старого редиса, похожего на дерево, лука и пожелтевшего огурца. Двойные толстые куски хлеба и сливовый кисель с комками. Николь сморщила носик. Вчера решила на ужин не ходить. Но только что все изменилось. Она посидит в душной столовой, провоняется зажаркой или подгорелым молоком. Она постарается не смотреть на дурацкие плакаты, типа «У нас, как водится повсюду – поел и убери посуду», на кое-как сервированные столы и слоновьи порции. На нарезанную желтую бумагу в грубых стаканах в качестве салфеток.
Она просто издали посмотрит на него, шелестя красивыми глазами. Понаблюдает, как он ест, низко наклонив голову, как смеется, немного стесняясь, с кем разговаривает. Определит его слабое место…
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины,
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины…
С. Есенин
Вечер, как надувной шар, падал за горизонт. Георгий сидел на веранде, обвитой винным виноградом, и читал учебник по фармакологии. Кое-где солнце острым лучом пробило ягоды. Надорванные, они истекали слюной. Листья липы от жары вывернулись наизнанку. Так и висели навыворот. Перепачканные медом осы теснились под вечно не закрытым краном.
Со стороны танцплощадки уже пел Мулерман. Нарядные девушки в коротких юбках бежали, толкаясь феромонами. Поглядывали с интересом в его сторону подведенными черным глазами. Нежно краснели. Кто-то курил. Чайные розы, вдохнув дым, стали прогоркло пахнуть.
– Ты идешь на танцы? – в двух шагах стояли сильно надушенные друзья. Волосы аккуратно причесаны мокрой расческой.
– Не хочу, идите без меня.
Они потоптались для приличия, нетерпеливо поглядывая на часы. Не уговаривали.
Он сидел, закинув ногу на ногу, прижимаясь чистой кожей к джинсам. По остывшему дощатому полу ползали длинноногие муравьи, забиваясь спать в щели. После душа опять хотелось есть. Но потом забыл о еде, потому что было очень интересно понять, как действуют лекарственные средства на периферическую нервную систему. Он как раз разбирался в М-холинорецепторах и альфа– и бета-адренорецепторах.
За границами домика пахло праздником… Молодостью… Чувствами. На секунду, подняв голову от учебника, прислушался. Эдуард Хиль пел про опоздавшую электричку. Сглотнув, он снова опустил глаза, где как раз были Н1 и Н2 – гистаминовые, дофаминовые, серотониновые. Шептались страницы на своей терминологии. Георгий понимал этот медицинский язык лучше русского. И любил больше русского.
Вечер выравнивался. Птицы, между песней, поглядывали друг на друга. За левым ухом попискивал носатый комар. Тоже до ужаса голодный. Все остановилось на полушаге и медленно засыпало. Он потихоньку стал разбираться в эффектах адреналина и ацетилхолина. Хотя фармакология только с третьего курса. И до нее еще хороших три недели. Но он никогда не шел строем. Всегда на пару шагов впереди колонны.
Где-то, на другой стороне земли, друзья отплясывали под «Черного кота» Тамары Миансаровой. Он отвлекся только на припев. Смотрел в сторону заката. От солнца торчала макушка. Оранжевый хвостик, стянутый аптекарской резинкой. Но потом снова принялся за изучение рецепторов.
Книга на коленях тяжелела. Старая, с торчащими нитками на затылке. Купленная на стипендию у букиниста. Скоро будет невозможно читать. Воздух быстро серел и терял температуру. Слабо шевелились листья, выбирая удобную позу. На глазах закрывались лекарственные ромашки, и запахло чем-то незнакомым. Чужим…
Метрах в пяти стояла девушка. Тоненькая. Волосы подняты во французский пучок. Смело смотрела большими глазами. Слишком смело. Даже сквозь седеющий воздух.
– Привет.
Она что-то ответила, журча в носовую пазуху. Француженка. Георгий на странном английском спросил, как ее зовут. Она на свободном английском ответила, что Николь. Жестом пригласил присесть на простую грубоватую лавочку. Она отрицательно махнула головой и протянула руку. Книга перестала быть главной.
Небо закрыло глаза и зевнуло. Возвращались домой самолеты из вечерних рейсов. Темнели кусты декоративной акации. Ровные дорожки стали черными. Николь держала его руку в своих ухоженных ладонях. Вела к себе. Он безропотно шел, слегка поднимая брови. Сосны, как лошади, спали стоя. Чуть дальше высоко цвели лопухи. Попадавшие под ноги шишки трещали. Они встречали опоздавших на танцы. Кто– то, в потемках, играл в настольный теннис.
В ее номере были разбросаны вещи. Он тогда на это не обратил внимание. Еще не знал, что это называется французским шармом. Изо рта чемодана свисал непроглоченный чулок. На столе крошки табака, хлеба, кофе…
– Садись, – показала глазами на кровать, не заправленную еще с утра.
У Георгия вспотела спина. Он сел, не сгибая колени. А Николь стала раздеваться. Очень долго. Настолько, что его джинсы оказались на сотню размеров меньше. Из чего-то маленького и кружевного – появилась грудь. Загорелая и очень соблазнительная. А потом из трусиков все абсолютно гладкое. Он впервые видел все так откровенно. Без вороха курчавых жестких волос, которыми можно порезать уздечку. Встал и расстегнул ремень. Николь часто задышала…
…Через 4 года закончились съемки фильма «Эммануэль». Когда он его увидел, то понял, что все это уже у него было. Все было испробовано, подсмотрено, прожито. Задолго до премьеры… С Николь…
Я люблю тебя странной любовью:
То бесследно ныряю в беспутство,
То веду недовольною бровью,
То в дверях твоих жажду разуться…
Неизвестный автор
Она была другая… Совсем. Немного странная. С большими глазами, цвета спелого грецкого ореха. Она и пахла по-другому. Не «Ландышем», не «Красной Москвой». От нее струился тонкий аромат майской розы и ириса, настоянных на зеленом травяном отваре. А когда последний всплеск страсти плашмя падал на простыни – от нее пахло дубовым мхом и, кажется, кедром. Поднимаясь с постели, он увидел на тумбочке высокий тонкий флакон «Шанель № 19».
Это потом, через десять лет он прилетит в Париж и не услышит такой будоражащий запах юности. Напрягая спину, не отдавая себе отчет, он неосознанно будет его искать. Но французские женщины, как сговорившись, носили на себе колдовской, тяжелый «Опиум». По всей Западной Европе шествовал восточный наркотический аромат. Приворотный, приторный, трансовый.
А тогда от Николь летел запах свежих цветов. А тогда был жаркий август. Спортлагерь в Конча-Заспе, конец 2-го курса и французские студенты в деревянных домиках напротив.Она было другая… С длинными светлыми волосами. Небрежно подстрижена, как Джейн Биркин. При любом движении ее волосы вздрагивали, будто чего-то пугались. Николь говорила, что эту стрижку придумал Видал Сассун.
Это потом, через пять лет, парикмахер Марсель изобретет щипцы для завивки волос. И Николь станет ходить с завитыми горячим металлом локонами. Кудрявой он ее не увидит. Никогда. А запомнит такой – юной, легкой, сексуальной.
А в Союзе в разгаре была мода на начесы, парики и шиньоны. Подкладывались клубочки шерсти или чулки. Волосы накручивались на железные бигуди, смоченные перед этим пивом, сладкой водой или клейстером. А сверху, если удастся купить, – лак «Прелесть». В таких волосах рука застревала. Он никогда не трогал такие волосы.
И было приятно снимать с губ диоровскую помаду, а не гигиеническую. У нее в косметичке жила пудра «Ланком» в сине-голубой коробочке. Не тональный крем «Балет», который бальзамировал лицо, а невесомая бежевая пыль…Ее движения были разорванными, как пунктирная прямая на дороге. За очками-стрекозами – умные, цепкие глаза. Бровь, не выщипанная в ниточку. А даже чуть густая, полноценная, уверенно косившая в разные стороны.
У Николь были безумно гладкие ноги, джинсовые шорты, почти как трусики и вызывающий лак на ногах. Хриплый, словно простуженный голос. Слова, почему-то формировавшиеся в носу. Взгляд, отрешенный от суеты.
А еще у нее с собой была коробочка с маленькими, как зернышки, таблетками. Она пила противозачаточные. Он пытался, как будущий доктор, прочитать инструкцию. Тщетно.
Презервативы, который выпускал Баковский завод резиновых изделий, стоили 2 копейки за штуку. И были двух размеров: № 1 и № 2. Оба – безнадежно ему малы. Поэтому заниматься любовью с Николь было открытием. Откровением. Во всех смыслах этого слова. Она отдавалась ему днем, когда солнце бьется головой в окна. Она просила войти сзади, сама садилась сверху, теребя непослушный клитор. Он следил за ее быстрыми руками и еще не понимал, зачем она это делает. Она же открыто наслаждалась. Стонала! Георгий не предполагал, что секс может быть таким… Не пристыженным, не позорным… А совершенно смелым и радостным.
Однажды в столовой за обедом, состоявшим из супа харчо, ячневой каши, сосиски, капустного салата, заправленного сахаром и уксусом, он при всех положил ей на тарелку полевой мак. Рядом с половинкой яйца, дополнявшего салат. Она стала с цветком одного цвета. Кто-то завистливо ахнул. Николь победно заколола мак за ухо и проходила с ним до вечера. Пока не вымялись лепестки. Пока они не стали выдохшимися пятнами.
А потом, в лесу, подложив под себя мох, он наблюдал точно такие же лепестки, но свежие. Они дрожали и становились полнее. Покрывались прозрачной влагой. Ярче в цвете с каждым проникновением. Еще ярче… Пунцовыми…
К концу месяца от Николь остались только глаза. Цвета высушенного в духовке грецкого ореха. За это время она пересказала ему любимые фильмы. Дважды «Шербурские зонтики» с Катрин Денев и Нино Кастельнуово. И нашумевший последний «Красное солнце» с Чарльзом Бронсоном и Аленом Делоном. Георгий слушал и ждал хоть одно знакомое слово. Обдумывал тему кандидатской. Сортировал в голове рецепторы.
Она записала для его мамы рецепт соуса «Бешамель». По пунктам. Когда топить масло и добавлять муку. Сколько охлаждать и как постепенно подливать подогретое молоко. И только потом – три восклицательных знака – добавлять луковицу, нашпигованную почками гвоздики. Она еще хотела так же расписать приготовление лукового супа, но Георгий еле выдержал «Бешамель».
Рецепт он потерял в тот же вечер.
Николь закатывала глаза при слове Фуа-гра, опуская неэтическую сторону блюда: насильственное кормление гуся через зонд. Она пела ему, не вставая с постели, Джо Дассена: «От этих простыней, что помнят запах твой, где не найти тебя, где не найти покой…» Георгий, как умел, напевал что-то из репертуара «Битлз».
И было легко… Казалось, весь мир у тебя в кармане. Казалось, воплотить мечту – это просто сделать лишний вдох. Или пройти на полшага дальше. Или проснуться на полминуты раньше…
Он теперь знал, кто такая Соня Рикель и как важно иметь в гардеробе платье из ее шерстяного трикотажа. Он теперь знал, что ее духи названы в честь даты рождения Коко Шанель, в честь 19 августа. И что их создал Генри Роберт.
Она ходила с ним на танцы в платье-свитере от Кензо, а он в джинсах – клеш от колена и водолазке – королеве моды. Они много раз вальсировали под «Море молодости» Лили Ивановой, пока лето не стало грустнеть, стареть и сохнуть, превращаясь в сентябрь……Наташа намазывала теплое масло на черный хлеб. Масло от жары не держало форму. Текло по рукам. Тренировка отобрала все силы, выпила энергетические запасы и разбудила зверский голод. Наташа откусывала помногу и тут же глотала. Ела быстро, подбирая со стола сероватые липкие макароны, пока не заметила снисходительный взгляд Николь.
– Что смотришь? Ешь. Или в Париже такое не едят?
Николь скривилась, сидя на краешке стула. У нее единственной была ровная спина и до сих пор полная тарелка. Нетронутые алюминиевые ложка и вилка. Жирные от мытья холодной водой. Она так и не дождалась до конца смены нож, чтобы съесть отбивную. Их в столовой просто не было.
Она отламывала хлеб и держала его во рту, пока он не распадался на твердую пшеницу, солнце, играющее в сухих стеблях и молоко. В нем чувствовались яйца, только что снесенные курицей, горсть соли и плотный жар печи. Она ела и представляла парижский багет, весом ровно 200 грамм. Худющий, с оранжевой корочкой, припудренный мукой…
Николь смотрела на крепкую Наташу с красными щеками, широкой ступней и неразвитой маленькой грудью. Ситцевый лифчик в цветочек проглядывал из-под белой футболки. Синие спортивные штаны с вытянутыми коленями болтались под столом. Она просто ела. По-мужски. Не заботясь о долгом наслаждении. Не думая, что хлеб живой, а помидоры выпили все июльские лучи. Что спина – заокруглилась дугой, а живот разделился на этажи. Ей даже не приходило в голову, что можно есть красиво. Эротично. Медленно… Да и зачем?
Час назад закончились соревнования по гребле. Наташа заняла второе место и была недовольна результатами. Смотрела, как Николь отщипывает по кусочкам еду.
«Принцесса, – с раздражением думала она. – Да что ты можешь? Можешь суп сварить, заправив его луково-морковной зажаркой? Детей нарожать? Или навести порядок в доме, моя на карачках пол? Уедешь, и он все забудет. Ему нужна простая, крепкая советская девушка, такая, как я. Настоящая. С которой можно обсудить и лечение сложного больного, и стерилизованные компоты. Вот сейчас подойду и предложу поплавать со мной наперегонки после обеда».
Наташа положила четыре ложки сахару в чай, размешала и махом выпила до дна. Вытерла губы рукой. Ее не смущало, что в бак с кипятком попросту добавили жженый сахар и немного заварки грузинского чая третьего сорта. И что это все долго томилось на слабом огне… Она никогда ничего другого не пробовала.
Отнесла посуду в мойку и уверенно подошла к Георгию. Тот обсуждал последние соревнования. Все открыто наблюдали за происходящим. Забавлялись… Она потянула его легонько за рукав и грудным голосом сказала:
– Слушай, Гош, спорим, я выиграю плаванье с тобой на скорость?
По залу громко покатился смех. Наташа покрылась нервными пятнами, но руку не отнимала. Она униженно смотрела прямо и ждала ответ. Георгий не хотел плыть, а тем более ее обижать. От нее пахло едой, потом и чем-то не очень изысканным. Он спокойно встал из-за стола, улыбнулся.
– Знаешь, Наташ, мы обязательно проплывем, но не сегодня. В другой раз точно. А сейчас я немного занят.
Все глаза переметнулись к Николь, красноречиво показывая, кем и как он будет занят.
Наташа этого не заметила. А засветилась и стала красавицей. На розовой коже открылись голубые глаза и стали не так выпирать прямые ресницы. Он не отказал! Не смеялся! Еще день-два, и он поймет, что грязные постельные отношения – это мираж. Скука. А настоящая любовь другая. Она пахнет детским смехом, скромными ужинами на маленькой кухне и разговорами о том, что пора бы поменять горшечную землю…
Наташа шла по шершавым дорожкам и вспоминала родителей. Они всегда разговаривали друг с другом, как брат с сестрой. Ровно. На одной ноте. На одни и те же темы. Приходили к шести, ужинали и смотрели телевизор. Как правило, по вечерам была мятая картошка с водой и ложкой плавленого сливочного масла, жареные котлеты и соленый огурец. Иногда, чтобы не пропустить футбол, отец стелил на табуретку газету и ел перед экраном. Мама всегда ругала его за хлебные крошки на ковре.
Они жили, как все. Папа увлекался картинами-чеканками, и по всей квартире были развешаны его черные шедевры. Царица Нефертити да Ласточкино гнездо. В выходные ездили на дачу копать или сажать картошку. Ведь покупать – недопустимо, когда есть огород, да и дорого. В праздники – накрывали стол. Гости… Если в фильме целовались – просили Наташу закрыть глаза. И просят до сих пор. Она никогда не видела их стеснительную нежность или случайное полуобъятие. Все очень сдержанно. Наташа привыкла к таким скромным проявлениям чувств. Считала их идеалом. И поэтому Николь хотелось задушить. За то, что трется об него, как кошка. Тайком трогает его попку. Что-то мурлыча на своем французском, при всех расстегивает верхнюю пуговицу и теребит короткие волосы. А потом надолго уводит в свой номер. Наташа стояла под окнами… Вчера ночью… Все слышала: хриплые стоны, скрип сетчатой кровати, крик. Не из горла, а из живота. Ей мама говорила, что в семейной жизни нужно кое-что просто перетерпеть. Кое-что постыдное, отнимающее здоровье у честной женщины. А между ее подругами ходил шепот, что все женские болезни от немытого члена. Она понимала, о чем речь. И готова была, зажмурившись, это терпеть. Сколько нужно. Только бы он увидел ее: умную, спортивную, хорошую хозяйку.В лагере после ужина было игриво. Жуки с полными животами лежали просто на траве, разбросав лапы. Все лавочки трещали от сидящих. Девочки шептались, возбужденно хихикая. Щелкали семечки. Из их пестрой компании вырывались фразы, типа: «Вон, видишь того парня с бакенбардами, он меня сегодня пригласил…»
– Пойдешь?
– А ты одолжишь мне свои туфли?
А Наташа все ждала его. Одного и на всю жизнь. Георгий ее волновал. Он был красивым, высоким – метр восемьдесят семь, лучшим на факультете. Она вспомнила мудрые слова мамы: «Каждый хочет слизать сметанку, а кто будет доедать кефирчик?» Она хотела, чтобы самое ценное, ее девичья честь досталась ему.
Поэтому шла, гордо пропуская лавочки, закрывая уши от вздохов, отмахиваясь от таких иллюзорных однодневных отношений.…В это время Николь, закусив губу, пыталась его принять. Всего. В лихорадке дрожали бедра. Он шел, не сворачивая. Она стояла на месте и открывалась. Нараспашку…
Отчего же непременно
Все случается так сложно?
Отчего же непременно
С незапамятного дня,
Ты приходишь внутривенно —
Я ловлю тебя подкожно,
Ты приходишь внутривенно —
И вживляешься в меня!..
А. Стрелков
…В лесу доспевала ежевика. Сладкие чернильные ягоды. У всех были синие губы. Даже у комаров, хотя те пили через капиллярную трубочку.
За обедом было оживленно. Кто-то, отплыв севернее на лодке, увидел затонувшую церковь. Захлебнувшуюся водой по самый купол. С печальными глазами. Одинокую и жалкую. Всем стало интересно. Появились истории об утопленниках, русалках… О старом священнике, приплывающем молиться у креста по субботам. О том, что ночью в ней светло, словно горят свечи.
Все говорили одновременно. Николь напряглась. Не понимая слов, чувствовала остроту. У Георгия, как от простуды, горели глаза. И у той деревенской девушки в синем платье в крупный горох. Почему она все время с ним разговаривает, отпивая из стакана сметану? Вытирая рукавом белые усы. О чем? Что они рисуют на салфетке? Георгий решительно встал. Он был намерен плыть прямо сейчас. Ждать до завтра невозможно. За ним резво схватилась Наташа. Куда он уходит? Через час вечерняя тренировка. У Николь потемнело в глазах и что-то лопнуло внутри. Наверное, легочная вена. Стало нечем дышать. Перестало биться сердце. Куда он? Почему с этой мышью? Она увидела торчащую в своем сердце каленую стрелу. Ту, что не деформируется десятилетиями. Легонько потянула. Треугольный наконечник с заусеницами еще больше прорвал мышцу.
Николь даже слышала звук, с которым она вонзилась. Похожим на свисток. У стрелы был цилиндрический стабилизатор и оперенье дикой совы. Наверное, той, которая слепыми глазами наблюдала за их ночными купаниями. А еще она помнила секунду, в которую все произошло. Именно тогда, когда Георгий садился в лодку с этой простушкой в немодном платье и синими, перепачканными ежевичным соком, ладонями.
Ей он просто махнул, вяло подняв руку. И стало тихо… Не бились в столовой ложки об тарелки. Вечер закрыл рот. Из головы вылетели все мысли, кроме одной. Скоро конец смены. Они разъедутся. Сможет ли она жить, как раньше?…Облака над водой собирались в стаи. Они плыли против ветра. На его руках каждая мышца была твердым узлом. Наташа, учившаяся в параллельной группе, впервые осталась с ним наедине. В маленькой лодке. На расстоянии метра друг от друга. Он ей нравился еще с первого курса, еще с той сентябрьской картошки в колхозе. Но там повсюду с ним была Настя. А сейчас они одни. И теперь она чувствовала себя как в раю. Запоминала, под каким углом двигались плечи, как при этом скрипели весла и что он успел сказать.
– Давай, я тебя сменю. Ты устал.
Наташа решительно двинулась к рулю.
– Сиди. Я сам. Не хватало, чтобы ты меня везла.
Георгий сильнее сжал рукоятку, так, что побледнели костяшки.
– Ты достал учебник Струкова и Серова по патана– томии? Мне старшекурсники говорили, что предмет сложнейший.
– Я как раз его читаю.
– А можешь потом одолжить мне? Или, может, будем готовиться вместе?
Наташа тут же представила картину, как они по очереди переворачивают страницы. На щеке его чистое дыхание. Щекочет, сползая за ухо…
Георгий не успел ответить, так как появился купол с покосившимся крестом. Ветер поднапрягся и толкнул плечом колокол. Тот заговорил таким же грудным голосом, как любил разговаривать он. Они обплыли вокруг. В столовой вспоминали, что здесь жили монахи. У них было свое хозяйство: пасека. Мед ели, а из воска делали свечи.
И так захотелось узнать, как там внутри, что Георгий потянул за край футболки. Наташа остановила его за ровный шов.
– Не нужно нырять. Дождь собирается. Давай лучше завтра.
– Наташ, завтра я сюда не приплыву. Посиди в лодке, я быстро.
– Гош, – в голосе послышались почти слезы, – я за тебя боюсь. Не стоит.
Но он уже прыгнул. С первого раза воздуха до дна не хватило. Георгий вынырнул с разболтанными легкими. Стал с жадностью вытягивать кислород из верхушек сосен, из падающего солнца, даже из горла дикой утки. Нырнул еще раз. На этот раз доплыл до двери, грустно болтавшейся под водой на одной петле. Изнутри пробивался странный свет. Не желтый, теплый, а серебристый, как бы лунный. Что это может быть? Он, согнувшись втрое, проник внутрь. На стенах остались иконы. Разные. Обвешанные водорослями. По спине прошел холод. За ним кто-то наблюдал. Он повернулся и увидел на одной из икон глаза. Большие и светящиеся. Воздух сразу закончился. Глаза были живыми. Даже редкие ресницы…
Противный страх… Несвойственный. Липкий… Он в ужасе подплыл к двери. Толкнул. Они не шевельнулись. Он схватил их обеими руками, оторвав с них что-то черное. Двери стали нехотя открываться. Георгий устремился вверх, пробираясь одной рукой сквозь плотную темную воду.…Ей казалось, что его нет вечность. Миллион минут. Наташа уже стояла раздетая, в одном нижнем белье, готовая прыгнуть за ним.
У нее от волнения тряслась нижняя губа. А когда наконец-то он выплыл – затряслась еще больше. Она помогла ему втянуть в лодку длинные ноги и, бросившись на шею, стала целовать. Неумело, стыдливо, плача одновременно. Она попадала негнущимися губами то в грудь, то в шею, приговаривая: «Любимый, родной мой…» Георгий, с повисшими по швам руками, пытался успокоить нервы. Дышал чаще. Наташа, истолковав это по-своему, потянулась к губам.
– Подожди, – остановил губы за сантиметр. – Я жив, ничего не случилось и нам уже пора. В лагере будут волноваться.
С нее тут же сползла смелость и нырнула с головой в воду. Стало неловко и стыдно. Слезы сделали ее лицо жалким и некрасивым. Она сидела перед ним на коленях в простеньком заштопанном лифчике, прикрывая руками трусики. Стала быстро одеваться, отвернувшись спиной. Сказать было нечего и, чтобы как-то отвлечься, начала ощупывать его находку. Опустив голову низко, практически спрятав ее в коленях, снимала слои старых запутанных водорослей. Пока в руках не остался крест. С витиеватыми завитушками. С изумрудным камнем посредине, похожим на разбитое сердце.
Назад плыли быстрее. Ветер подгонял лодку в спину, бил по соснам, которые держали корнями берег. Да и Георгий хотел побыстрее освободиться: от ее чувств, от поцелуев твердыми губами, от этих вязких сумерек. Наташа прятала глаза. Атмосфера становилась тягостной.
Наконец-то песок натер лодке живот. Он протянул ей руку, стараясь этой руки не касаться……А Николь ждала, объедая губы. Ждала ночи. Чтобы страстью выжечь возможный интерес к той, другой. В пресном платье, с тяжелой плохо вымытой косой. Он той ночью не пришел…
…Свежий туман подползал к веранде. Кривоногая скользкая жаба сидела на деревянном крыльце и шумно дышала животом, почесывая его лапой время от времени. А потом принималась чесать и за ухом.
На сонных окнах собирались свежие капли росы. Мычали коровы хриплыми голосами. Может, курили ночью сено? Туман, поднявшись на метр, замер над Днепром.
Георгий плыл… Разбрасывал руки так широко, что почти доставал противоположных берегов. Со вкусом откусывал воздух с мелкими каплями воды. Выравнивал дыхание и сердце. Выталкивал ил со дна. Появлялся до половины и тут же заныривал по макушку.
Река держала мускулистое тело, наслаждаясь весом. Щекотала пятки. Заигрывала и стеснялась.
А он плыл. Три километра, четыре, почти пять. Тренировка подходила к концу. Над головой, шепелявя, пролетела птица. Она была удивлена. Не остывшая с вечера вода, как узвар. Он вышел на берег, и песок занервничал. Стал засыпать пальцы.
Лагерь спал. Очень крепко. Шесть утра… Только дворник царапал асфальт березовой метлой. Только заспанные работники столовой, ежась в шерстяных кофтах, группкой шли в пищеблок…
На бельевых веревках висели с ночи влажные купальники. Пахло хвоей и розами. Собака с сонными глазами играла хвостом. Свалявшаяся шерсть ее не смущала.
На старом пне расположилась семья молодых опят. Асфальт с мокрыми жилками разделялся на три рукава. Один из них вел к памятнику Ленину.
Георгий шел, шлепая мокрыми тапками. Плавки натягивались. Полотенце болталось на правом плече. Он пропустил свой номер и завернул за угол. В женский сектор. Где чуть приторнее воздух. Где на скамейке дремала забытая кокетливая панамка.
Вот и домик 12-В. Он разулся и на пальцах пробежал ступеньки. Те охнули дубом. Холодная лягушка отскочила в кусты. Открыл дверь. Запахло теплым сонным женским телом. Николь спала на животе, подтянув к груди одну ногу. В полуоткрытых губах копошился сон. Он снял мокрые плавки. Те, квакнув, упали на пол. Прыгнул в спутанную постель. Прохладным телом прижался к ее спине. В голову ударила страсть. Она выгнула попу под мягким углом. Чтобы ему было удобно. Он одной рукой обхватил соски. Стал их теребить. Николь, не открывая глаз, раздвинула губы и помогла ему войти…
И смешались ароматы. Его «Ланком» и ее «Шанель». И слились в один коктейль их соки и свежесть августовского утра. Съехались миры. На один перрон, на один вокзал. Отпала необходимость в словах и мыслях…Их страсть горела месяц. Каждую ночь. И была ворованная днем. За спинами шептались, завидовали, злорадствовали. Он целиком отдал только тело. Она – нечаянно сердце. Просто так случилось. Просто так бывает. У нее появились мечты. У него не было даже завтра. Только сейчас. Этим летом. Этой ночью…
Через время все так же спали. Не высушенные за ночь купальники, ноги 45-го размера, остывший оргазм. Ее руки безжизненно упали на пол, когда Георгий босиком вернулся к себе. Так же тихо. Только сил стало больше… Только мир хотелось на пару сантиметров приподнять… …За завтраком все смотрели на ее неестественно алые, зацелованные губы. Она с трудом ими ела молочную кашу. Николь не понимала, что это за еда. Хотелось глоток хорошего бордо и кусочек сыра рокфора. Вместо этого в молоке плавала разбухшая вермишель. Сверху сморщенная желтоватая пленка. Она попросила буфетчицу круассан с маслом. Та, поджав губы, придвинула тарелку с хлебом…
Посиделки у костра до утра.
Были мы почти как брат и сестра,
А расстались так беспечно, легко:
«Далеко ли ты живешь? – «Далеко».
Ю. Зыков
…Птицы боялись садиться на небо. В нем отражался толстый, жадный, студенческий костер. Сложенный как попало. Немного развязный. Никто не потрудился выложить его в виде звезды или наподобие охотничьего. Сперва пытались сложить поленья срубом, чтобы получился колодец. Но колодец завалился и теперь все время на бок заваливался огонь. Живой… Очень подвижный… Очень свежий. Прозрачный настолько, что хорошо видны розовые лица на противоположной стороне. И сам почему-то розовый.
Настраивалась гитара фальцетом. Хаотично трещали поленья, а потом разрывались, выпуская в небо новую порцию искр.
Перепуганные птицы прятали головы в крылья. Сидели на самых тонких опасных ветках. Настороженно прислушивались. На шее дыбились перья, открывая серую кожу.
Студенты располагались по кругу, прижимаясь плечами. Ковыряли палками в костре, пытаясь его раззадорить. Потом этими палками лупили комаров, пачкая их морды в сажу. Шутили над опоздавшими, которые бегали за спинами по кругу в поисках щели.
Вдруг стала послушной гитара. Костер ушами прижался к земле. Знакомые аккорды, мягкие от дыма. И все нестройным хором запели Визбора:…Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены,
Тих и печален ручей у янтарной сосны…
Николь сидела возле Георгия. Дышала продымленной футболкой. Смотрела, как в костре горят звезды. Толкала его локтем, удивляясь, почему не подпевает. А когда он запел – засмеялась. Оказывается, он совсем не умеет петь. Он не понимал, как это растягивать слова? Куда их надо тянуть? На каком слоге? И как это – по нотам? Огонь ползал по земле и слушал. Веселился. Все уже перешли на «Три плюс пять» Аллы Иошпе. Николь нежно подпевала на припеве:
– Антон, Андре, Симон, Марья,
Тереза, Франсуаз, Изабель и я…
Из ночного леса доносились непонятные звуки. Дым вползал в волосы и укладывался там спать. Чьи-то руки впервые соприкасались. Кто-то, видя медленное пламя, по незнанию подбросил свежую хвою. Из костра повалил густой дым. Поющие сглотнули.
Наташа смотрела на все обожженными глазами. Видела, как Николь останавливает ладонью летящую к его глазам паутину. Чтобы тут же не умереть, переводила взгляд на красные как кровь угли, с шипением выпрыгивающие на траву. И казалось, что этот огонь горит не в наспех вырытой яме, а у нее внутри. И когда искры прожгли желудок и стали подбираться к сердцу, она вырвала гитару на полутакте. Она не могла больше этого выносить. Наташа решила спеть. Не хором… Одна… Только для него…
Над костром стало тихо и напряженно. Георгий растерялся. У Николь сузились глаза.…Опустела без тебя земля…
Как мне несколько часов прожить?
Так же падает в садах листва
И куда-то все спешат такси,
Только пусто на земле одной
Без тебя, а ты…
Ты летишь, и тебе
Дарят звезды свою нежность…
Наташа пела глубоким грудным голосом песню Майи Кристалинской. Смотрела ему прямо в душу. Чуть касалась пальцами струн. Было страшно. Она сама не понимала, как решилась на такой отчаянный поступок. Георгий не предполагал, что у нее внутри такие ожоги. И такой чувственный альт. Ему стало жарко. Может, от жара костра? Все дружно переводили взгляды: с него на Наташу, с Наташи на Николь. А она пела…
Слушали лошади на дальнем лугу, слушала пыль, обнимающая дорогу. Даже кузнечики в роскошной траве повременили с любовным стрекотанием.
А Наташа говорила ему о любви. О том, что жизнь без него, как полная остановка сердца. Как лето без скромно цветущих лугов… На последней фразе споткнулась. С си бемоль почти на ля. Из-за набегающих слез стали не видны ноты, написанные золой. Не справившись с собой – отдала гитару, закрыла руками мокрое лицо и убежала. Георгий сделал шаг за ней. Николь намертво задержала руку.
Огню стало неловко. Он закапризничал. Заметался. Ему вылили на голову ведро воды и стали расходиться.Ближе к ночи у Наташи разболелась голова. Она накрутила на лоб мокрое холодное полотенце и страдала. Обдумывала, как убить Николь. Из-под полотенца выглядывали безжизненные капустные листы. Пришлось бежать в столовую и выпрашивать. Ничего другого Наташа не признавала. И ее мама только так снимала боль.
Девочки лениво полулежали на кроватях, слушая собирающийся дождь. В открытые окна залетали туповатые черные тучи. Откашливался гром. Беззвучно попискивала молния. Они смотрели на страдающую Наташу и по очереди давали советы.
– Ты выглядишь смешной. Где твоя гордость? Все в лагере знают, все смеются. Оставь его в покое. Видишь, он с другой. Не лезь, не отбивай.
Наташа почувствовала себя еще более несчастной. От мыслей кружилась голова. Да еще месячные не могли остановиться вот уже неделю. Она умирала, когда встречала их на танцах или бредущими вдоль ржаного поля. Раскрасневшихся, окутанных тайной, пахнущих грехом. У Николь победно горели глаза, в волосах была спутанная трава, а вымятая его руками юбка поглаживала загорелые ноги.
– А ты предложи ему то, что дает она. Отдайся! Я думаю, он оценит, тем более ты девочка, не то, что эта шлюха.
Наташа стала красной. А может, это и выход. Только как? Стыдно. И страшно очень. А если кто-то узнает? А если вдруг беременность? Что тогда?
– Наоборот, беременность выход. Он тогда на тебе женится.
– Да нет, чтобы не забеременеть – нужно просто подмыться мочой…
Они были уверены… А как по-другому?
Никто из них еще ни разу не был с мужчиной. Это была мечта, которую можно достать из тайника только ночью. Лежа в неудобной постели, укрывшись одеялом по плечи, боязливо изучая свое тело – рисовать картины долгих ласк. Придумывать слова, выверять шепот. Никто из них не пережил ничего подобного. Никто из них даже не предполагал, насколько это сладко. У всех, через время, это случилось. В спешке, в страхе, в боли. У всех были потные скользкие ладони, жадно трогающие грудь и тут же снимающие трусики. А потом что-то разрывающееся с треском внутри и вес с тонну сверху. И ужас от того, что идет кровь и непонятно, как дожить до менструации.
Не имея ни малейшего понятия, все наставляли, как себя вести.
– Главное, расслабься, а то ему будет больно.
– А еще лучше, не шевелись. Мужчины этого не любят. Лежи спокойно.
– Одень лифчик получше.
– Мужчины любят, когда им целуют соски.
– И не стони, если неприятно, будешь раздражать…После дождя на земле лежали поломанные руки деревьев…
Летний день течет неторопливо,
Ситец неба ласточки стригут.
Для меня заботливая ива
Расстелила тень на берегу…
Б. Банифатов
С утра в воскресенье упала нежная жара. Густая и желтая, как тыквенный суп-пюре. Чуть линялая. С запахом поздней черной смородины. Августовская… У всех во рту было сладкое, как дыня, солнце.
Пляжный песок еще подогревался. Прохладный Днепр стоял на месте. У него не моргали глаза, и не двигалась тень. Розовые кувшинки на середине только вынырнули, поэтому были мокрыми и очень стеснительными. В воде плавали накрученные на бигуди облака. И маялись лодки с острыми носами. И весла досыпали по бокам.
В этот день не было ни тренировок, ни соревнований. Студенты, смешавшись, разлеглись на пляже. Спали, играли в волейбол, плавали за цветами. Те спешили нырнуть обратно. Многие играли в карты, навешивая друг другу погоны. Огромные оводы и слепни патрулировали берег.
Все разделись, и девушки стали восприниматься по-другому. Округлости, линии бедер, нежность полностью прикрытой груди… Парни видели их, как впервые. Русская, французская, украинская речь звучала одновременно. И только смех, молодой и беззаботный, звучал на одном, понятном всем языке.
Купальник Николь на фоне других – ситцевых и сатиновых – выглядел вызывающе. Он был по фигуре. Полностью обнажал пупок и стройнил ноги. На остальных резали глаза самостоятельные подгоны. Она даже не предполагала, что в советских магазинах мерить белье категорически нельзя. Ведь еще в далеких 50-х ее мама имела бикини, как у Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину». А тут, словно намертво застряли в развитии.
Она свысока смотрела на девушек в безобразных, высоких трусах, собранных резинкой на ногах и на талии. В горошек и глупый цветочек. На ужимистые движения. На попытки скукожиться и спрятать побольше тела. Из-под резинки торчали волосы. Практически у всех. Ведь если их нет, то всем было понятно, что на днях имел место аборт.
Николь, наоборот, открыто демонстрировала свою сексуальность. Сняв верхнюю часть купальника, загорала топлес. Все глаза косили в их сторону. Все головы в пол-оборота были с расчетом на увиденное впервые. Георгий напрягся и вытянулся как струна. Он стал одним большим ухом. Готовым за любой, даже крохотный смешок вскочить и дать в глаз. И все пытался понять, почему так тоскливо? Некомфортно. Вроде и девушка у него самая сексуальная, но что-то неприятно ползает под самой кожей.
А Николь лежала на спине, забавляясь произведенным фурором. Полная, чуть расползшаяся грудь с торчащими сосками улыбалась. Она покачивала изящной ступней, время от времени зарывая ее в песок.
Наташа, в пуританском безликом купальнике, больше похожим на нижнее белье, стала задыхаться. Она уже прокручивала в голове письмо в институт. Его нужно отчислить. Из института, из комсомола. Ее ноздри раздувались. Она чувствовала себя глубоко несчастной и разочарованной.
А Георгий уже шел с ней купаться. Высокий, почти как тополь на противоположном берегу. И Николь – почти голая, с вывернутой тайной. Весь пляж привстал, рискуя сломать себе шею. Даже птица, совершая обзорный полет над Днепром – зависла и стала захлебываться горячим воздухом. Николь, намеренно медленно, входила в воду. Мелкие водоросли с открытым ртом ползли по ноге. Полосатая оса летела на одном месте, над ее левым заостренным плечом. Георгий ее отмахнул в сторону. Вода щедро обняла за талию. Она так принимала всех. Вакуумно поцеловала. Николь обхватила его бедра своими и характерно раскачивалась. Ему стало неловко и чуть грустно. Он поставил ее в ил и поплыл…Николь, брошенная по пояс в воде, думала. О том, что не встретит такой, как она, больше никогда. Что как теленок пойдет за ее манящим пальчиком… И он шел за ней. Тридцать дней. А когда месяц закончился – он так же продолжал идти, но уже в другую сторону и по другой дороге.