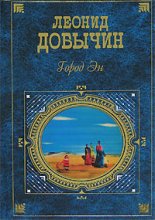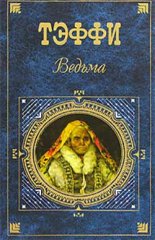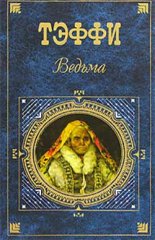Почти последняя любовь Говоруха Ирина

Но Георгий отрицательно замотал головой.
– Люд, давай встретимся послезавтра. Поздно уже. Тебе нужно хоть немного поспать перед первой сменой.
Помыться не было возможности, и она обтерла его досуха полотенцем. Потом он торопливо натянул брюки и тихо закрыл за собой дверь.
На улице было неестественно сонно. Снег вобрал в себя все звуки. Впитал осеннюю жидкую грязь. Прикрыл страшные яблоневые листья. Даже собаки не брехали за заборами. И тускло не горели фонари.
Он уходил наугад. Долго бродил по улицам Тешебаева, Кирпоноса, пока наконец-то не вышел на Бабушкину. К метро он попал к четырем. Главная дорога все еще была пуста. Еще не выехали снегоуборочные машины. Только медленно каталось одинокое такси. Но в кармане болтался единственный пятак…
И вдруг зазвенел первый дежурный троллейбус, направляющийся в депо. Он сел в него, радуясь удаче, согрелся и даже начал задремывать. И дремал до самой улицы Льва Толстого…
Первую пару он проспал…Целую неделю Георгий не мог о ней думать. Ему становилось тошно от воспоминаний. Он принципиально не пошел на свидание. Внутри почему-то все подмерзло…
А дней через десять – неожиданно затосковал. Появилось острое желание все повторить и немного улучшить. И он снова пришел на швейную фабрику… Но Люда уже там не работала. Она вчера уволилась.
В отделе кадров наотрез отказались давать ему ее домашний адрес. И потом он еще долго бродил по Нивкам, мучительно вспоминая ее дом. Но вспомнить не удавалось. Была слишком темной та зимняя бестолковая ночь.…Через четыре года они случайно встретились на улице Щербакова, и она с визгом бросилась на шею. Благодарила за то, что тогда ее не тронул. Не прошил собой ее жизнь. Оказалось, что Люда долго страдала, и так и не смогла справиться с первыми обостренными чувствами. Написала заявление об уходе, упаковала вещи и почти что выехала домой. По дороге, в автобусе, встретила футболиста, крепкого бородатого парня и неожиданно для себя заинтересовалась. Потом влюбилась. И сейчас, вот уже месяц, как родила ребенка. В руках были пакеты с пеленками и бутылочками.
Она была располневшей, в каждодневных коричневых туфлях без каблуков. Ее грудь, налитая вкусным молоком, еле умещалась под батистовой блузой в деревенских мальвах. Чуть отяжелевшие бедра… Люда выглядела счастливой. Она больше не пыталась поступать в мединститут. И даже забыла о такой мечте…
Через двадцать лет они опять пересеклись. На этот раз на ж/д вокзале. Каждый ехал своей дорогой. У каждого теперь была своя высота. Она стояла перед ним, неухоженная сельская тетка. Мать-одиночка. Давно разведенная. В руках были огромные клетчатые сумки с помидорами и хлебом. Смотрела на него, жадно сглатывая память……И все-таки какая же вкусная жизнь. Богатая на дороги, встречи, расставания. С привкусом ванили, клубники, молока. Цветная. От шоколадного оттенка вспаханной земли до красных листьев дикого винограда. И пахнет свежим хлебом с маслом, ноябрьским стеснительным снегом, крымской чурчхелой. И можно трогать руками. Слушать ее звучание. И плакать, любить, и снова плакать. Радоваться, что к твоей жизни прикоснулся именно Он… Георгий…
Зима 2010 года. Киев
Шел мужчина. Просто прохожий.
Без пальто, хотя выцвели клены.
Каждый шаг, предыдущего строже, —
Со скамеек следили вороны.
Шел мужчина, ровные плечи.
Без шарфа, хотя скользкие камни.
Шел на юг, почему-то под вечер,
Когда все запираются ставни.
Когда в парке немеют аллеи,
Когда ветер зевает в ролеты.
Шел мужчина на юг все скорее,
На удачу бросая монеты.
Небесные глаза выдавливали из себя снег. Расстояние между снежинками было не меньше двух этажей. Он, от усердия, падал очень концентрированным – даже синим. Очень колючим. Словно из иголок. Изысканно ажурным.
Он улетал в Австрию. И не разрешал ей ехать в аэропорт. Из-за снегопада. Они попрощались по телефону. Скомканно… Коротко… Сухо… И ее сразу стала только половина… Одна рука и нога, полсердца и полмозга. Вторая половина уехала с ним.
Однобоко было неудобно ходить, тем более удерживать равновесие. Она ходила, опираясь на палочку. Или только под кирпичными стенами. С трудом ела и пила. Прыгала в одном сапоге по колено. Смотрела одним глазом на черно-белый мир. И все звуки были в одной тональности – соль минор.
Половинки бигуди ломали волосы. К вечеру от полголовы была целая головная боль. И не поплачешь. Выкатывается по полслезы, а другая половина выжигает зрачки.
И дышать было нечем. Одно легкое не успевало. Она спала в мороз при открытом окне и задыхалась.
– Дорогой, я хочу быть целой!
Но дорогой был далеко.
А потом вдруг и вся планета уменьшилась в два раза. Полсолнца, полнеба, полсмеха… И полдня стали заканчиваться тут же утром. И полкофе хватало только на полминуты. Глупо выглядели полмысли, и страшно звучала половина смеха.
По телевизору стали показывать только полфильма. В хлебнице всегда лежало полхлеба. И так хотелось съесть целый апельсин, даже с кожурой и косточками, но в магазинах продавали только половинки. И так было тесно в половине платья, и непонятна половина книги…
Она приходила в кассу, но и там выдавали только полбилета. Она с ужасом заходила в пол– автобуса и проезжала полпути. А на работе светилась только половина монитора, и телефон звонил в ползвонка.
По дороге бежала собака на двух худых лапах. Части забора заваливались в белую землю. В метро ехало полвагона и все гадали, в какую половину им заходить. И все было нелепо. Неправильно. Абсурдно…
А потом самолет «Вена – Киев» выключил свет в салоне, выставил свои короткие ножки и мир тут же стал другим. Как раньше. Идеально целостным.
…Она готовилась к свиданию… И это становилось настоящим ритуалом… Тело больше не было телом. Это был сосуд, куда складывались события дня, мимолетные и осознанные мысли. В него лился чай, глоток коньяка, падал кусочками банан и втекали разговоры…
Из этого сосуда ему вечером пить. Она не могла допустить, чтобы он пил яд.
Зажигались свечи. Она смотрела на их развевающиеся волосы, и свеча уже горела внутри, разогревая мышцы. Она легонько наглаживала свое тело, подготавливая его к мужским прикосновениям. И говорила телу: «Здесь будут его руки, здесь будут сжимать, а в этом месте порхать, как крылья бабочки». Тело запоминало… Ждало… Трепетало…
Чуть ниже пупка садилось жирным пятнышком масло «страсть». Он его слышал еще дома. И еще дома начинала возбуждаться плоть.
И глоток коньяку… Она выпивала этот мужской запах. Острый запах его желания. Пьянее ничего не было. Коньяк сползал, обжигая легкие и печень, и целенаправленно устремлялся в низ живота. И когда страсть становилась неуправляемой, он пытался проникнуть еще глубже. Прижаться еще теснее. Все хотел разгадать ее тайну……А потом они поехали кататься…
У города загорелись глаза. Загорелись окнами, фонарями, фарами. Он сразу стал праздничным и чуть моложе своих лет. Мост, друживший с Днепром, подставил им свою спину. Они ехали смотреть город вблизи.
На набережной тосковали корабли. Они мечтали не о такой жизни. Их старательно украсили гирляндами, но тоска еще больше выступала вперед. Как неудачно выросшие зубы.
В салоне было тепло. Он вел машину, словно занимался с ней любовью.
– Это библиотека. Видишь окна? Я просиживал здесь до закрытия.
Окна нависали над дорогой. Большие и чуть раскосые. За окнами начинался стадион и память о городском катке «Крижинка». А потом был парк с первым свиданием, кусты, в которых он дрался из-за бильярда, гастроном с любимым пражским тортом.
Они ехали в прошлое. Его истории ставали частью ее жизни. Она пропитывалась его воспоминаниями, как кремом пропитываются коржи. А он сам, того не зная, откладывал в нее кусочки себя…
Город был красив. Любовался собой в каждой витрине. Шел, постукивая модными лакированными туфлями с длинными носами. Ежился. Оделся не по погоде.
Под домом не могли расстаться. Он не хотел ее отпускать. Ведь она уносила самые яркие фрагменты молодости…Я люблю тебя, слышишь, зима.
Я люблю твое платье седое,
Я люблю, как ты сходишь с ума,
И как плачешь на аналое…
Я люблю, как ты снегом летишь,
Как ругаешь морозом прохожих.
Я люблю даже то, как ты спишь,
На своем белом девственном ложе.
Ночью, в воскресенье, навалило много снега. От него болели глаза. Разве можно быть таким совершенным?
Снег шел по земле, как рядовой инженер на службу. В меховой шапке и с потрепанным портфелем, из которого вылезли бумажки. Пальто с каракулевым воротником и новые галоши. Снег был чудак. Очень странный… Очень добрый.
Она у него спросила: «Который час?». Снег посмотрел близорукими глазами и надел очки. Старенькие, с толстыми стеклами. На левом была трещина. Он плохо видел. Теперь понятно, почему летит как попало и лезет под шарф.
Он шел, чуть сутулясь. А когда на секунду выпрямился, оказалось, что он высокого роста. Совсем не старый. И очень приятной внешности.
Они гуляли в Мариинском парке. Втроем: он, она и снег. Парк выглядел как новогодняя открытка. Он и она любовались, снег просто шел рядом.
А потом захотелось есть. Снег открыл портфель. У него в промасленной бумаге были бутерброды с докторской колбасой. Они втроем сели на лавочку и ели, запивая чаем из термоса. В термосе был запаренный шиповник. И на минуту показалось, что этот момент самый счастливый. Парк, закутанный снегом, как пуховым платком, он – с серыми глазами, фонари с круглой головой и спящие в накрахмаленных пижамах деревья.
Они почти не разговаривали. Просто шли прочищенными дорожками, огибая замерший фонтан. Какая-то ветка не выдержала своей ноши и рухнула им на голову искрами и бриллиантами. И он ее поцеловал. И было тепло, как у камина. И солнце подсматривало из-за облаков.
– Я тебя люблю, – прочитала она по губам.
Они пришли домой, выкачанные в снегу. Снег шел за ними. В гости… Дошел только до порога…
На кухне он готовил глинтвейн. В красном вине – яблоки и апельсины заигрывали друг с другом. Их подстегнула корица и гвоздика. Глоток… Глаза напротив – самые любимые. Если смотреть долго – можно умереть. Подмерзшие ноги у него под бедром. Слышна поступь полудня. Глоток… Он перебирает руками ее волосы. Она целует ему сердце. На полу ее сережка. Глоток… Его дыхание самое вкусное. А на груди выросли цветы. Она открыла глаза, чтобы посмотреть, что же он с этой грудью делает? Он был обнажен. Его тело звало ее руки. Звало так громко, что это было слышно даже соседям за толстой кирпичной стеной. Полусон. Все мысли замерли. Полустон. Все мышцы напряжены как натянутая струна. Ее мышцы стали теплым воском. Она целовала его запястье, изгиб локтя, подмышки. И казалось: все. Большей нет сладости, чем сладость его рук и стоп… Оказалось есть. Запах… Коньячный запах его плоти. Терпкий. Пряный. Запах дурмана. Первобытный. Дикий…
Она столкнулась с его глазами. Они были тяжелыми от страсти…
…Однажды, когда метель мела третий день и не видно было дороги, и вечер начинался в обед, она решила напомнить ему ягодное лето.
В креманках на тонких ногах собрались замороженные клубника, смородина и даже персик. На голову им упало мороженое. В стаканах – клюквенный морс. Из «Макдональдса» – пирожки с абрикосом.
Она вплела в волосы цветы. Надела платье ежевичного цвета и надушилась собой.
В свежезаваренный чай нырнул лимон с головой. И от сахара на столе потекла липкая дорожка.
Он был удивлен и рад одновременно. Нашел в шкафу гавайские шорты и линялую майку. Он решил ей подыграть…
…А когда все было съедено и выпито, и тонна солнца упала в закат, вошла восточная музыка. Она медленно встала с колен. Он не понимал, что будет дальше. Оголила круглый животик. На запястье запрыгали браслеты. И мягко качнулось бедро. Он не шевелился. Ему впервые дарили такой неуклюжий и самый прекрасный танец.
И он вспомнил еще один ужин, начинавшийся практически так же…1973 год. Последний курс. Киев
…Маечка, в синем форменном халате, стояла за прилавком центрального гастронома, отпуская салаты, бифштексы и просто вареные яйца. Без скорлупы. Трясла мелкими кудрями и старалась незаметно себя понюхать под мышками: прилично ли она пахнет? Она часто работала во вторую смену и освобождалась только после 23:00. К этому времени у нее распухали ноги, окончательно уходила свежесть с лица и намертво врастал запах котлет.
Она заученными движениями взвешивала тефтели, из которых вываливался хлеб, и нервно поглядывала то на часы, то в черную магазинную витрину. Когда освобождалась хотя бы одна рука – поправляла каштановые, с ржавчиной, волосы. Сжимала крепко губы, пытаясь придать им цвет. Помада осталась забытой в коридоре на полочке.
Посетителей в это время было мало. Какие-то заблудившиеся просили полкило винегрета. И она захватывала совком кубики вареных овощей, поплывших от соленого огурца. Кто-то спрашивал бифштекс… И вдруг дверь распахнулась, обдав ее уличным проветренным воздухом. К ней быстрой, спортивной походкой наконец-то приближался Георгий. С большой сумкой через плечо с плавательными принадлежностями. Она улыбнулась ему всем лицом и стала похожа на божью коровку. На ее красной, от смущения, коже отчетливо проявились коричневые веснушчатые точки.
– Привет, как тренировка?
Майя услужливым движением уже клала на весы горячий жареный хек, который его дожидался в духовке.
– Да как всегда. А ты как?
– Устала…
Маечка красноречиво вздыхала, потом зевала в тыльную часть ладошки и кивала на часы.
– Через пять минут закрываемся, проводишь к остановке?
Подобные рваные диалоги возникали между ними уже давно. Ей очень хотелось, чтобы они стали с намеком на продолжение, но он придерживал «развитие» таких отношений. И ей ничего не оставалось, как ждать, вглядываться в квадратную, модно украшенную витрину и считать дни: пн., ср., пт.
Каждый раз Георгий поедал глазами рыбу, прижимал к груди батон и мечтал побыстрее оказаться в своей комнате, чтобы включить старую настольную лампу, разложить у окна и поскорее все это съесть.
– Маечка, только побыстрее, у меня завтра лабораторная по хирургии.
Маечка неслась в подсобку, сдирала халат и хватала сумку. От нее пахло разномастной едой и интересом. Они шли бодрой походкой, темп которой задавал он. Ее распухшие пальцы вылезали из босоножек. Она старалась прижаться к локтю, но он внимательно оберегал свои свертки. И запихивал ее в первый же автобус, хотя она намекала, что не спешит и может спокойно доехать на последнем.
Так продолжалось несколько месяцев до лета. А потом он пропал, ее веснушки выгорели на солнце, а волосы больше не отдавали пожаром. Она чуть поправилась в груди и бедрах и больше не суетилась за прилавком отдела кулинарии. Шатко, с натяжкой закончила первый курс, забросила конспекты на антресоли и осталась в городе, игнорируя с трудом доставшуюся путевку в Ялту. Работы было меньше, вокзал каждый день провожал куда-то отпускников и стали ходовыми овощные салаты.
А потом запаренное лето закончилось, в город съехались дети, отбывавшие каникулы у бабушек, и стало веселее. Он пришел в первых числах сентября, как ни в чем не бывало, после тренировки, чтобы купить горячий хек и теплый батон. Как всегда, его пустой вымотанный желудок сдавливали голодные спазмы. От него пахло бассейном и чем-то животным. Она его не ждала, поэтому и не приберегла любимую рыбу.
– Маечка, рад тебя видеть, – старался смотреть ей в лицо, а сам выискивал глазами свой привычный ужин. – Как провела лето? Где была?
Маечка покрылась испариной и даже немного вспотела. В ее живенькой головке происходило какое– то соображение, а потом она оставила прилавок, достала замерзший брусок из холодильника и отправилась его жарить, крикнув через плечо короткое:
– Жди, я сейчас.
А Георгий остался стоять на потоптанной плитке, напоминающей игру в домино. И был вынужден успокаивать собравшуюся и очень взволнованную очередь, которая до закрытия хотела отужинать. Минут через двадцать она появилась, раскрасневшаяся, пропитанная крепким рыбьим запахом с весомым куском, который тут же бросила на весы. Они указали ровно на двадцать три копейки.
Они вместе закрыли магазин и направились к остановке. Ей все хотелось прижаться поближе, но он, как всегда, оберегал свой драгоценный пакет. А потом, неожиданно для себя, пригласил к себе…В его комнате пахло юностью, тетрадями и кустами сирени, которые настырно лезли в окно. Под стеной стоял огромный черный кожаный диван с полками и зеркалом посредине. На полках на одной ноге жили чугунные старинные подсвечники.
Они зажгли свечи и накрыли стол. Хек, батон, конфеты и шампанское. Разложили треугольником салфетки. Достали из тумбочки разномастные стаканы. Вместе бегали на улицу, чтобы позвонить маме из автомата. А потом предупредить и подружку, у которой Маечка осталась ночевать. До ночи говорили, смеялись над общим другом с чудачествами и грели самовар, чтобы помыться.
Его большой кожаный диван от давности вздулся как воспаленный прыщ. Ровно посредине. Когда он спал один – «прыщ» уходил в пол под тяжестью его тела. А Маечку пришлось придерживать рукой, чтобы она не скатилась, как с горки. С простыней, по которым зеленым было каллиграфически написано «Минздрав». Ему не пришлось ее раздевать, разъединяя петли лифчика. Она сама все сняла, постирав в умывальнике белье и вывесив ее на веревку за ставнями. А потом лежала с напряженными обеими руками, внутри которых стали металлическими мышцы. Одной рукой она намертво придерживала торчащие соски, а второй – как лодочкой закрывала вход во влагалище.
У Георгия натянулись нервы и не осталось ни одной ощутимой части тела, кроме выпученного члена. Он боролся с Маечкой, недоумевая: пришла сама, изначально зная о последующих событиях, разделась до наготы и разделила его постель. Заняв ровно половину. К чему тогда этот карнавал?
Из крана капала вода. Она, по незнанию, его плохо закрыла. В перерывах между борьбой он еще больше раздражался, слушая эту бесцветную, звонкую ноту. Случайные машины оставляли на стенах желтые пятна от фар. Они расползались, словно были под воздействием алкоголя. Он перекатывал между влажными пальцами ее соски – она била его по рукам. Получались звонкие хлопки. Он хотел поцеловать ее в шею – она начинала кусаться. Он пытался аккуратно войти – она брыкала его полными от колена ногами, больно задевая настороженный пах… А когда стало судорожно светать и Георгий, измученный бессонной ночью, бессмысленностью происходящего, отвернулся, чтобы хоть немного вздремнуть – Маечка вдруг засуетилась. Она неожиданно испугалась, что все напрасно. Что-то, чего она так усиленно добивалась, выходит из-под контроля. И больше не будет никаких попыток.
И тогда решила сдаться, ведь она уже достаточно набила себе цену.
И все случилось… Быстро и неинтересно. Он кончил одним длинным движением… А она победно повернулась к нему лицом и глупо улыбаясь, сказала:
– Вот женишься на мне и будешь это делать каждый день. Вот так!
И удобно устроила неаккуратную голову на подушку…Георгий промолчал. Он пытался переварить эту бессмысленную ночь. Только сирень шелестела листьями, как старыми газетами, и ставни скрипели в навесах. И Киев в дымовой осенней куртке пытался не проглядеть утро…
Вся трогательность, нежность вчерашнего вечера удрала через окно. Сверкая чуть пыльными пятками. Остались досада и сожаление о сделанном. Он провел время в погоне за страстью, которая вблизи оказалась мыльным пузырем. Блестящая, с розовым перламутром снаружи, внутри оказалась пустой.
Он не мог больше видеть ее рядом и выносить болтовню. В комнате уже сидел на стуле белый, очень бледный призрак утра. С красными невыспавшимися белками. Доедал куски их ужина. Заглядывал в пустую бутылку шампанского, кося глазом в горлышко.
Стены отражали серость Маечкиного лица. Она хозяйничала за окном, собирая стирку, грела самовар, расставляя чашки, и не замолкала ни на секунду. Она прыгала вокруг него и рассказывала, что сегодня вечером они идут на балет, а завтра к ее подруге в гости. Он же хотел, чтобы ничего и не было, чтобы она провалилась с ее хеком и манерностью в постели. С ее мозгами, начиненными ерундой. Они вышли на улицу, где моросил непонятный дождь. Прошли мимо парикмахерской с нарисованными ножницами, мимо нотного магазина и пельменной. А потом, за углом – разошлись в разные стороны…И он целый месяц ходил в другой магазин, в котором жарили плохо и хуже обслуживали. В котором рыба продавалась еле теплой, а то и вовсе ледяной. А когда, устав от несъедобной пищи, заглянул в кулинарию снова – Маечка от него отвернулась. Она его презирала, ненавидела всей душой, только ему было давно и откровенно – все равно. Его вышла обслужить уже другая, такая же доступная продавщица…
Зима. 2010 год. Киев
От любви подгибались колени.
Я лечу за тобой, словно птица.
Я лечу уже год в оперенье.
И никак не могу приземлиться.
Твои крылья на целую стаю.
Ты паришь, обнимая полсвета.
А я здесь, на Земле, засыпаю.
Здесь мой мир и моя планета.
Ты пьешь небо большими глотками.
А устал – отдыхаешь на крыше.
Что-то строишь своими руками,
Поднимаясь выше и выше.
Стая птиц у соседнего дома
Прилетела вчера на рассвете.
Я бегу, но она незнакома,
Где же ты? На какой ты планете?
…Она, как бездомная, шла по улице. На ходу снимала варежки, трогала глаза. Глаза были с ресницами. Но они ничего не видели.
– Вы что-то потеряли?
Она не могла вспомнить что… Поминутно доставала телефон. Прохожие читали одну и ту же фразу: «Непринятых звонков нет».
Снег почти сошел, и земля оголилась. Она стеснялась своей наготы и натягивала на себя призрак. Мороз сидел на остановке…
– Ты где?
– Я здесь.
– Я не слышу твой голос.
– Слышишь. Внутри себя.
– Обними меня.
– Я уже обнимаю…
На асфальте лежала тончайшая пелена льда. Лужи сжались, а потом так и застыли.
– Помнишь, прошлой весной магнолии?
Он наморщил лоб.
– Ах да. Они же у меня под окнами.
– Я их увижу еще?
– Ты их все время видишь…
Стало темнеть. Вытянув шею, фонари наклонились над дорогой. Ветер ехал в автобусе и смотрел в окно.
– Ты вчера ела мед.
– Как ты знаешь?
– Он до сих пор у меня на губах…
Подморозило. Воздух стал синим. Собака заскулила и легла на картонку спать.
– Я не могу тебе позвонить.
– Знаю.
– Я не могу без тебя жить.
– Ты должна жить…
Парк насквозь пропитан январем.
Отдыхают старые качели
Остановка близко, за углом.
И трамвай проехал еле-еле.
Вот зима уселась за рояль.
И играет просто, лишь по белым.
Ты не смотришь на меня, а жаль.
Я тебе понравиться хотела.
Спит на ветке толстый воробей.
А, проснувшись, прыгнул прямо в лужу.
Я тебя встречаю у дверей.
Может быть, по-детски, неуклюже.
Парк молчит. Он словно неживой.
Лишь зима играет сонатину.
Я живу как будто бы с тобой.
Только почему-то ветер в спину.
…Это была трудная зима. В небе образовалась дыра, и оттуда радостно и беспрепятственно валил снег. Люди надели валенки. Снегири насунули шапки. В каждом дворе стояла кривобокая снежная баба. Какая-то птица повадилась отъедать ей нос. За морозом не было видно воздуха. Но пришел Николай…
На кухне доходил пирог с сыром. Тонко пахло кислой капустой, огурцами из бочки и помидорами. Желтые свечи дразнились, у кого длиннее язык.
– Привет. К тебе невозможно доехать. Разве что на санях.
– Ты голодный?
– Как никогда.
Через минуту он, в домашних джинсах и теплых тапках, жевал с закрытыми глазами. С помидоров стрелял сок. Маленькие грибочки вкусно хрустели, и таял пирог. Они пили домашнее вино. Она – много, а он – чуть– чуть. А когда на кухне стало жарко – зашли подарки. У него была большая, с вертикальными полосками, коробка. У нее – маленькая, пахнущая модными духами…
У Любви бывают мигрени. Иногда ей холодно. Иногда ей хочется умереть… Но сильная любовь умеет терпеливо пережидать. Слабая – нервно закрывает дверь перед самым носом.
У нее иногда, от слабости, кружится голова. А от жажды пересыхает во рту. Она не может безостановочно смеяться. И тогда плачет, глядя на жидкий дождь.
Любовь – это и одинокий вечер, и молитва, и безусловная вера. Это – и вдруг случившаяся простуда, сложное настроение и чай, выпитый из одной чашки. И кто не принимает оборотную сторону Любви, тот не может принять всю Любовь.…Он болел… Она звонила и читала ему стихи
Увези меня к морю, хоть на день, хоть на час.
Я не скрою, конечно, денег мало у нас…
…У него был чужой голос, охрипший до колен. А между ними – тысяча километров.
У бесконечной зимы порвался календарь. Никто не знал, сколько еще? И нос, в придачу, потек. Так что под крышами только с носовым платком.
– Что болит?
– Душа. Очень сильно. Скучаю.
– Спасибо тебе.
– За что?
– Ты показал, как болеют настоящие мужчины.
По трубам, как по сосудам, бежала вода. Рядом – холодный пол. В углу выросла паутина. Она брала в руки пылесос, а руки падали вниз.
Он болел. Уже три дня. В коридоре не было света, и она билась об стены. Кто-то стучал молотком. Некстати… И некстати этот выходной… Она расправила юбку. Хотела его укрыть. Ткани не хватило.
Полночь. Выпит барбовал, валидол и корвалол. Впустую. Сна нет.
– Дорогой, ты не видел мое сердце?
– Видел. Оно у меня в груди…Он болел неделю, а казалось – вечность. Проснувшись ночью в мокрой рубашке, услышала его зов. Ему нужны были силы. Она закрыла глаза и провалилась в медитацию…
И увидела его, стоявшим на вершине горы. Повсюду лежал снег, и воздух поскрипывал на вдохе. Твердые, как мороженое, облака можно было достать, лишь подняв вверх руку. Он молча созерцал мир. И только ветер стоял напротив, так же широко расправив плечи. И только ярко-синее небо смотрело не мигая, в упор.
Одиночные вскрики ястребов нарушали тишину. Суровые горы окружали со всех сторон. Они были его братья. Они наблюдали жизнь тысячи лет.
Он был безумно красив. Солнце, подперев руками голову, любовалось им.
И весь мир принадлежал ему. И весь мир был у него внутри. Падали звезды, с опозданием в сто лет, белые лепестки снега водили хоровод. И повсюду пахло раем…
…Она сделала глубокий вдох и открыла глаза. Она знала, что вдохнула в него здоровье…
…А потом стали сниться странные сны… Она просыпалась и продолжала по ним двигаться. И уже было непонятно, где заканчивается явь…Приснился бы! Хоть мельком, в кои-то раз…
Как странно явь господствует над нами,
Что снятся нам обидевшие нас
И никогда – обиженные нами.
Из гордости… не снятся нам они…
Чтоб нашего смущения не видеть…
А может быть, чтоб, боже сохрани,
Нас в этих снах случайно не обидеть!