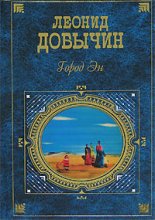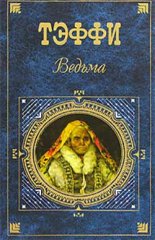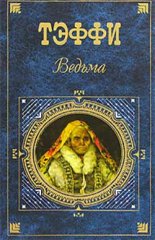Почти последняя любовь Говоруха Ирина

Что лето есть? Всего лишь остановка.
В безумном беге, в слякоти и стуже.
А платье яркое – ненужная обновка.
Пожалуй, в старом я ничуть не хуже.
Ирья
Наташа стояла перед зеркалом, обильно посыпая волосы мукой. Наутро они будут блестящие и чистые. Главное, сто раз расчесать. В книге по домоводству длинные волосы рекомендовали мыть раз в десять дней. Что она и делала. Рядом, на тумбочке, красовался флакон с «Ландышем серебристым». Духи только-только появились. И было удачей их купить даже в конце месяца. Пришлось стоять за ними в очереди полдня.
На подоконнике, в старом капроновом чулке хранилась хорошая горсть геркулеса. Она мылась этим как мочалкой каждый день. В итоге ее белая кожа была, как бархат. Жаль, Георгий этого не знает. Он каждый день трогает обветренное тело аморальной западной женщины. Бесстыдной. Так пишут в журнале «Работница».
Наташа с любовью посмотрела на майонезную баночку, в которой хранила свой очищающий крем. Она его сделала сама и очень этим гордилась. Терла детское мыло на терке и подогревала на паровой бане. А потом добавляла пол чайной ложки буры и по ложке борной кислоты, перекиси водорода и камфорного спирта. В итоге – кожа всегда белая и не нужна никакая пудра.
Она считала себя экономной, как и положено быть порядочной и высоконравственной советской девушке. Она была бы ему хорошей женой. Этим премудростям она научилась у родителей. Они никогда ничего не выбрасывали. Все сношенные вещи хранили в марлевых узлах, и обувь с оторванными ремешками, и сломанные игрушки…
И куда он смотрит? Николь курит, прячась за корпусами. На ней целый косметический магазин, накрашенные ногти на ногах! А ведь главное в красоте – естественность! Николь же вся искусственная!
Наташа открыла пачку желатина и полную столовую ложку запила водой. Так советовали болгарские врачи в том же журнале «Работница» от выпадения волос. Там еще был рецепт с чесноком: «1 дольку размешать в стакане простокваши. Оставить на ночь. А в течение следующего дня выпить.» Но в лагере это пить она не рисковала. А вдруг Георгий пригласит ее на танец, а она с чесночным шлейфом?…
Протерев лицо любимым огуречным лосьоном, заплела тугую косу, почистила зубы пастой «Ягодка» и легла читать.
Не читалось… Строчки все время подпрыгивали, отвлекая от такого важного смысла. Она цеплялась глазами за абзац, но вместо этого видела, как Николь загорала. Она выставила на обозрение свою грудь. А, переворачиваясь, старалась задеть его своим боком. А когда вдвоем шли к воде – цеплялись друг за друга мизинцами. И этот позорный купальник с пупком. И потом даже стыдно вспоминать. Она точно видела, как Николь, стоя по шею в воде, снимала с себя трусики и как его трогала «там»…
Она выставила посмешищем Георгия. Это не укладывалось в голове. Наташа даже в общежитие переодевалась при выключенном свете, отвернувшись к стене от подруг. Она никогда не видела свое тело без белья. И даже не представляла, как выглядят ее ореолы и тем более, какие у нее маленькие губы. Она вообще никогда не задумывалась, какой формы у нее половые органы. И никогда не трогала их без надобности рукой. От стыда разгорелись щеки. Она к ним приложила ладони с ухоженными ногтями. Маникюр делала регулярно, два раза в месяц в соседней парикмахерской за 25 копеек.
Стало нечем дышать. Она раскрылась и вышла на веранду. Соседки по комнате еще не вернулись с танцев. Возле ее любимой лаванды кто-то целовался. Так, что стонали стебли. С водостока монотонно капала вода, и резко запахло гвоздикой Шабо. Она разозлилась еще больше и вернулась в номер.
…Он в это время рисовал на теле Николь карту Европы. На одной груди оказалась Исландия, на второй – Финляндия. Франция прилегла на животике. Париж занырнул в пупок. Его рука ползла вниз, к Средиземному морю. Через миг пальцы стали влажными, искупались в нем. Николь, поднимая бедра, на них насаживалась. Из глаз уходило сознание. Из груди выкатывались выпуклые стоны, смешиваясь с дикими звуками ночи…
Ну кто меня сглазил, и зельем каким привораживал
Каким колдуном я настроен на этот искус?
Но где бы я ни был, какими путями не хаживал, —
Приводят они на Подол. На Андреевский спуск.
А. Лемыш
В среду он понял, что нужно ехать. Срочно показать любимый город. С Андреевским спуском, вышиванками и коралловыми бусами. Показать Дом с химерами, театр Франка и ресторан «Крещатик», дом органной музыки и Киевское метро.
Он вез ее в пыльном автобусе, перечитывая четверостишье:Не взяв билет, проехав так,
До денег видно жаден.
По форме – сбережен пятак.
По существу – украден.
На самом видном месте висела касса-копилка, в которую нужно бросить монету, крутануть ручку и получить заветный билет.
На каждой остановке заходили бабки с мешками картошки и корзинами перца, лука и фасоли. Ехали на рынок. У них были крепкие смуглые руки, широкие цветастые юбки и не очень чистые ноги в комнатных тапках. Они шумно передавали за проезд и договаривались, какую править цену. Глядя на Николь – вытирали платком поджатые губы. Осуждающе смотрели и на Георгия. На ней были джинсы с низкой талией, которые только вошли в моду, и короткая майка.
Женщина, сидевшая напротив, увлеченно чистила под ногтями. Вторая – перебирала ягоды. Третья – обрывала катышки на своей кофте. Все были при деле, и Николь затошнило…Георгий не понимал, почему в рядовом магазине она блуждающим взглядом смотрит на пирамиду из консервов. На потные банки с томатным соком, блюдце с солью и привязанную чайную ложку. Что удивительного в этих одинаковых рядах банок с хреном, пачках папирос и бутылках армянского коньяка? Разве что-то не так? Николь с ужасом смотрела на женщину в домашнем халате, покупающую сразу десять рулонов туалетной бумаги. А потом нанизывала их, чтобы повесить на шею. А в соседнем отделе стоял мужчина со своей банкой. Ему наливали сметану из бидона, вытирая потеки со стекла мутной тряпкой. И продавщица возле грязной картошки кричала страшным голосом: «Берите всю подряд, нечего здесь ковыряться!»
В молочном отделе на полу образовалась белая лужица. Люди, по-деловому, выбирали пакеты поцелее, поднимая их за треугольный хвостик. Хотя молоко до вечера могло и не дожить. Скиснуть. Магазин «Рыба» два раза обвивала очередь. Что-то должны были выбросить. Никто толком не знал, что это будет: скумбрия или селедка? Зато очень бодрила вывеска: «Быть здоровым и красивым хочет каждый человек. И ему поможет в этом рыба – серебристый хек»…
А потом приехали в Музей западного и восточного искусства. Георгий сразу потащил ее в зал «Искусство Франции». Николь было тоскливо смотреть на портрет дамы с маской и «Шторм» Клода Жозефа Верне, бронзовую чернильницу XVI века и чашу с изображением апостола Павла.
Ей хотелось посидеть в летнем раздетом кафе, с накрахмаленными белыми скатертями, с городским воздухом, задувающим под стол. Помолчать, потягивая нежное шампанское или даже немного коньяку. Понаблюдать, как коньяк пьяно лижет стенки бокала. Разобрать ложечкой на части бисквит с ананасами и сметанным кремом. А рядом пусть не спеша проезжает трамвай, и дети запускают змея с коряво нарисованной мордой.
Или окунуть спину в плетенное из лозы кресло и несколько часов наслаждаться любимым салатом: репчатый лук кольцами, яйца кружочками, дольки яблок и тертый сыр. Сверху – легкий домашний майонез. Запоминать вкус и привкус. Листать журнал мод. Чувствовать себя неотразимой.
Она устала от столовой с алюминиевыми кастрюлями и надписью красным: первое блюдо. От супа с большими кусками жареного лука. От липучек с дохлыми мухами. От убогих тарелок, гнутых вилок и гречневой каши-размазни. Она хотела кашу, как у мамы, с растертыми в порошок грибами и мелко рубленными крутыми яйцами.
Но в этой стране сидеть в кафе было не принято. Тем более в рабочее время. Тем более беззаботно и долго. Да и не встречались нарядные уличные кафе на целый тротуар. А за ним, через полквартала, еще одно. И еще… И женщин беззаботных не было. Идущих не спеша, с легкой модной сумочкой. С озорством в глазах. Только спешащие, с тяжеленными сетками продуктов. В одинаковых простых платьях невыразительной длины.
Николь затянулась. С треском проехал велосипед. Мальчик, не доставая до педалей, ехал под рамой. Другой стоял с ведром и что-то продавал. У него было разбито колено и криво залеплено наслюнявленным подорожником. Она заглянула внутрь. В ведре была сочная груша Парижанка.
Ее больно толкнул потрепанный мужичок с кипой связанных старых газет. Он нес сдавать макулатуру, чтобы получить талон и на количество килограммов, наконец-то, приобрести Конан Дойла. Георгий, почувствовав дым, сморщился. Николь мгновенно все поняла, и сигарета с шипением нырнула в урну.
Они шли в кино. На пятичасовый сеанс. Из двора выскочила кучка возбужденных детей. В их запачканных зеленым орехом руках пищал облезлый котенок. Они внимательно вглядывались в прохожих и звонко спрашивали.
– Дяденька, это не вы потеряли котенка? Тетенька, это не ваш котенок?
Отродясь ничейный кот, давно мечтал освободиться и всласть почесаться за ухом…
В кинотеатре было прохладно и серо. Многие мужчины сидели в рубашках с закатанными рукавами. Оказывается, теннисок не достать. В прокате второй месяц шли «Неуловимые мстители».
Она смотрела на экран иногда. В моменты взрыва музыки. Остальное время поглядывала на него. Русые длинные волосы во время смеха шевелились. Колени упирались в следующий ряд. Его рука осторожно кралась ей под юбку…С цветами, вплетенными в косы,
Хожу, зацелована летом.
И пахнут вечерние росы
Малиной и липовым цветом.
О. Альтовская
Ночью шел дождь. Стучал ногами по земле. Словно был обут в каблуки. Топтался по скромным астрам и сексуальным сальвиям. Смывал пыль с крыш. Сидя на коленях – отдыхал в лужах.
Ночью было тихо. Только слышно, как переговаривается сторож с дворнягой. Как ворочается небо под пустым пододеяльником, как потрескивает фонарь у окон завхоза.
Чьи-то босые ноги, не опускаясь на пятки, бежали к Днепру. В сторону камышей-шептунов. В сторону черной слепой воды.
Он тихонько пробрался в ее корпус. Вытянул губами сон и пригласил искупаться после дождя. Рисковал… Купаться ночью категорически запрещено. Но… Николь, ничего не понимая, сбросила на пол одеяло. Хотела закурить, но не решилась. Вместо этого съела ложку шоколадной пасты и полную дала ему. Соседки заворочались, закряхтели в постелях. Он поманил ее на улицу. Ахнула дверь…
Они бежали за спинами у фонарей. Закрывшись на замок суставами. Сглатывая смех. Сокращая дорогу, топтали клумбы, перебудив все цветы. Рисковали и возбуждались от риска. Царапали плечи о спины сосен. Еще плотнее срастались боками, как сиамские близнецы. К Днепру вела разрушенная лестница с оттопыренными камнями. С тонким зеленым налетом мха. По ее бокам простаивали длинные щиты с портретами пионеров-героев…
Он не обманул. Вода была опьяняющей. Темной, как чай, а по вкусу – как вино. Он нес ее на руках, закрывая тело собой. От зоркой совы с отсиженной лапой, от стоячего ветра в камышах, от той, падающей на севере звезды.
Он входил в реку из последних сил. Лунной дорожкой мыл ее волосы. Целовал ее вместе с водой. Или это она сама придумала? По-девичьи намечтала? А он просто ее нес, торопясь быстрее овладеть?
С берега наблюдала, сброшенная впопыхах, одежда. Его кроссовки злились. Им на глаза упал шнурок, и ничего не было видно. Ее трусики своим сладким запахом дразнили его плавки. И была еще одна, непрошенная, пара глаз…
А там становились горячими ласки. И в диаметре до обрыва бурлила вода. Они не помнили, как вышли на берег и на разбросанной одежде переворачивали мир верх дном. Как Николь с упоением делала то, что в Союзе делать не принято. Как потом крались в лагерь, где час назад прошел дождь, где запрещено купаться по ночам и противно скрипит фонарь завхоза……Наташу разбудил смех. Вырывающийся из-под ладошек, сложенных ковшиком. Она настолько мощно была настроена на его вибрации, что сразу же занервничала. Как полностью ослепшая летучая мышь…
Она как рыба уловила колебания воды боковой линией. У нее, как у кита, отреагировало горло.
Услышав его легкий шаг, она пригнула спину и подползла к окну. В рассеянном свете луны бежали двое. Два темных гибких силуэта. И она, как охотник, пошла по следу. Босиком. Прокалывая кожу елочными иголками. Вслушиваясь в слова, вгрызаясь взглядом в жесты. Она не понимала, зачем идет. Но никакими силами не могла остановиться…
Она стояла за толстым сосновым стволом, черным, словно списанным у ночи. И видела все от начала и до конца. Как они купались голышом, и он подныривал, чтобы поцеловать ее бедра. Как она рисовала влажным соском узоры на его плоском животе. А потом он нес ее на берег: мокрую и дрожащую от возбуждения.
И Николь что-то эротично шептала на своем языке. Шепот получался низким…
И у нее внутри что-то стало происходить. Тянущая сладость… Что-то очень стыдное. Белье было мокрым… Сердце скатилось вниз и гулко билось прямо во влагалище. А потом она увидела его член… С тонкой синей венкой по всей длине. И как Николь, стоя на коленях, его погружала себе в рот. И как он закрывал глаза и гладил ее мокрые волосы. А потом прогибал спину, чтобы войти.
Она видела все его фрикции. Она слышала нарастающий темп. И не знала, как справиться со своей реакцией на происходящее. И сжимала поплотнее ноги.
Она хотела вернуться в свой девственный мир, но не могла сдвинуться с места. Происходящее ее гипнотизировало. Она хотела хоть на секунду закрыть глаза, но они открывались только шире. И когда обессиленные, они поплелись домой, Наташа еще долго сидела за толстой сосной, корчась в клубке своей раздирающей боли……Наутро Николь важно сидела на пожеванной постели и рассказывала. Свысока… Покачивая ногой с прилипшей водорослью на щиколотке. Курила… Дым оседал на липких чашках. Наслаждалась неприпрятанной завистью подруг. А те, кисло улыбаясь, задавали вопросы. Но в душе мечтали о таком же диком купании и о песке, который сыпался с Николь все утро.
Наутро похолодало. Температура упала градусов на десять. Прохладой тянуло со дна воды и со стороны той, падающей звезды. Впервые за отдых из сумок вылезли ветровки. Приободрились лавочки вдоль аллеи. Стали прохладными твердые, но уже почти спелые яблоки.
До зарядки еще 20 минут. Николь одела духи, и что-то с тонким запахом втирала в волосы. Напевала французский шансон. Что-то из Мирей Матье. Летала, задевая свои и чужие вещи… Она была влюблена…Георгий не спал давно. Еще с минуты первого света. Он сидел на веранде в водолазке и дочитывал фармакологию.
Осенний холодок.
Пирог с грибами.
Калитки шорох и простывший чай,
И снова неподвижными губами
Короткое, как вздох:
«Прощай, прощай».
Булат Окуджава
Они стояли молча на ветру… Солнце садилось медленно. Еще не остывшим боком грело горизонт. Подкрашивало ее волосы. Оттеняло его нейлоновую рубашку. Толстый кот на подгибающихся лапах вышел из столовой. Кто-то жег листья. Их приторный запах у Николь вызывал тошноту. Георгий, наоборот, с наслаждением подставлял ему свои ноздри.
Адреса на тонких бумажках уже давно прятались в карманах. Она просила писать. Он неуверенно кивал.
У дороги сидел мятый августовский вечер. Чертил веткой знаки. В каждом номере стояли упакованные чемоданы и дорожные сумки. В каждом номере догорала любовь.
Бледная грусть тынялась под окнами. У Николь были белые губы. Словно из них выпустили всю кровь. Георгий, тяготившись вечером, этим бесконечным прощанием, прижался к ним своими. Губы стали пурпурными, но теперь краска полностью сошла со щек.
Он вдруг вспомнил песню, слегка ее перефразировав:Скоро осень, за окнами август.
От дождя потемнели кусты.
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
А когда-то мне нравилась ты…
Не спеша, деловито летела паутина. Кажется, без цели. В саду спала тяжелая синюшная слива. Николь все говорила, не умолкая. Спрашивала. Он отрицательно качал головой. Ему в этом вечере стало тесно. Он не понимал, зачем беспокоить неизбежное. Он хотел поскорее завтра.
Под щекастым орехом – лавочка. Она была сырой. Он снял водолазку. Разлука села между ними и закурила…
И срывались сухие листья. Долго планировали, пока хватало сил. И горчила полынь где-то. И до утра еще шесть часов. И жизнь только начинается…
А ей так хотелось остаться. И плевать на 246 видов сыра, бордо и страсбургский паштет. На колбасные лавки и частную, с вкусным запахом, булочную на улице Шерш-Миди. Пусть будут очереди, капуста в бочках и авоська вместо модной сумочки. Лишь бы с ним. Она готова была зимой носить одну и ту же вязаную шапку и пальто с лисьим воротником. Запасаться к празднику горошком «Глобус», шпротами и маринованными болгарскими огурцами. Даже пылесосить «Ракетой» с перемотанным изолентой шлангом. Или, может быть, по-другому? Сесть с ним в поезд и ехать. И смотреть на полевые цветы, мелькающие невыразительными пятнами. На небо, падающее в ноги ночью. На губы, распухающие от любви. А потом, взявшись за руки, долго смотреть на храм святого Александра Невского, что в двух шагах от Эйфелевой башни…Ночью пахло соснами. Небо надувалось черными парусами. На Днепре пошла нервная рябь. Крикнула старая сойка. Во сне. Георгий встал закрыть окно. Поверх простыни накинуть одеяло. И тут же уснул. Николь до утра смотрела на часы. Разрисовывала звезды зеленым и красным цветом. Казалось, сходит с ума. Бредила занавеска в мелкий цветочек. Одурманенная феромонами. Оса закрыла нос и полетела спать в другое место. Он перевернулся на другой бок…
Презираем слова
Я молчу, ты молчишь…
Нам Москва – не Москва,
Нам Париж – не Париж…
Наутро у дороги высохли ромашки. Все до одной. Обеспокоенные муравьи ползали, поливая их своим соком. Тревожные ласточки летали низко и так мелко теребили крыльями, словно взбивали омлет.
Георгий выносил ее сумки. Легко. Она его за это ненавидела. За это безусловное принятие ситуации. За равнодушие и отсутствие эмоций. Ей хотелось страстей, сцен, растерянности в глазах и даже истерик. Она цепко следила за его глазами, пытаясь найти в них отражение своих. Свою разрывную боль. Ничего…
В автобусе было душно. Все окна открыты. Все головы наружу. Николь заходила последней.
– Ну что, пока?
– Пока.
У нее не дрогнул ни один мускул.
– Береги себя.
Она эту фразу не поняла. Все ждала какого-то сумасшедшего поступка. Что он ее схватит в охапку, вдавит в свое тело, оставляя глубокие вмятины. Что станет на колени, обнимая бедра и умирая в них. Ничего… Просто прощание двух друзей. И тогда Николь, теряя равновесие, поцеловала свои пальцы и дотронулась ими к его губам. С разгону влетела в автобус. Закрылись двери. Завелся мотор. Водитель последний раз посигналил. Он поднял руку. Руки в ответ не увидел. В нос ударил газ из выхлопной трубы. А потом развернулся, показав свои номера: «ЛАЗ 695Е», которые он запомнил на всю жизнь. Через пару минут автобус превратился в игрушечный, а потом в маленькую точку на самой линии горизонта.
Он постоял, глядя, как пыль укладывается на кроссовки, как уставший лагерь пытается вздремнуть, а Наташа весело смеется. Как-то слишком весело. Поникшая лилия лежала щекой на воде. Белый осенний воздух с запахом маслят занимал все пространство. Что-то ныло в области лопаток. А потом, стряхнув с коленей плотную пыль, повернулся ко всему спиной.А в неудобном автобусе, положив голову на чемодан, рыдала Николь. Слезы скатывались с гладкой кожи и набрасывались на белье, которое еще час назад трогал руками он…
Ты слышишь ли? – она не спит…
Ты знаешь – ей наверно больно?…
К утру, она, возможно, отгорит…
И хочется шепнуть – с нее довольно…
А. Стрелков
Наташа готовилась нанести окончательный удар. Последний. Другого шанса не будет. Разъезжаются они только завтра. А сегодня прощальная, «королевская» ночь. Она решилась. Девочки сбросились одеждой. Одолжили модный брючной костюм: слегка приталенный жакет и расклешенные книзу брюки. На жакете были большие металлические пуговицы и воротник, смахивающий на собачьи уши. Тупоносые туфли с толстыми каблуками немного жали. Отец ей часто повторял, что если у женщины модные наряды и прическа, это говорит о том, что она мало трудится и, следовательно, тунеядка. У Наташи ничего модного никогда не было, значит, ей не стоит волноваться.
Они разработали план. Придумали дождаться полуночи, чтобы он уснул, а потом юркнуть к нему в постель. Соблазнить. Как? У Наташи все время потели руки и были холодными, как у змеи. Она терла себя в душе, практически снимая кожу. Впервые побрила подмышки. Вымыла волосы желтком и прополоскала уксусом. Накрасила ресницы ленинградской тушью за сорок копеек. Разделила их иголкой и подкрутила горячим ножом. Она не представляла, как это будет происходить.
Ночью было холодно. Осиротевший лагерь тревожно спал. Она так боялась, что кто-то ее увидит, что пойдут разговоры. Сплетни…
Залаял длинно пес, как будто выругался. Она торопливо шла, оглядываясь, как вор. Поминутно вздрагивая. За ее спиной бродили призраки.
Дверь оказалась не заперта. Он спал. Больше никого не было. Кто уехал, кто ночевал в другой, женской постели. Наташа смотрела, любуясь его беззащитностью. Как лежит на спине, согнув одну ногу в колене. Практически не укрыт. Простыня почти вся собралась на животе серыми складками.
Зашевелился… Она бросилась к двери, чувствуя, как под мышкой стало липко от холодного пота. Не проснулся. Что же делать? Может, уйти? А потом взяла себя в руки. Бережно сняла одежду. Еле разъединила петли на лифчике, стянула трусики. Кружилась голова, и даже тошнило. Холодно. Легла с боку. Спит. А потом подсунулась под самое теплое место и положила руку ему на живот…
Георгий проснулся. Еще не понимал, что происходит. С кем он? Николь уехала. Кто это? Резко повернулся. Возле него лежала голая Наташа. Немыслимо терлась. Мычала и прятала глаза. А у него еще с утра пекло в груди. Давило. Он еще не опомнился от Николь.
И вдруг стало все равно. Пусть будет даже она. Лишь бы выплеснуть это напряжение. Лишь бы излить непривычную раздражающую тоску. У него стала просыпаться плоть. Она поднималась так стремительно и высоко, что Наташа отрезвела и даже испугалась. Член, подрагивая, становился выше и толще на глазах. Но было поздно. Он поднялся над ней во весь рост. Коленом раздвинул ноги и стал давить красной твердой головкой в ее губы. Протискиваться. Без изысканных ласк, виртуозных прелюдий. Просто сразу. Запутался в волосах и раздвинул их в стороны рукой. У нее внутри запекло. Потом сильнее, словно жгли раскаленным железом. Она открыла в ужасе глаза и не понимала, как здесь очутилась. Георгий быстро дышал. Ритмично-монотонно двигался, проникая все глубже. Совсем ее не касаясь. Руками упирался в прутья сетчастой кровати. Она на входе поскрипывала. Наташа не шевелилась. Только прикрывала свою маленькую, почти детскую грудь. Было больно и радостно. Теперь он ее. Теперь они – пара. Семья…
Вдруг движения убыстрились. Она прикусила губу. Он задышал еще быстрее и остановился. Обмяк… Скатился с нее и лег на спину. Все… Свершилось. Георгий закрыл глаза и приходил в себя. Наташа придвинулась ближе. Ждала объятий или признаний. Она думала, что он будет ей благодарен, увидев кровь на простыне, что набросится с поцелуями. А он, не открывая глаз, тихо сказал: «Наташ, иди домой»…
…И она зарыдала… Громко, истерично подвывая. Он отвернулся к стене, чтобы не видеть ее одеваний. Только когда стукнула дверь, когда протопали ноги по ступенькам, он повернулся на спину и до утра не спал. Молчал сам, и молчало его сердце…Они практически больше не виделись. На третьем курсе занимаясь в разных корпусах, колесили по всему городу. А когда мимоходом встречались – он ее не замечал. Он смотрел сквозь ее дрожащее тело. И у него уже давно была другая…
Пенится пролив Па-де-Кале.
Журавли отчаянно кричат.
Листья на простуженной земле
Пламенеют горечью утрат…
П. Гребенюк
Николь встретил папа, когда листья, как отжившие тряпки, стали путаться под ногами. В мокром аэропорту было скользко. Серый самолет съехал цветом в асфальт.
– Ну, как отдохнула?
Николь ответила взглядом больных глаз.
– Я так и знал, что не стоит ехать в Союз. Ты не заболела? Хорошо себя чувствуешь?
Николь кивнула, опустила низко плечи и пошла к машине.
Когда забросили багаж, пристегнули ремни безопасности и стали выруливать из аэропорта, папа снова попытался ее расшевелить.
– А давай пообедаем твоими любимыми сосисками с тушеной капустой?
Он заискивающе улыбнулся, потрепав ее по щеке.
– Поехали. Ты же так это любишь. А на десерт возьмем, как всегда, крем-карамель.
– Пап, я не голодна. Нас кормили в самолете…
Николь не понимала, при чем здесь еда? У нее любовь разломалась на части…
Когда они выехали из города, тоска стала подступать со всех сторон и брать ее в тиски. Чтобы отвлечься – рассеянно смотрела по сторонам.
Вот на обочине дерево, уже познавшее осень. И все бы ничего, только постаревшие листья покрыты то ли пигментными пятнами, то ли какой-то жуткой болезнью, похожей на оспу. Вот он бы сказал наверняка. Николь сразу вспомнила, как Георгий лечил ее ушибленное колено после игры в пляжный волейбол. Она упала, счесав кожу ровными параллельными линиями. Он нес ее на руках через весь лагерь. Промыл рану, наложил повязку. Врачевал… Нужно было счесать себя всю. Тогда бы он ее лечил до сих пор. Целую жизнь…
Канадские клены, с тонкими жилками, выпадали, как волосы. Огромная тыква задержалась на ухоженном огороде. Патиссоны, выложенные на соломе, ждали, когда за ними придут. Узкая деревенская дорога все время выгибалась. И Николь вспомнила, как под ним изгибалось ее тело, как она кричала, когда он входил глубоко и мощно, пока не достал до сердца. Пока от любви на спине не остались пролежни.
Мелькал забытый дикий виноград, с ссохшимися ягодами и выклеванными внутренностями. Когда-то роскошные гроздья – теперь выглядели несущими потери, как на войне. Николь тогда еще не знала, что Георгий проживет настоящую войну. Что он выпьет ее всю до дна. До самой гущи. Горькой и вязкой. Долгим глотком… Длиною в два с половиной года…
А потом вдруг асфальт стал синеть. Как политый синькой «Индиго». Небо, в испуге, отскочило. С таким цветом оно не могло соперничать. Николь посмотрела на ладони. Синие. Ах, да. Она только что ела с ним ежевику. Гигантский папоротник доставал почти до бедра. Николь рвала ягоды, клала себе в рот. И кормила его. Из себя. Но почему во рту горечь? Не сок, пахнущий жарой и летним лесом, а привкус металла. Оказывается, такая на вкус разлука. Хотелось выплюнуть, прополоскать родниковой водой рот, но как? Нельзя выплюнуть себя. И она заплакала. Слезы стекали в рот. Папа понимающе кивал и свободной рукой гладил ее по волосам.
Разлуку к морю в ладонях озябших печально несу я,
У моря утром и ночью глаза на песке я рисую.
Рисую глаза, что похожи на давнюю тихую осень,
А волны, а волны глаза твои синие в море уносят…
Ю. Рыбчинский
…Вечером Николь шла к морю. Босая. Юбка, как парус, летела за ветром. Несла в руках боль. Вода была, что снег. Она смотрела на пену глазами обреченного. Мысленно сочиняла ему письма. Он не слышал. Молчал. Волны стягивали с берега песок, осколки ракушек, камни. Потом все это с силой выплевывали ей в ноги.
А со всех сторон осень… Смотрит своими туманными глазами. Напала на старые замки, на все газетные киоски и булочные. А со всех сторон ее тоска. Размером с море. И некуда бежать… Нечего больше ждать…
…Он шел и нес в руках осенний рассвет. Яблочный Спас был давно в прошлом, но запах свой оставил. И теперь, когда прорастало солнце, отовсюду струился аромат антоновки, политой гречишным медом, «чорнобривців» и спелого мака, еще там, в закупоренной головке.
Он шел с полными чего-то желтого руками. По коленям били мелкие, надрезанные хризантемы. От теплых цветов поднимался пар. Поникшие георгины с непропорциональной головой. Рука в движении зацепила широкий ореховый лист, надъеденный жуком. Ворох облаков оседал на плечах. Запахло чем-то соленым и холодным. Рыбой? Кораблями? Морем? По венам потекла легкая грусть. Полусогнутые пальцы что– то неуловимо сжали. Воздух, мокрый от пены.
Но он шел, не останавливаясь. Оставив прошлое в прошлом……Одинокий, тонкий маяк, до пояса покрытый мхом, спал. Чайки отдыхали у него на макушке, доедая вчерашнюю, уже вяленую рыбу. Море усердно смывало чьи-то глаза на песке…
2009 год. Первая осень. Киев
На яблоки садился дым,
Вздыхала старая малина.
Казался двор немолодым.
Казалась липкой паутина.
Скамейка, пьяный виноград,
Густое солнце смотрит странно.
А ты идешь в забытый сад,
Туда, где пыльно и туманно.
И груши твердые, как медь,
И от травы – одно названье.
А ты идешь, чтобы успеть
На главное свое свиданье.
Краснели руки у рябин,
И стыли яблоки, скучая.
Ты шел по осени один,
Еще любовь не замечая.
…За туманом начинался октябрь. Еще хорохорились розы… Еще держались поздние астры. По утрам отдохнувшая за ночь улица казалось юной. К вечеру – пожилой. На ветру шептались листья. Виноград темнел до крови.
…На рынке сошлись все овощи. Она ходила между рядами, стараясь запомнить по-стариковски скрюченный сельдерей, пушистые гроздья цветной капусты, розовый картофель и вытянувшуюся морковь. А дальше, из ведер и корзин, выглядывали грибы в белых, рыжих и зеленых шапках. И мед разливали деревянной ложкой. И последние ягоды пускали сок.
Она медленно шла, собирая осень, как мозаику. И все это богатство прятала в месте женской силы. Он прилетит и все увидит в ней… И липкую паутину, и бабье лето, и маслят…
На подушках лежала жара. Октябрьская! Как она умудрилась спрятаться от лета? Как она просидела в щелях окон почти полтора месяца?
Они укрылись только тонкой простынкой. Обеденный свет натыкался на плотность штор. Зареванный дождь ждал завтра.
Подушки сами стали прыгать на пол. Они уже знали… Он лежал на спине. Она ползла по нему. Он все время удерживал ее за руку. Она пыталась подползти поближе. Вибрировал воздух. В нем было маленькое землетрясение. Ее стал бить озноб.
– Тебе холодно?
– Нет. Скорее.
Он вошел… Плотно заполняя вагину. Повторяя ее форму, набирая нужную температуру. Она не помнила себя. Он лег на нее, и она заплакала. Его было много. Везде. Он двигался в вечном ритме. Он в ней танцевал. А она была ведомой. Она шла за ним вслепую по пятам. Он напрягся… Она отпустила чувства…
В батареях булькала вода. Завтра включат отопление. Простыни были мокрыми. Мокрая спина. По ней стекал экстаз. Он прижал ее к себе так сильно, как только мог. Она дышала в подмышку. Сердце никак не могло отстучать положенный темп.
Раскрытые ладошки кленов сыпались на подоконник… Она на ухо шептала свои новые стихи…
Когда они открыли тюль, к ним тянула осень теплые желтые руки. Он, как настоящий мужчина, их ей поцеловал…
А потом город стал лысым. Опали волосы-листья, выветрился цветочный одеколон, выгорели травяные туфли. Он стал просто кирпичным и панельным.
Утром с неба лилась вода. Разбавленная. Совершенно не интересная. Мокрый камень подсох лишь на треть. Солнце сушило, от усердия высунув кончик языка. А потом махнуло рукой и стало сушить лишь бы.
Они обедали в теплом кафе. Над столиками, как тыквы, лампы. Глиняная посуда, из которой почти выливался домашний борщ. Он не любил украинскую кухню. А ей хотелось.
Вышитые льняные скатерти. Крестиком. Деревянная салфетница с аистом на одной ноге. Сруб, желтый мягкий свет создавали иллюзию дома.
А за окном опять шел дождь. Ему и самому надоело, но он не знал, как остановиться. И сверху затянуло одним цветом.
– Ты думаешь, дождь надолго?
Он равнодушно посмотрел в сторону.
– Осень…
Он был раздражен…
Она краем глаза, без разрешения, заглянула в его сердце. Увидела там себя, маленькую. Поднялась мыслями выше, в голову, и поняла, как его это злит. Всегда он руководил чувствами…
Принесли горшочки. Засохший блин сверху вместо крышки. Там томились вареники с печенкой. У него – с капустой. Ей было уютно. Он не мог отодрать блин. Отчитывал официантку.
В углу ресторана – настоящая печь. Там все время поддерживали огонь. У нее покраснела щека с одной стороны. Он снял пиджак. Она смотрела огню в глаза и расслабляла свой животик. Он теперь мог беспрепятственно входить внутрь. И когда огня стало много, он зажег глаза. Чувственным блеском.
– У тебя скоро День рождения.
– Забудь.
– Я хочу тебя поздравить.
– Меня не будет в стране. Я всегда уезжаю в этот день. А после – подарки не принимаются.
Она опустила глаза. Она прятала чувства. За длинными агатовыми нитками, за юбками в три ряда, за румянами карамельного цвета.
И он их прятал. За суровыми складками возле губ, за стильными ремнями и белыми дорогими рубашками. У них была такая игра: кто дальше спрячет. Так, чтобы не найти и не обжечься. И всем было просто. Нечего выяснять. Не на что обижаться. Нет причин для ссор.
После жирной пищи захотелось пить. Она попросила заказать узвар и маковый пирог.
– Ты уверена, что осилишь?
– Нет. Но давай попробуем.
– Я, когда был студентом, съел целый чемодан мандарин.
– Заболел?
– Нет – пожелтел. У меня был друг из Армении. Ему отец каждый месяц передавал по два чемодана мандарин. И вот, в общежитии, сев друг против друга, болтая, съели. Аппетит был отличным. Опомнились, когда возле каждого было по ведру кожуры.
А на утро я был желтым от зрачков до ногтей. Учитывая, что сам белокожий, выглядел как во время Боткина или после 20-ти сеансов солярия. Друг был таким же. Нас чуть не спровадили в изолятор…
У города был долгожданный перерыв. С окон сползли длинные ряды воды. Отфильтрованный воздух. Воробьи пили из-под водостоков…Бились ветки в окно. Мелко.
Дождь ноябрьский косил в раму.
Я смотрю из окна. Белка.
Ты сказал: «Посиди. Я достану».