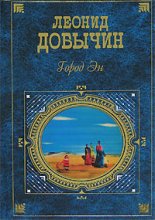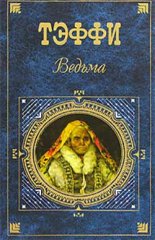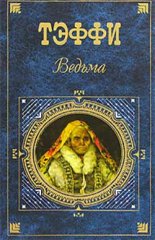Почти последняя любовь Говоруха Ирина

На стене циферблат. Вечер.
Утопают в ковре пятки.
Дождь упорно окна калечит
И играет навязчиво в прятки.
У тебя на руках – годы,
У меня на глазах – нега.
Ты здесь прячешься от непогоды
И от первого в городе снега.
Остывали качели. Поздно.
Кисли листья. Застывшие лужи.
Ты меня обнимал… Сложно…
Я шептала, а голос простужен.
Бились ветки. Худые. Колко.
Сладкий чай. Пусть остынет. Горячий.
Ты меня целовал. Долго…
Ты смотрел на меня, как незрячий.
…Ободранная осень бежала по аллее. Плакала навзрыд. Падала и снова поднималась. На коленях из ран сочилась кровь, смешанная с землей. У нее были красные безумные глаза и отчаявшиеся руки. В нечёсаных волосах безнадежно запутались собачьи репьяхи. Разлезлись башмаки. Артритные ноги… 30 ноября…
Она смотрела в окно… Ветер ломал деревья. Дождь срывался на снег. Два градуса тепла.
В желтом халате с божьими коровками она казалась чуть полнее. Он смотрел на нее и улыбался. Допивал чай с имбирем. Видел в ее глазах несчастную осень. Подошел и обнял, на ходу целуя уголки глаз… Нехотя повернул ключ и вышел на улицу.
– Мне так не хочется от тебя уходить.
– Тогда почему об этом не скажешь?
– Ты и так все знаешь сама…
Ветер его не тронул. Оббежал через гаражи. По пути сломал больную ветку. Рассвирепел еще больше… За углом встретил оборванку. Он помнил ее еще девочкой. Посмотрел с жалостью, и она разрыдалась дождем.
Целый день хотелось домой. Он ехал и поворачивал голову назад. И все время видел любопытные глаза. Ржавые листья налипали на дворники, машины переругивались друг с другом. А он вспоминал сонное утро и шарлотку с яблоками. И как она пела на кухне, думая, что он не слышит. И как тайком его крестила на пороге, думая, что он не видит.
Сверху стало чернеть. Он с тоской смотрел на светофор. Перед глазами мелькали ее веселые божьи коровки…
А после работы его ждал концерт. Моцарт «Фантазия ре минор», Шопен «Вальс № 10», Глиэр «Прелюдия», Черни «Мелодический этюд». Она достала из шкафа концертное платье. Пышные белые юбки и черный горох. Она полчаса пыталась зашнуровать корсет. Пришлось стать змеей и выбросить кости. На ногах были высокие туфли…
Они любили музыку. По пятницам слушали симфонический оркестр в филармонии. Сидели в первом ряду. Он тайком трогал ее руку, рисуя на запястье нотный стан. Она, чуть скашивая глаза, любовалась им. Они слушали скрипку, гитару и виолончель. Звуки рассыпались сразу на семь октав, а потом выравнивались в аккорды. Она рассказывала ему о тональностях. Он – о Венском оперном театре.
Балет «Сильфида» проспали. Он задал тон. Она подхватила. Проснулись от аплодисментов. Решили, что очень понравилось.
И все время терялась программка. И каждый раз, обыскав ее, находил у себя в кармане. В антракте говорили… Словами, безмолвием, нотами… И пили музыку. Как вино…
…За стеклом падал первый снег. А в квартире горели свечи. На полу, на стенах, на рояле… При свечах было трудно дышать. И они дышали медленно, очень медленно. Вдох в минуту. Он отвлекся, вспомнив, что когда-то было похожее дыхание. Видимое и тяжелое на вес. Наверное, лет в двадцать…
А концерт пришлось отложить. Он с порога начал снимать концертное платье…1970 год. Сентябрь. Киев
…Как же хотелось замуж! Да и пора давно. Как-никак, ей почти 24. Аспирантка, с черными, как две изюмины, глазами. С хорошей дикцией. Без единой родинки кожей. Она никогда не ложилась под солнце, предпочитая аристократическую бледность. Считала загар уделом крестьянок. Чуть надменная. Уверенная в себе, в своей уникальности, и в своем отце – профессоре, завкафедрой физиологии.
Оксана была живой рассказчицей и строгим преподавателем. С тонким чувством юмора и хорошей осанкой. Умная, начитанная, модно одетая. Экстравагантно мыслящая.
Она читала Хемингуэя, Ремарка и «Новый мир». Увлекалась стихами Евтушенко и Вознесенского. Сама шила себе модные платья по журналу «Шейте сами», любила слушать Окуджаву и Эмиля Димитрова. Особенно ей нравилась «Моя страна, моя Болгария». Смотрела итальянско-французские фильмы типа «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан». Была хорошей, вдумчивой девочкой из приличной семьи. И он бы на ней обязательно женился, но после окончания вуза. Он искренне в это верил…
Георгий как-то сразу стал вхож в ее семью. Интеллигентные люди, переодевающиеся к ужину. Никогда не повышающие голос. Они ели только серебряными ножами и вилками, которые каждую пятницу начищали зубным порошком. У них в гостиной висели ранние работы Куинджи.
И как-то незаметно перекочевали вещи в их квартиру. И семейные обеды стали нормой. И чаепития за круглым столом в отцовском кабинете, где обсуждались новости. К примеру, открытое письмо Сахарова, в котором он требовал демократизировать общество. Или заложенную капсулу на Мамаевом кургане с обращением участников войны к будущим потомкам через сто лет. Георгий смело высказывал свое мнение, макая юбилейное печенье в крымский мед. Пододвигал поближе тяжелую пиалку матового цвета.
Они часто вместе ехали в институт, вместе возвращались. Оксана была влюблена и стала немного глупее. Она расслабилась и открыто выражала свои чувства. У нее появилось сексуальное белье, чулки и красная помада. И даже в зверский мороз на ней были финские рейтузы, которые совсем не вытягивались на коленях. Из валютного магазина «Березка». Она начала подбривать себе лобок и подмышки. Научилась готовить щуку и голубцы. Казалось, что вопрос со свадьбой – дело времени. Все и так понятно. Оказалось, что не все…
Они встречались полгода, и она со дня на день ждала предложение. Гоша часто оставался ночевать в их пятикомнатной квартире. Ему выделили комнату, в которую на ночь приходила Оксана. Родители на это закрывали глаза.
Утром они сортировали конспекты, их зубные щетки, по-родственному, стояли в одном стакане. Они по очереди покупали докторскую колбасу в гастрономе и вместе мыли горчицей посуду после ужина.
А потом разъехались на целое лето. Долгое и очень вкусное. С легкой крыжовниковой мякотью. Оксана – в Карпаты, а Георгий – в спортлагерь. Как оказалось позже – к Николь.
Она, окруженная со всех сторон горами, очень тосковала. Чтобы отвлечься – читала Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны».
Казалось, что Яремча пытается ее задушить. Было все время прохладно, и она вернулась словно промерзшей. С нездоровым ознобом под глазами. Часто шли дожди, и у нее начался сухой кашель.
Георгий, наоборот, вернулся бронзовым, отдохнувшим, похорошевшим. С хитрыми глазами и выбеленными волосами.
На толстом календаре огородника началась осень. После каникул, после расслабленного лета суетливый город слишком утомил своим темпом. Начитки по четыре пары, новые предметы, новые доценты. Деловые улицы, подметенные метлой. Паутина, липнущая к носу. Бабье лето…
А потом она узнала все. О Николь… И умерла… Она была так в нем уверенна…
Если град зашумит с дождем,
Если грохнет шрапнелью гром,
Все равно я приду на свиданье,
Будь хоть сто непогод кругом…
Эдуард Асадов
Накануне почти не спала. Перед встречей с Гошей сделала прическу «Бабетта» в парикмахерской, и ночь провела сидя. Ей каждый локон сбрызгивали лаком, потом начесывали и опять сверху лак. Очень хотелось быть красивой.
Они встретились на лестнице между вторым и третьим этажами. Ступеньки были с просветом, через который мелькали в холле люди. Огромные окна показывали мутноватый воздух, словно из плохо вымытой молочной бутылки.
– Привет.
Гоша подал ей смуглую руку и нежно сжал пальцы. У Оксаны трепетал каждый нерв и стали накатывать волны. Одна сильнее другой. Она закашлялась. Он переждал. Ему хотелось ее поцеловать, но в институте упорно держался нарядный день. И было не принято афишировать подобные отношения.
– Ты приедешь сегодня?
Этот вопрос она задала про себя. Закрывая руками блеск глаз и явное смущение.
Он ответил, словно читал белый стих.
– Даже если не будут ходить троллейбусы. Застрянет в туннеле метро. Обесточатся трамваи… – А сам вдруг вспомнил их первое интимное свидание, и от воспоминаний тело прошибла судорога…– Поехали ко мне ужинать. Родители на даче, и вернутся только в воскресенье вечером.
Была апрельская суббота. На парковых длинных лавочках сидели девушки в одинаковых плащах. У многих до колен были натянуты гольфы.
Они выходили из громоздкого кинотеатра. От запаха цветущих вишен было очень сладко во рту и никуда не спешили мысли. Теплый воздух эротично гладил затылок, и птицы наконец-то выстроили чистое трехголосье.
– Я приготовила сельдь под шубой и хрустиков испекла. Со сладкой пудрой.
Она смотрела очень многообещающе и попутно ловила такси. У Георгия в животе громко заурчало.
Они поехали на Печерск и остановились у царского дома на улице Козловской. Это была шикарная сталинка с четырехметровыми потолками и лепниной в виде тугих венков. С консьержкой в чистом холле, витой лестницей и мраморными ступеньками. Она жила в квартире около ста квадратных метров, с встроенным мусоропроводом на кухне, комнатой для прислуги, которая была переименована в чулан. В нем до сих пор хранилась синяя лампа, которой ей в детстве прогревали горло. Два раздельных санузла, стиральная машинка, кабинет с библиотекой и окна на все стороны света.
В квартире скромно горели настольные лампы и бра. И он вдруг осознал, насколько его тут ждут…
А дальше воспоминания всплывали фрагментами. Не было связной ленты. Он помнил лосиные рога в просторной прихожей и кухню с веселым рядом красных жестяных банок в белый горох. На них были ясные подписи: «Сахар», «Соль», «Рис». Теплую духовку с картошкой и панированными в ржаных сухарях котлетами. Белое вино, хрен в вазочке и ее голос, подогретый вином. Она, осмелевшая, возбужденная, громко шептала:
– Я так больше не могу. Я очень тебя хочу…
…В ее комнате еще пахло детством. В рыжем серванте хранилась заигранная монополия, а под толстым стеклом на рабочем столе лежали грамоты, новогодние открытки и календарики. Она их собирала с шести лет, и в обувных коробках под кроватью была сложена вся многотысячная коллекция. А еще висел ее детский портрет: Оксана в косынке дула на мохнатый одуванчик…
Были темными вечерние окна, а они раздевались друг напротив друга, не теряя магию взгляда. Замешкались только однажды: он на своих синих сатиновых трусах, а она на модных трусиках-недельках. Он заметил, что они были насквозь промокшие от возбужденной влаги. А потом из горла стала литься страсть с хриплым булькающим звучанием.
Для нее все было впервые, остро, дико. Они целовались, сплетаясь в клубок. Оксана путала его ноги своими, вдавливаясь в крепкое мускулистое тело. Его же очень возбуждал ее аккуратно подстриженный лобок.
А потом она попыталась сесть сверху и некоторое время просто зависла на его головке. Он хотел помочь, натягивая ее внутрь. А потом не рассчитал силу, потянув сильнее. Брызнула кровь на стены. На простыни стали растекаться яркие пятна, похожие на дикие маки. И на его живот натекла горячая соленая лужа. В голове что-то замкнулось и стало страшно, больно и очень неловко. Он аккуратно переложил ее на бок, выползая из тела как уж. А потом стал осматривать травмы. У нее был разрыв передней стенки и вероятно, свода влагалища…
Через три дня Оксана караулила его в коридоре института. Убеждала, что все зажило, что перечитана вся литература и куплен вазелин. Что стоит попробовать еще раз…
С этого момента у них закрутилась чувственная любовь……Он приехал в тот же сентябрьский вечер, и она что-то заподозрила. Какую-то ложь. Он был неутомим и откровенен. Смел… Чуть опытнее. Он просил делать то, чего никогда не просил… Он как будто был не с ней…
Ей рассказали на следующий день. Во всех деталях, с точностью до минуты. С точностью до совы с выпученными глазами. И о том, как Николь, уходя с ним после пляжа, сняла с себя купальные трусики и размахивала ими над головой, как флагом.
Она дождалась его последней пары и обдала напускным холодом, из-под которого выдиралась боль. Как кипяток из носика чайника. Все пересказала в лицо, стараясь не заикаться и позорно не расплакаться. У Георгия не дрогнул ни один мускул.
– Знаешь, Оксана, если люди любят друг друга, то они доверяют. Они верят, а не бегают по углам, собирая сплетни. Мне очень жаль, что ты оказалась именно такой: сельской сплетницей. И действительно, незачем больше встречаться, раз ты веришь Глаше, Маше или Наташе, а не мне.
Он молча вышел из аудитории. И остановилась время. Скрипнув напоследок давно не смазанными пружинами. Кто плохо стоял – тот упал. Навзничь. Оксана стояла плохо…
Сперва плакала, как будто по погибшей, из-за упавшего метеорита, планете. Она поняла, что наделала, и готова была вырвать себе язык. Она поняла, что в нем она вся до последней нитки. Он ушел и унес ее мечты: короткое свадебное платье, «Волгу» с кольцами и шумный дорогой ресторан «Краков»……А к вечеру уже стояла перед ним и просила прощения. За клевету. За «чужое» вранье. За обман. Слезы градом падали на его брюки. Он великодушно ее прощал. И Георгий понял, что это правильная тактика. Уверенно стоять на своем. Никогда ни в чем не признаваться. Отрицать. С годами он в этом преуспел. Научился отрицать очевидное, принимать оскорбленное выражение лица, поджимать губы. Жить стало проще. Еще целый год они были почти как муж и жена. И только раз у нее закралось подозрение, что в лагере действительно что-то было. С той ненавистной иностранкой. Они вместе смотрели «Время» и в сюжете говорилось, что 19-й президент Франции Жорж Помпиду прибыл с государственным визитом. Был подписан Советско-Французский протокол… И вдруг что-то неуловимо поменялось в его теле. По нему прошел разряд. И он на миг ушел в себя. Как будто провалился в воспоминания…
А потом ему стало скучно: возобновились разговоры о женитьбе, о том, что скажут люди и что папе стыдно смотреть в глаза ректору. Он же продолжал что-то невнятное блеять в ответ. Пока не оказался под угрозой отчисления… Пока любовь не стала обузой, занозой, от которой не терпится избавиться…
…Прошло много лет. Кажется, сорок… Много морозов и цветущих груш. Остались миражи от осени с легкой грустинкой и дерзкого, с вызовом, лета. Запутались в плотный клубок годы. Запылилась память. Но Киев и Париж до сих пор остаются любимыми городами…
2010 год. Киев. Старая осень
Падал клен, у земли увядая…
Шли дожди, высоко. Еще выше.
Я тебя каждый день забываю,
И смеюсь все короче и тише.
Я молчу, словно старая осень.
Стынут лодки, прижавшись друг к другу.
И тебе кто-то ужин приносит.
А я просто: по кругу, по кругу.
И тебе кто-то гладит ладони.
На земле облака, еще с ночи.
Ты уже для меня посторонний.
Ты родной для меня, между прочим.
Падал клен, так лениво зевая.
Бледный дождь. Он еще на неделю.
Я тебя уже не вспоминаю.
Я тобой, как простудой, болею…
…А потом пришла зима. С севера подуло ознобом. За ночь упали все листья. И даже орех, который ни капельки не пожелтел, рухнул одним махом. За развалившимся забором стояла обескураженная облепиха. Она все время оглядывалась по сторонам в поисках того, кто ее будет есть. Рябина, напротив, росла с задранной головой. Ее постоянно кто-то клевал.
На асфальте не осталось места. Лужа… Еще одна, ворох забытых листьев. Рваные облака жались друг к другу до тех пор, пока не хлынул дождь. Третий за день…
…Зима сидела в сугробе и плела кружева. Кромочная петля заваливалась на бок. Зато воздушные петли получались идеально. Острый крючок в ее руках набирал скорость. Уже все стекла были завешены узорами. Уже мороз перешел черту…
Они сидели на полу… Он вычитывал свой новый доклад. Она отложила в сторону клубок.
Склонившись над толстой пачкой бумаг, осторожно открывал ей свой мир. Ровный голос отталкивался от абзацев и бежал по верхушкам строк. Медицинские термины прочно лидировали. Он шел дальше и глубже, пока не достал клетку. И до последнего слова, до самых выводов была клеточная терапия.
– Тебе интересно?
– Да. Только не очень понятно.
– Не устала?
– Читай…
У клеток появились лица и смешные худые руки. Они ими цеплялись друг за друга. Самыми наивными были стволовые, с мордашками грудничков. Клетки строились в ровные ряды, делились и консервировались… Она со школы помнила только ядро и аппарат Гольджи. А тут какой-то хоуминг…
Он читал, а она направляла в текст свою энергию. Пронизывала его тонкими желтыми нитями. Он начал светиться. Приобретать завершенность и целостность…
За окном сплетничали замерзшие вороны. Обледенелые ветки ранили им крылья. Хотелось горячего, а приходилось облизывать сосульки. Хотелось крышу, а был только пол и продуваемые стены в гнезде. Они смотрели, как она целует его колени, пробуждая верность. Их так целовали впервые, и в надколеннике стало печь. Портняжная мышца мелко пульсировала.
Здесь никто так не трогал руками. Он застеснялся, пытаясь спрятать ноги. Она остановила этот порыв более чувственным поцелуем. Колени пахли корой дерева, смолой и ранними грибами. Они были твердые, крепкие и любимые. Рука поползла вверх, к крестцу. Он был полупустой. Разминала надпочечники, укрепляя его способность зарабатывать.
А он еще прокручивал в голове раздел «Рекомендации», отвлекаясь на странные, непонятные ласки. Он не понимал, как это – проветрить голову. Он не представлял, как совсем не думать о работе…
И тогда она вдохнула уютный воздух вместе с бутоном розы. Вдохнула не носом, как принято, а вагиной. А на выдохе бутон распустился в волнующий влажный цветок. Еще один вдох: жадный, цветной, томный. На выдохе распустились цветы на выразительных сосках.
– Ты надушилась геранью?
Она не ответила, а села у изголовья. У него была тяжелая голова с прессованными мыслями. Сокращая вагину нежными толчками, направляла импульсы в ладошки. Этими заряженными руками стала сжимать его мочки, потихоньку надавливать на третий глаз.
Он перестал сосредотачиваться на диаграмме. Он больше думать не мог. Ее пальцы прижимали крылья носа, а потом расслабляли брови и подбородок. Ее руки крепко держали голову на весу, раскачивая ее как маятник.
А дальше ее ножка в шелковом чулке стала на крестец. Рисовала на ягодицах половину ромашки. Ступня шла по бедру, икре, прямо к пятке. Останавливалась на ней как-то путанно и возвращалась назад той же дорогой.
Лежать стало больно. Вставшей плоти не хватало места, была тесной постель. Он перевернулся, показав самую красивую часть себя. Ее ладони превратились в лодочку…
Запутались руки. Запутались тела друг в друге. Кровать отъехала от окна. Запах из аромалампы стал густым как слюна. Она ее пила минуту назад, прямо изо рта… Он оказался сверху, закольцевав энергию…
Вороны шумно взлетели в мороз. Не было никаких сил на это смотреть…
…Забирая машину со стоянки, не мог понять, что же так давит в ботинках. Прогрев салон, разулся. Оттуда выпали какие-то семена.
– Дорогая, что ты делала с моей обувью?
– Я насыпала черный тмин, чтобы защитить тебя от злых глаз.
Он весело засмеялся, высыпая черные комочки на снег.
Утро было хрустящее. Все заплетено кружевной изморозью. Дети вприпрыжку бежали в школу, размахивая пузатыми портфелями. Небо смотрело ясными молочными глазами. Теплые сиденья и панель… Он чувствовал себя уверенно и полным сил. Он чувствовал себя хозяином земли. Он мог все: любить, летать, лечить… Ведь у него была любовь… У них была одна любовь на двоих…
Она утром готовила ему тонизирующий отвар из боярышника, эхинацеи и лимонника. Ночами, когда не спалось, несла в постель сок липы. Иногда он разжевывал семена метхи. Она уверяла, что прибудут силы, умалчивая, что они предотвратят облысение. Она руками стирала ему носки, напитывая их своей энергией. И до вечера были бодры ноги. А когда хотела серьезно поговорить и боялась своих усталых слов, перед разговором пила йоговский чай. Семь штук гвоздики, девять – кардамона, немного куркумы, корицы и имбиря кипятила пять минут. Доливала молоко. А потом пила с медом, одевая в мягкость сказанные фразы.
Ее любовь была разной. Ее любовь была немного колдовской. Она подпитывала его новые проекты, жила его жизнью, выравнивала его дорогу. Иногда она лежала у его ног. И была такой понятной и земной. Порой он эту любовь не узнавал. Не мог разглядеть. Она была далеко, на вершине сухой лавины. И тогда он начинал бояться ее стремительной скорости. Бояться, что будет поздно…
– Дотронься до меня.
– ?…
– Я читаю любовь по рукам. Она скапывает с кончиков твоих пальцев, проникает в кожу и течет по моим сосудам. Я за всю свою жизнь не видел столько любви…Через пару дней раздетая догола оттепель сделала первый шаг водой. Снег таял так суетливо, что, когда они вышли на улицу, стали мокрыми его замшевые ботинки.
Жидкий снег выглядел неинтересным, даже скучным. Или больным. Из-под вчерашних крепких сугробов текла мутная вода. Она собиралась в тонкие ручьи и питала большую жадную лужу. Посредине дороги. Ее объезжали машины и почему-то очень при этом сердились. Нервно сигналили.
А они собирались в цирк. Он – нехотя. Она – подпрыгивая от нетерпения. Он никогда в нем не был. Ни в пять, ни в десять лет, ни год назад. Он никогда не сидел на неудобном стульчике, не зная, куда пристроить колени, и не ел соленый попкорн из смешных ведер. Не покупал никому колпаки фокусников или неоновые мигалки на уши.
И она его пригласила. Посреди зимы. В холодный сопливый день.
Из открытых дверей пахло слонами и горячим спертым воздухом. Все секторы смотрели вниз. Купол закрывал собой дрожащее февральское небо.
А потом от прожекторов осталась просто черная дыра. Шарики света упали на арену. Браво, хотя и фальшиво, заиграл оркестр. Где-то от страха захныкал ребенок, и выбежали лошади. Белые в яблоках. С гордыми мордами и идеальными икроножными мышцами. Ирландские чулки, помпоны, танец, который напоминал канкан… Она искоса посмотрела на его руки. Они были красными от аплодисментов.
– Тебе нравится?
– Смотри, джигитовка…
Плыл вечер. Яркий и по-детски наивный. Каждый номер казался чудом. Ее плечо чувствовало его теплую кожу. Он сидел в синем спортивном свитере, глотая куски затерявшегося детства. Он смеялся, когда сели за парты собаки, скептически рассматривал клоуна, называя его бездельником, и весь подобрался, когда взлетели гимнасты.
А она заговаривала будущее, смешно складывая рот:
– Пусть этот момент удвоится, увеличится во сто раз. Пусть этот праздник мы унесем с собой и окунем в стаканы с морсом, который выпьем на ночь. И уложим под одеяло, которым укроемся сами. И нанесем на губы тонким слоем. Пусть этим состоянием пропитаемся глубоко, до самого ядра…
Когда она произносила это заклинание, то почувствовала слияние с его прошлым. Кто-то уже говорил эти слова. Буква в букву. Кто-то очень разочарованный… Похоронивший похожую любовь…
Ночная вода втянула в себя слабый мороз. Когда они вышли из цирка, город уже подвел синим глаза. Вечерние автобусы сверялись с расписанием. Где-то, на востоке, небо покрывалось терракотовыми пятнами. Ночью будет мороз.
– Представляешь, когда ты парковался, ко мне подходили молодые люди, спрашивая лишний билет.
– Даже если бы у меня было десять билетов, притом лишних, я бы тоже к тебе подошел…
Она засмеялась вслух. Он – одними терпеливыми глазами. Эхом отозвались витрины универмага. Из проезжающей машины выпали куски джаза.
– Спасибо, родная.
– За что?
– За цирк…1972 год. Осень. Киев
…Он был почти выпускник. Окрепший, возмужавший, полный знаний.
Вот уже почти пять лет медицина была любимой женщиной. В свежем халате, под которым ничего нет. Принимающая роды, оперирующая мочевой пузырь, лечащая обычную детскую простуду…
Учеба стала смыслом жизни. Глобальной целью. Он понял, что не ошибся в выборе, что это его единственная дорога… Призвание…
На одном из занятий они обсуждали трагедию в Минске. Взрыв в футлярном цехе Минского радиозавода. Из-за неправильного проектирования систем вентиляции там скопилось много легко воспламеняющейся пыли. В результате погибли 143 человека. Эту трагедию он воспринимал, как свою собственную…
…Шло время… США вернуло Японии Окинаву. Летом в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры. Правительство приняло меры по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма. Появилась группа АВВА, и отечественная – «Аквариум». По телевизору шел один из первых телесериалов «Тени исчезают в полдень». А у Георгия уже собралась маленькая коллекция пластинок «Битлз»…
В тот день была пятница. Он поднимался по эскалатору на станции «Завод «Большевик», и его кто-то звонко окликнул. Девушка, спускавшаяся вниз, отчаянно махала руками. Просила подождать ее наверху. Улыбалась солнечной улыбкой и чуть красными глазами. Полчаса назад она смотрела «А зори здесь тихие» в кинотеатре. Зал плакал навзрыд…
Георгий ждал ее между маршами эскалатора в промежуточном подземном вестибюле. Ждал и вспоминал, как они познакомились всего лишь месяц назад. Это произошло в институте, где вспотевший июль, с испариной на подбородке, прятался в западных аудиториях. Он сдавал в деканат зачетку, а она, в платье-колоколе, без единой вытачки, рыдала на ступеньках. Не поступила… Тогда они долго говорили под большими синими елками. Обо всем на свете. Крепкие породистые шишки висели у них над головами, и он пытался ее успокоить.
– Люд, это не худшее в жизни. Я тоже год пропустил. Зато было время идеально подготовиться.
– Но я так об этом мечтала. И что, мне теперь возвращаться к себе? В село? Все узнают, что я провалилась.
Люда заглядывала ему в глаза, громко икала и теребила страшненький платок. Пыталась спрятать босоножки с оторванным ремешком.
– Да необязательно. Ты можешь устроиться на работу, а по вечерам заниматься. Я когда в ноябре вернулся из Минска – тоже сильно переживал. Но потом начал работать в военной котельной. Простым кочегаром. Чумазый был, не поверишь. Зимой, когда три тонны угля заброшу в котлы – мог на ватнике вздремнуть. Потом, с новыми силами, лопатой выгружал сажу. Тонны две. И учился…
У нее как будто стало проясняться в голове. Словно метлой вымели весь мусор. Оказывается, все не так трагично. Она с благодарностью и каким-то благоговением смотрела на Георгия. Он казался ей очень взрослым, очень красивым и недосягаемым. А еще опытным…
– Ты где живешь?
– Снимаю на Нивках комнату. В частном секторе, на улице Шаумяна.
– А давай мы с тобой встретимся через неделю, и ты расскажешь, как удачно изменилась твоя жизнь.
Они договорились на будущую среду. И он об этом совсем забыл. Они не обменялись адресами. Домашних телефонов ни у кого не было. Георгий вспомнил о свидании только вечером и даже искренне расстроился.
А потом время стало бережно все подтирать. Как чешским модным ластиком. Образ Люды размылся, утратил контуры. Пока их не соединило снова… метро…
Они были действительно рады друг другу. Словно встретились давно не видавшиеся старые друзья. Люда типично украинской внешности ему очень нравилась. Черные гладкие волосы блестели, словно их смазали подсолнечным маслом. Такие же очерченные брови. Белая молочная кожа и ярко-вишневые губы. Она была ни худой и ни полной. Просто грудь, крупная, тугая, стояла как грейпфрут. И бедра, очень выразительные – резкий контраст талии.
Они целый день провели вместе. Поднявшись из метро, Гоша пригласил ее обедать в рабочую столовую. Там заказали самое дорогое столовское блюдо – бифштекс с яйцом и салат: тертая морковь со сметаной. И чай за две копейки. Люде очень хотелось рыбы, но рыбный день был вчера.
Георгий интересовался ее жизнью, и она рассказывала о швейной фабрике, о подружках, о ночных рубашках, которые они шили. Люда давно так вкусно не ела. Она очень старалась не набивать полным рот, но ее тарелка стала пустой уже через три минуты. А потом снова спустились под землю, чтобы выйти в историческом центре.
Они гуляли по самой короткой улице – Терещенковской. В один из музеев привезли выставку Айвазовского, и очередь казалась бесконечной. Долго сидели на лавочке в парке Шевченко и смотрели, как играют шахматисты-любители. Георгий увлекался историей города, и о каждом месте ему было что рассказать.
– Ты знаешь, ведь раньше здесь ничего не было. Просто пустырь, на котором паслись коровы и рыли землю кабаны. И это, заметь, перед главным корпусом. А потом приехал некий Дон Педро, бразильский император, и настоял, чтобы на этом месте разбили парк. Все было исполнено. В центре поставили памятник Николаю I и парк, соответственно, был назван Николаевским. Потом, после революции, памятник убрали, и парк лет десять называли красным.
– В честь главного учебного корпуса?
Люде очень хотелось поддержать разговор. И она слушала с вниманием, на которое только была способна. Она смешно говорила на русском, с «гакающим» украинским говором. Но ему это нравилось. И даже умиляло.
– А перед самой войной – здесь укрепился памятник Шевченко. И вот уже сколько лет – парк Шевченковский.
Когда она красноречиво заерзала на скамейке – он отвел ее в самый старый в городе общественный туалет, построенный еще до революции. А потом поднялись вверх и бродили вокруг пузатого оперного театра, Владимирского собора и старого Ботанического сада. В его насаждениях была легкая небрежность…
К вечеру он проводил Люду на троллейбусную остановку и купил билет. Назначил свидание, которое по непонятным причинам опять не состоялось……Прошел месяц. А может, и два. Он пытался ее искать. Несколько раз приезжал к потному метро и стоял, понимая, как это глупо. Из перехода выходили люди, смешиваясь в один черно-белый ком. В этом коме ее не было. Или, может, была? А он опять ничего о ней не узнал: ни фамилию, ни адрес фабрики.
Потом смирился и опять стал жить как раньше. Встреча почти забылась, или просто притупилась ее острота.
…Однажды он гостил у друзей на улице Гарматной. Они жили в старом общежитие, с высоченными потолками и большими комнатами, метров по восемнадцать. Широкие коридоры, по которым можно было ездить машиной, один общий туалет на всех и одна душевая на первом этаже. Душ принимали по графику.
Решив вскипятить чайник, Георгий стоял у окна, наблюдая, как портится погода, стремительно темнеет и заволакивает снежными тучами. Небо словно вплотную прижималось к городу. Толкалось, как люди в автобусе в час пик.
Напротив был ярко освещенный рабочий цех. Он присмотрелся и увидел, что цех швейный. Там стояло штук сто машинок, и за каждой строчили быстрые женские руки. И вдруг он узнал эту девочку на твердом неудобном стуле. Люду, с которой переживал провал экзаменов и ел морковный салат. Она сидела, низко нагнувшись, продевая в ушко нитку. Волосы были заколоты в узел простыми шпильками, а на плечах – пуховый платок.
Георгий не знал, когда заканчивается их смена. Но очень боялся ее пропустить. Ему показалось, что он опять встретил что-то очень похожее на любовь. Поэтому вышел на улицу и на морозе, у проходной ждал ее два часа. Топая на месте, стуча ботинком об ботинок…
К пяти Люда показалась из ворот и, увидев его, чуть не сошла с ума. Она надувалась радостью, как веселый мыльный пузырь. Громко смеялась, прикрываясь толстой варежкой. Она прыгала вокруг него как щенок и заикалась от переизбытка чувств.
– Привет, как ты сюда попал? Ты меня искал, да?
– Люд, я случайно увидел тебя из окна.
– Смотри, какой снег. А у меня новые сапоги. Красивые, правда?
А снег, сперва игривый, становился серьезным, и Гоша пошел провожать ее домой. Узкими улочками и дворами. Она снимала у хозяйки комнату с отдельным входом. Во дворе, где запущенный сад со старыми, давно не подрезавшимися, деревьями и колодец с громким, прикованным цепями, ведром. Где под зарослями крыжовника – сложенные кирпичи от разобранного погреба. А еще кривая лавочка и крыша, засыпанная гниющими листьями.
Когда они наконец-то пришли, на улице уже непроглядно мело. Оба были без головных уборов и сперва сушили волосы полотенцами. Говорили шепотом, чтобы не услышала хозяйка. Почему-то было очень смешно. Не включая свет, жарко натопили печку, сломав при этом старый стул. И две доски для раскатки теста. Зажгли свечу и стали пить чай с пирогами из утопленного теста.
Всю комнату занимала огромная деревянная кровать. Непонятно с каких времен. Еще помещался стол с расшатанными ножками. И табурет, на удивление, очень крепкий. На нем лежал круг, связанный из тряпок. На полу – домотканая дорожка в широкие полосы, какой-то сундук и вешалка.
Они разделись при свече в плотно натопленной комнате. Было очень страшно и неловко. Непонятно и одновременно просто. А потом легли на кровать, прижавшись друг к другу. Он обнимал ее крепкую спину, нежно поглаживая выпуклую попку. Ей в живот упирался горячий крупный член. Он шевелился сам по себе, пульсировал, и Люда боялась даже смотреть вниз. Она впервые видела мужской орган и стеснялась. Она не представляла, как к «этому» можно дотронуться.
– Мне страшно…
– Ты же со мной.
– Ты такой большой…
– Ты даже не представляешь, какой эластичной можешь быть ты.
Георгий не сказал, что его член не помещается даже в граненый стакан. Вместо этого он шептал ей нежности, убирая с ушка густые волосы. Трогал ее всю до самых изнаночных сторон.
Они были возбуждены до предела. Часто дышали. Ее влага стекала на внутреннюю часть бедра. Он пытался проникнуть уже сотый раз, и сотый раз она кричала от боли. Георгий останавливался, пережидал, считал до тысячи. Он помнил чужие трещины и разрывы. И поэтому очень осторожно начинал сначала, открывая руками ее розовые губы. Застревая в них намертво. Хотя от страсти они увеличились и окрепли.
Он мог проявить настойчивость, чуть надавить и войти, но почему-то ее жалел.
До двух часов ночи они барахтались в постели. Ничего не получалось. Потные, с красными лицами, два тела никак не могли соединиться. Он так и не смог проникнуть ни на йоту. Останавливался на входе, глохнув от ее страданий.
А к трем часам закончились силы, терпение и желание. Захотелось немедленно покинуть эту комнатушку с давно растаявшей свечой.
Он встал, открыл занавеску на маленьком окне, крест-накрест разделенном рамами, и голышом смотрел на угомонившуюся раннюю зиму. Все стихло, только белая ровная вата толстым шаром грела колодец. Луна, как огромное блюдо, висела прямо перед окном. Оранжевая, с желтыми глазами, плоским носом и ртом. Она все это время, не отрываясь, смотрела на их невозможное соитие. Справа любопытствовало созвездие «Волосы Венеры»… Было полнолуние…
И Георгий понял, что нужно уходить. Сейчас. Ни минутой позже. В эту заснеженную чистую ночь. Люда плакала и умоляла дождаться утра.
– Куда ты пойдешь? Три часа ночи. Троллейбусы начнут ходить только в шесть. Не чищены улицы. Ты не знаешь дороги. Останься.
Но Георгий чувствовал, что задыхается. Ему хотелось освободиться, освежить голову, глотнуть стерильный мороз. Он не понимал, что с ним происходит.
– Гош, что я сделала не так? Я тебя подвела? Разочаровала? Давай еще раз попробуем, я перетерплю.
Она стояла за спиной и дергала его за руку. Целовала локоть. Она всеми силами хотела его удержать.