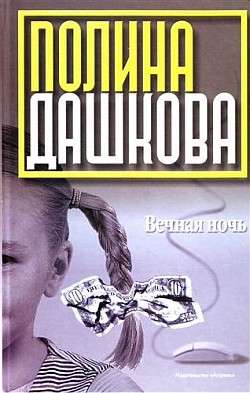Нефритовые четки Акунин Борис

– Женись на мне, – сказала смелая барышня и взяла его за руки. – Лучше тебя я все равно никого не найду. А тебе на всём белом свете не сыскать такой, как я. Посмотри на меня как следует. Только не глазами ума, а глазами сердца. Именно я тебе нужна. Каждый день твоей жизни будет боем и праздником. Со мной ты никогда не заскучаешь. А какие у нас получатся дети! Мальчики – львы, девочки – пантеры.
Всё-таки американцы – мастера рекламы, умеют подать товар лицом, ещё пытался мысленно иронизировать Эраст Петрович, но дело было швах. Например, он очень желал бы, из инстинкта самосохранения, отвести глаза, но это было невозможно. Её взгляд цепко держал его и не выпускал из своего изумрудного плена.
Дальше – хуже.
Мисс Каллиган приподнялась на цыпочки и быстро поцеловала его в угол рта – будто поставила на мустанга огненное тавро. Во всяком случае, Фандорин почувствовал себя обожжённым.
В самом деле, каково это: иметь жену, от которой родятся львы и пантеры? Он представил себя дрессировщиком, который каждый день входит в клетку, держа в руках хлыст и кусок сырого мяса.
– Кроме всего прочего, я ещё и очень состоятельная невеста, – проворковала соблазнительница. – Триста тысяч приданого!
– Меня бы устроило и десять. Больше твоя д-долина не стоит, – несколько охрипшим голосом ответил он, думая, что такой девушке приданое вообще ни к чему.
Она резко отстранилась.
– Зато меня не устраивает жених, которого устроили бы десять тысяч! Выбирай: я и триста тысяч или пошёл к чёрту!
Втягиваясь в роль дрессировщика, Эраст Петрович щёлкнул воображаемым хлыстом:
– Это ты выбирай. Я и честная сделка – или п-пошла к чёрту.
Львица с рычанием (не фигуральным, а самым что ни на есть настоящим) бросилась на него, норовя впиться ногтями в лицо – он едва успел перехватить её запястья.
Заизвивавшись в его сильных руках, мисс Каллиган хотела лягнуть обидчика коленом в пах и даже подняла ногу, но удара так и не получилось. Стройная нога замедлила движение, высоко поднялась, до отказа натянув шёлковую юбку, и обхватила Фандорина сзади.
Никогда ещё барышни в шёлковых платьях не вели себя с Эрастом Петровичем подобным образом. От неожиданности он расцепил пальцы.
Воспользовавшись свободой, Эшлин крепко обняла его и впилась в губы то ли поцелуем, то ли укусом – разобрать было трудно, но без крови не обошлось. Этот привкус лишь придал лобзанию остроты.
– Нет? – шепнула она, на миг отстранившись.
– Нет, – ответил он. – Или честно, или никак.
– Идиот!
Последовал новый поцелуй, неистовей и продолжительней первого.
Прервавшись, чтобы глотнуть воздуха, мисс Каллиган сказала:
– Неплохо. Такого растяпы в мужья мне не надо, но для «стоянки на одну ночь» сгодишься.
Фандорин не сразу понял, что означает one night stand, а когда догадался, скосил глаза на каминные часы.
Пять минут одиннадцатого. У Стара и Корка Каллигана встреча назначена на три. Успеть можно – спасибо телеграфу.
Ты что?! – взвился Разум. Уходи, пока цел! Эта хищница в самый разгар объятий перегрызёт тебе горло. За триста-то тысяч?
Второй Поводырь, Дух, отмалчивался. Госпожа Каллиган для него интереса не представляла.
Эраст Петрович попробовал возразить Первому Поводырю: если объятья будут качественными, не перегрызёт.
Но такого оппонента разве переспоришь? Значит, она сделает это, когда объятья закончатся, парировал Разум и, конечно, был на сто процентов прав.
Надо уносить ноги, сказал себе Фандорин.
Но Эшлин припала к нему, от её упругого тела исходили жар и трепет. На эту волшебную вибрацию немедленно отозвался третий из Поводырей, растолкавший и заслонивший двух остальных. В голове мелькнула истинно российская, абсолютно неконфуцианская максима «эх, была не была!», и Фандорин бесстрашно ринулся навстречу самому рискованному приключению всей своей жизни.
Перед концом света
Смелым людям часто снятся страшные сны. Наяву человек такого склада привык подавлять страх усилием воли, но по ночам, когда контроль ослабевает, из наглухо замурованного подземелья памяти выползают картины, от которых храбрец просыпается в ледяной испарине.
У Фандорина было три повторяющихся кошмара, который преследовали его год за годом: оторванная рука с обручальным кольцом; разделённое надвое девичье лицо – одна половина ангельски-белая, другая дьявольски-чёрная; и ещё один сон, более позднего происхождения, быть может, самый жуткий из всех.
Всякий раз одно и то же: сначала мутная молочная пелена – то ли снежная буря, то ли густой туман. Затем сквозь белый фон начинает проступать рябоватая поверхность, которая вскоре превращается в кусок грубой ткани. С каждым мгновением видимость делается все лучше, будто чья-то рука наводит окуляр на резкость.
На серой рогоже, каждое волоконце которой отчётливо видно, лежит тщательно спелёнутый младенец. Его пухлое личико ясно и спокойно. Солнце освещает безмятежные черты, окрашивая сомкнутые реснички золотом. На кончике вздёрнутого носика лежит и не тает красивая пушистая снежинка. Эраст Петрович тянет руку, чтоб её смахнуть, и тут из крошечной ноздри выползает жирный белый червь…
Здесь неизменно следовало судорожное пробуждение, и дрожащие пальцы никак не могли нащупать на столике спички.
Фандорин садился на кровати, закуривал и изгонял Эфиальта, демона скверных снов, единственно возможным способом: заставлял себя вспомнить, как всё было на самом деле.
Смотрел на тлеющий в темноте кончик сигары, но видел не красный огонёк, а белую реку, серебряный лес по её берегам, чёрные комья мёрзлой земли, из-под которой тихо-тихо доносится ангельское пение…
Успокоиться и заснуть получалось лишь под утро, да и то не всегда.
Начиналось всё мирно, даже уныло.
Свой сорок первый день рождения Эраст Петрович встретил в полном одиночестве. Сидел в купе курьерского поезда, смотрел в окно, за которым ничего не было, полное отсутствие какого-либо пейзажа – лишь голое белое поле, над ним такое же белое небо. Россия, январь. Рисуй по этому загрунтованному холсту что хочешь, всё пургой заметёт, ни черта не останется.
Фандорин был один, ибо по нелепому российскому правилу, про которое за годы заграничной жизни он совсем забыл, слугам не полагалось ездить первым классом. Следовало сказать в кассе, что Маса не камердинер, а, предположим, японский виконт, вдвоём ехалось бы веселее. Подвела проклятая честность в мелочах, побочный эффект затянувшейся американской жизни. Добро бы ещё сам назвался собственным именем и званием, а то всё равно ведь путешествовал в качестве «купца Эраста Кузнецова».
Бедный Маса. Вынужден трястись в жёстком вагоне, со случайными попутчиками, которые будут пялиться на его азиатскую физиономию и расспрашивать про жизнь в Китае, потому что о стране Японии никогда не слыхивали.
Эраст Петрович достал из кармана шёлковый платок с изображением двух борцов сумо, толкающихся огромными круглыми животами. Эту красоту Маса нынче утром с поклоном вручил своему господину. Где достал и сколько времени прятал, дожидаясь сегодняшнего дня, Бог весть.
Второй подарок, поездку на родину, Фандорин преподнёс себе сам. Подняв бокал, он звякнул им об окно – чокнулся с зимним русским ландшафтом и сказал: «С днём рождения, господин Кузнецов».
Фамилия была выбрана как самая распространённая у великороссов и потому меньше всего привлекающая внимание. Обличие Эраст Петрович тоже избрал самое что ни на есть среднестатистическое – во-первых, во имя все той же неприметности, а во-вторых, поскольку нынешняя его поездка посвящалась именно статистической науке. Но о статистике позже, сначала о неприметности.
Предыдущий визит в отечество, в мае прошлого года, окончательно испортил отношения отставного статского советника с предержащими властями. До такой степени, что полицейским агентам по всей империи были разосланы приметы опального чиновника – конечно, не для задержания, ибо с юридической позиции арестовывать его было не за что, а для негласного наблюдения. Слежка Фандорину, страстному приверженцу приватности, была совершенно ни к чему, да и потом, всякому известно, на какие пакости способна российская власть, если чувствует себя оскорблённой. Было бы наблюдение, а юридическую позицию и подправить нетрудно.
Поэтому незваный гость поменял всегдашнюю манеру одеваться, нарядившись вместо сюртука в поддёвку, покрыв голову не шляпой и не кепи, а картузом, и обувшись в сапоги бутылками. Ещё и бородкой оброс, что не только изменило его легко запоминающееся лицо, но и отчасти замаскировало главную примету – седые виски. Обнаружилось, что, хоть усы у Эраста Петровича по-прежнему черны, но в бороде седых волос предостаточно. Узнать в немолодом бородатом картузнике Кузнецове записного денди Фандорина было непросто.
Безусловно, после прошлогодних московских приключений было бы благоразумнее годик-другой вовсе не показываться в родных палестинах, но в этом вопросе Фандорин компромиссов не признавал. Считал, что на Россию у него не меньше прав, чем у великого князя и даже самого императора. Если необходимость или, как сейчас, научный интерес требуют твоего присутствия на родине, августейшим особам придётся потерпеть. Мало ли что они венценосные, а Фандорин нет. С венценосных, собственно, и спрос больше. Если живёте во дворцах, едите на золоте и все вам служат, так сознавайте свою ответственность. Увы, вряд ли в России когда-нибудь появятся правители, понимающие, что царствование – Крёстный Путь, а золотая корона – Терновый Венец.
Мысли подобного рода Эрасту Петровичу приходили в голову довольно часто, и каждый раз настроение портилось. Те из соотечественников, кто относился к монархии сходным образом, все сплошь желали революции и именовали себя социалистами. Фандорин в эффективность революций не верил, а к любым теориям, оперирующим понятиями «народ», «нация», или «классы-массы», испытывал необоримое отвращение. Это надо же додуматься – сгонять людей в кучи по тому или иному внешнему признаку! Низвести человека, который есть венец творения, образ Божий и целая вселенная, до социальной функции, до муравьишки в муравейнике!
Вот и ехал по широкой русской равнине некто Эраст Петрович Кузнецов, ни Богу свечка, ни черту кочерга, глядел в белое заоконье и чем дальше, тем больше хмурился, самоедствовал – в общем, вёл себя исключительно по-русски, а никак не по-американски.
Американец всегда, и уж особенно в день рождения, постарается придумать себе повод для оптимизма.
Быть может, отвлечься чтением?
Фандорин раскрыл захваченную в дорогу книгу («Крейцерову сонату»), но вскоре отложил. Направление, которое в последние годы принял гений графа Толстого, порой вызывало у Эраста Петровича раздражение.
На полочке стояло несколько томиков, припасённых железной дорогой для досуга г. г. путешествующих первым классом. Чтение всё было богополезное и душеспасительное, поскольку этим маршрутом обыкновенно ездили паломники к святым местам Севера. Внимание хандрящего пассажира привлекла книжица «Имена и именины» с перечислением дней памяти святых, краткими очерками их жизни и занятными комментариями по поводу христианских имён. Самое подходящее чтение для дня рождения.
Как ни странно, Фандорину никогда прежде не приходило в голову поинтересоваться, в честь какого святого он наречён столь малораспространённым именем. Стал читать – удивился.
Святой Ераст жил в первом столетии и принадлежал к числу семидесяти апостолов, призванных Иисусом на Служение помимо первоначальных Двенадцати. Родом он был не иудей, а грек (что для ранней поры христианства довольно экзотично), происходил из знатного рода и занимал высокий пост в городе Коринфе. Однако, следуя голосу сердца, покинул всё, пошёл по городам за святым Павлом и потом стал епископом не то в Палестине, не то в Македонии. Биографических сведений об этом полулегендарном муже древности почти не сохранилось. Согласно одной версии (палестинской), Ераст дожил до глубокой старости и почил в мире. Согласно другой (македонcкой), принял мученический венец во время Нероновых репрессий.
Палестинский исход Фандорину сначала понравился больше. Хотя… Он отложил книгу, немного подумал и пожал плечами: пожалуй, оба варианта не так плохи.
По поводу же своего имени прочёл следующее: по-гречески «эрастос» означает «возлюбленный»; оказывается, Эрастов делят на зимних и летних – по времени рождения. Зимний отличается беспокойным и независимым характером, надеется только на себя и идёт каменистыми тропами. Летний же легкорадостен, ничего не принимает близко к сердцу, существование его безмысленно и приятно.
Позавидовав летнему тёзке, Фандорин ещё некоторое время размышлял о своём имени.
Всё же маловероятно, чтобы отец нарёк его в честь Ераста Коринфянина. Покойный родитель был не набожен и к церковным традициям малопочтителен. Скорее всего назвал так от горечи – не простил младенцу, что тот стал причиной смерти своей матери, скончавшейся от родильной горячки. Бедняжку звали Лизой, а сына безутешный вдовец, стало быть, определил в Эрасты, то есть погубители. Нарёк, как проклял. Пройдёт двадцать лет, и жестокая тень карамзинской повести накроет Фандорина-младшего ещё раз. Жену тоже будут звать Лиза, и погибнет она опять из-за него, Эраста…
Поезд миновал равнину, побежал через еловый лес, за окном уже смеркалось, а настроиться на американский оптимизм у именинника всё не выходило.
Тогда он мобилизовал всю свою волю и принялся изгонять хандру энергическим усилием. Запретил себе думать про смутное будущее отчизны, про прежние утраты, заставил мысль устремиться вперёд и вверх, в сияющие выси Прогресса. По глубокому убеждению Фандорина, бедную Россию могло спасти одно: быстрое движение по пути Общественного Развития и Науки, больше уповать было не на что.
Он занялся составлением подробного плана предстоящей экспедиции, и настроение сразу улучшилось.
Цель поездки была непосредственно связана с уже поминавшейся статистикой, королевой общественных наук. К этой увлекательной сфере знаний Фандорин проникся интересом совсем недавно.
Будучи по делам в Нью-Йорке, из чистого любопытства заглянул на конгресс Международного статистического общества, проходивший под девизом «Statistics – the Champion of Progress»[25]. И надо же было случиться, чтоб именно в этот день там выступал докладчик из Санкт-Петербурга, некто тайный советник Тройницкий. Его превосходительство поведал собравшимся о подготовке к первой в истории общероссийской переписи населения. Предмет сообщения был необычайно интересен, масштабность и трудноосуществимость поставленной задачи поражали воображение. Эраст Петрович дослушал выступление до конца, задавал вопросы на обсуждении, а потом ещё и счёл полезным представиться соотечественнику.
Этот человек произвёл на Фандорина изрядное впечатление. Он был совсем не похож на стандартное российское превосходительство: ни пышной растительности на лице, ни чваности в повадке, ни велеречивого краснобайства. Энергичен, современен, скуп на слова. Даже на визитной карточке ничего лишнего. Генеральский чин опущен как второстепенность, обозначена лишь должность – Директор ЦСК (Центрального Статистического Комитета). Фандорин, помнится, ещё подумал: если у нас дошли до аббревиатур, значит, Россия и в самом деле устремилась в 20 век, когда все будут решать быстрота и экономичность.
Из доклада и беседы с тайным советником Эраст Петрович почерпнул множество интереснейших сведений.
Перепись всех подданных великой империи (по очень примерному расчёту около 100 миллионов душ) будет проведена за один день, 28 января 1897 года. Для того чтобы это титаническое мероприятие прошло успешно, счётчики предварительно обойдут каждый двор и каждый дом, готовя списки и разъясняя населению смысл предстоящего события. В этой работе, которая растянется на несколько недель, примут участие 135 тысяч статистиков и их добровольных помощников из числа интеллигенции, грамотных крестьян, отставных солдат и духовенства.
Затем в течение суток переписные листы заполнятся и будут отправлены в ЦСК. Сей champion прогресса применит для обработки данных новейшую вычислительную технику. Американские табуляторы Холлерита рассортируют и сгруппируют сведения о ста миллионах человек по любому из включённых в опрос признаков: вероисповеданию, полу, возрасту, семейному положению, ремеслу и прочая, и прочая.
Легко было верить в это торжество прогресса, находясь в Нью-Йорке, на 15-м этаже небочёса «Баулинг-Грин», где заседал просвещённый форум, но стоило Эрасту Петровичу на миг прикрыть глаза, воскресить в памяти просторы отечества, хмурые лица его обитателей, и сразу возникли нешуточные сомнения. Не прожектёрство, не маниловщина ли?
Он списался со старинным петербургским приятелем, который по роду службы был осведомлён обо всех важных государственных начинаниях, спросил его мнения. Получил довольно скептический ответ: да, средства выделены, и немалые; работа началась и движется полным ходом; перспективы, однако, сомнительны. Не вполне ясно, как переписывать, скажем, жителей полуразбойничьих кавказских аулов, или среднеазиатских кочевников, или, того пуще, заволжских да стерженецких раскольников, для которых всякая инициатива власти – конец света и пришествие Антихриста.
Прочтя про раскольников, Фандорин окончательно решил, что должен ехать, причём непременно на русский Север. Захотелось увидеть собственными глазами, как двадцатый век столкнётся с семнадцатым, как допетровскую Русь вобьют на холлеритовскую перфокарту. У американской цивилизации есть ещё одно замечательное изобретение: познавательный туризм. Вооружившись ваучером от «Кука», разговорником, резиновой ванной и дезинфицирующими таблетками, любознательные янки бесстрашно штурмуют отроги Анд, предгорья Килиманджаро и австралийские пустыни. Турист Э.П.Кузнецов отправился маршрутом не менее экзотичным, но гораздо более комфортным: по железной дороге из Петербурга через Ярославль в Вологду, оттуда на санях по гладкому почтовому тракту, да под тёплой медвежьей полостью до уездного Стерженца, ну а куда дальше – это скажет председатель тамошней статистической комиссии, к которому у путешественника имелось рекомендательное письмо.
Однако рекомендация (очень солидная, от того самого приятеля, что принадлежал к числу осведомлённых лиц) не понадобилась. Главный уездный статистик так обрадовался человеку, приехавшему из столицы, что на письмо даже не взглянул.
Алоизий Степанович Кохановский и сам всего год как приехал из Петербурга в эту северную глушь – добровольно, по зову сердца. Был он ещё очень молод, без конца цитировал Некрасова и всей душой верил, что земству суждено преобразить Россию.
Город Стерженец был совсем маленький, можно сказать, вовсе и не город, а среднего размера село. Ни одного каменного здания, церковь, и та деревянная.
Но сидя в гостях у Кохановского и слушая, как вдохновенно тот расписывает революционное значение переписи, Эраст Петрович окончательно уверился, что отстал в своём Массачусетсе от жизни, и что представления о родной стране пора менять.
– Перепись – первый шаг к цивилизованию не одного отдельно взятого слоя общества, а всей народной массы! – горячо говорил статистик, размахивая чайной ложечкой. – Воистину Россия – страна огромных, неограниченных возможностей. Как здесь можно развернуться, если не боишься работы! В каком ещё государстве человеку моего возраста доверили бы дело такого масштаба? Уездище у нас – больше Бельгии. От края до края 500 вёрст. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Распишем, всех распишем! И крестьян, и язычников, и мнихов по скитам! Каждого человечка, уж будьте покойны. Размеры, конечно, гигантские плюс адское бездорожье, но и это не беда, коли с умом взяться. Все деревни по берегам рек стоят, а это, доложу я вам, очень дельно придумано. Летом нетрудно доплыть на лодке, а зимой вообще красота – на саночках, как по маслу!
Наблюдать за энтузиастом и его юной женой, заворожённо внимавшей оратору, было отрадно. Фандорин даже залюбовался Алоизием Кохановским, который своей худобой, долговязостью и в особенности остроконечной бородкой был вылитый дон Алонсо Кехана, разве что в пенсне.
– А что старообрядцы? – осторожно спросил гость. – Не будет ли с ними т-трудностей?
– Это да, – несколько померк стерженецкий идальго. – Это большая проблема. Завтра намереваюсь отправиться по Выге – река такая, к Белому морю выходит, близ Усть-Выжска. Но я-то отправляюсь не вниз, а в верховья. Все наши раскольники живут там… В декабре уже ездил, но не очень удачно, нужно ещё раз. – Он расстроенно подёргал себя за бородёнку, однако долго предаваться унынию, видимо, не умел – снова оживился. – Ах, какие там люди! Золотые сердца! «В рабстве спасённое сердце свободное – золото, золото сердце народное!» Настоящие былинные персонажи – сплошь Пересветы, Осляби и Микулы Селяновичи. – Тут Кохановский сконфуженно улыбнулся. – Правда, я для них – Тугарин-Змей. Ни одного счётчика завербовать не удалось. Но на сей раз я всё предусмотрел, сами увидите. Вы ведь говорили, что желаете меня сопровождать?
– Если п-позволите, – поклонился Фандорин. – Я и мой слуга. Он вас не обременит, совсем напротив.
– Да-да, конечно, очень рад. Я бы и Сонечку взял, она тоже мечтает, – ласково посмотрел статистик на жену, – да нельзя. Раскольники не одобрят.
Очкастую, коротко стриженную Сонечку, курившую папиросу за папиросой, староверы точно бы не одобрили – это было понятно без объяснений.
– Какие у вас основания надеяться, что повторная поездка будет удачнее? – спросил Фандорин.
– Два, и оба стопроцентные, – гордо сообщил Алоизий Степанович. – Во-первых, я получил в губернии портфели для раздачи переписчикам. Дешёвенькие, из коленкора, но портфель для крестьянина – это ого-го! Я сильно рассчитываю на этот стимул. Ну а во-вторых, меня будет сопровождать человек, который хорошо умеет разговаривать с крестьянами. Лев Сократович Крыжов, из ссыльных. Временно назначен товарищем председателя статистической комиссии. Необыкновенная, чудеснейшая личность!
Что господин Крыжов личность необыкновенная, было видно сразу – по обветренному, мужественному лицу, по спокойным глазам, по небрежной ловкости, с которой он управлял обеими повозками: и передней, в которой ехал сам, и задней, где разместился Кохановский с портфелями, чернильницами, переписными листами и прочей канцелярией. Со своей норовистой каурой лошадкой уездный статистик совладать не смог, и на второй версте пути Крыжов отобрал у него вожжи – привязал к задку своих саней. Поразительно, но каурая сразу успокоилась, и охотно бежала сзади, даже не натягивая поводьев. Животные отлично чувствуют, с кем можно артачиться, а с кем нельзя. С Львом Сократовичем явно не стоило.
«Чудеснейшим», правда, товарищ председателя Фандорину не показался. Поскольку повозка Кохановского была перегружена, «турист» и его слуга поместились в передних санях, так что у Эраста Петровича была возможность разглядеть этого человека вблизи.
Крыжову было, пожалуй, лет пятьдесят. По виду обычный крестьянин: в овчинном полушубке, в валенках, перепоясан кушаком, серая борода по-мужицки неухожена, руки грубые, с обломанными ногтями. Но посконность не изображает, говорит по-столичному, без сермяжности. И к народу-богоносцу, похоже, относится без обычных интеллигентских слюней. На вопрос, как он собирается уговаривать раскольников не противиться переписи, товарищ председателя презрительно сплюнул коричневой от махорки слюной.
– «Уговаривать». Эту публику уговаривать – только хуже делать. Припугну как следует: мол, станете упираться – казаки вас насильно пересчитают. Казаков они в жизни не видывали, да у нас в губернии их и нет, но тем оно страшнее. Мужик – дурак. Его, дикаря сиволапого, надо к свету за шиворот волочь, да ещё палкой погонять. – Подхлестнул крепкого мохнатого конька, без труда тащившего сани с тремя ездоками, затянулся цигаркой, снова сплюнул.
Впрочем, Лев Сократович предпочитал помалкивать, быть приятным не пытался. На Фандорина с Масой взглянул всего один раз, в самом начале, очень внимательно, и больше головы в их сторону не поворачивал. Так что насчёт «чудеснейшего» Алоизий Степанович явно спрекраснодушничал.
День был пасмурный, волглый, чрезвычайно тёплый. Сани неслись по твёрдому, слежавшемуся насту лучше, чем по шоссе. Отправляясь на север, Эраст Петрович готовился к морозам, а угодили в оттепель. Дорожный термометр показывал плюс четыре, с веток капало, из-под снега кое-где выглядывал красивый зеленоватый лёд.
Японец, надевший две пары шерстяного белья, ватные штаны, валенки с галошами, волчью шубу и лисий малахай, весь упарился. Наконец, не выдержав, снял шапку, подставил мокрый от пота ёжик волос встречному ветерку.
Тут Крыжов, который хоть назад и не смотрел, но, оказывается, все видел, обернулся, вырвал малахай, нахлобучил Масе на макушку и буркнул:
– Скажите вашему калмыку, что он застудит свою глупую башку. На реке это моментально.
– Господин, мне не нравится этот человек, – пожаловался камердинер по-японски, но остался в шапке. – Мне очень жарко, и я сильно сожалею, что не захватил свой веер.
Утешился тем, что достал из кармана леденец и сочинил грустное семнадцатисложное трехстишье:
- Гибнуть от жары
- Среди льда и снегов —
- Адская мука.
Русло реки белой змеёй извивалось меж лесистых берегов. Покрытые тающим льдом сучья казались стеклянными, а когда из-за туч на минутку выглянуло солнце, все вокруг заиграло радужными бликами, будто качнулись подвески огромной хрустальной люстры.
Чувствительный к прекрасному японец немедленно откликнулся пятистишьем из тридцати одного слога:
- Я спустился в ад,
- Чтоб увидеть красоту,
- Какой нет в раю.
- Скажи, есть ли на свете
- Сатори изысканней?
Лев Сократович же по поводу буйства радужных сполохов сказал:
– Чёртова иллюминация. Глаза заболели.
До первого староверческого поселения, большой деревни Денисьево, по Выге было 50 вёрст. Выехали из Стерженца ещё затемно, и к полудню две трети пути остались позади.
Не спросив начальника, Крыжов вдруг объявил:
– Привал.
И повернул лошадь к берегу.
Быстро, не сделав ни одного лишнего движения, нарубил сучьев, запалил костерок. Стали пить чай с ромом из общего котелка, а ели всяк своё: статистик жевал малоаппетитные бутерброды с сыром, его помощник грыз какие-то бурые лоскуты – вяленое лосиное мясо, Фандорин с Масой подкрепились рисовыми колобками с сырой рыбой.
Поев, закурили: Крыжов пахучую махорку, Кохановский папиросу, Фандорин сигару, Маса костяную японскую трубочку.
Тут-то впервые и завязалось некое подобие общей беседы.
– Зачем поехали? – спросил Эраста Петровича бывший ссыльный. – Любопытствуете на наших могикан посмотреть? Или по делу?
– Любопытствую.
Как ни странно, но этот короткий и не слишком вежливый ответ грубому Льву Сократовичу, кажется, понравился. Может быть, своей откровенностью?
Второй вопрос был неожиданным:
– Вы какого вероисповедания?
Фандорин пожал плечами:
– Никакого. Всякого.
– Пантеист, что ли? – усмехнулся Крыжов. – Мне, собственно, всё равно. Я в Боженьку не верую. А спросил вот зачем. Совет хочу дать. Коли вы по-всякому веровать можете, то побудьте-ка пока старообрядцем. Пускай не шибко богомольным, у городских это часто бывает, но говорите всем, что вы из староверческой семьи. Иначе ничего путного из вашего вояжа не получится. С «табашником-щепотником» никто и говорить не станет. Так что сигарки ваши припрячьте, а как въедем в деревню, перекреститесь двоеперстно, не щепотью. Умеете? Нет, неправильно! Мало сложить средний и указательный, нужно ещё из трёх остальных «троицу» построить. Вот так, – показал он.
Совет был неглуп. Выпустив последнюю струйку ароматного дыма, Фандорин велел Масе убрать курительные принадлежности на самое дно чемодана.
– Почему местные с вами-то разговаривают? – спросил Эраст Петрович. – Вы ведь раскольником не прикидываетесь?
– Я другое дело. Я ссыльный, а значит, по-ихнему, от царя пострадал. Поэтому мне доверяют и даже на мою махорку не серчают.
– А у меня старообрядчество вызывает восхищение! – воскликнул Алоизий Степанович, которому, видимо, нужно было поминутно чем-то восхищаться. – Это настоящее, исконное русское христианство. И дело не в обряде, а в духе. Православие – вроде департамента при правительстве, служит не столько Богу, сколько кесарю. Что это за Христова вера, если её кесари поощряют? А раскол от государства держится наособицу. Только такою – нагой, гонимой, бессвященной – и должна быть настоящая вера! Не в пышных храмах она живёт, не на епископских подворьях, а в душах. Здешние жители сплошь беспоповцы, сами службы служат, в домашних молельнях. Свободный выбор и радение за свои убеждения – вот что такое староверие!
Его помощник только скривился.
– Косность, суеверие и тупое мужицкое упрямство. Лучше сдохнут, а нового в свою убогую жизнь не пустят. Помяните моё слово, ещё дождёмся из-за переписи гарей.
– Каких г-гарей? – спросил Эраст Петрович.
– А это когда раскольники сами себя сжигают. Как во времена протопопа Аввакума. Тут по лесам, по скитам не одна тыща народу с молитовкой да песнопением заживо сгорела. И в восемнадцатом столетии, и при Николае Палкине, когда тот начал раскол прижимать. Старики со старухами помнят. Я-то по деревням много езжу, слышу разговоры. Для раскольника переписные листки – Антихристова печать. Знаете, как они говорят? Нечистый перед концом света хрестьянские души считает, чтоб ни одна не спаслась. Ходят кликуши, баламутят народ. Кто призывает в огонь, кто в землю живьём, а самые благостные – запоститься, то есть голодом себя уморить.
– Ну, до этого не дойдёт, – махнул рукой Кохановский. – Поговорят и успокоятся. Боюсь только, как бы перепись не сорвали.
– Конечно, успокоятся, – с видимым сожалением признал Крыжов. – Без искры даже сухой хворост не займётся. Эх, кабы во времена наших идиотских хождений в народ этакий подарок от властей. Уж мы бы мужичка колыхнули! А так только зря пропали, и какие люди! Один Сергей Геннадьевич всех нынешних эсдеков стоил…
– Кто-кто? – удивился Алоизий Степанович, Фандорин же посмотрел на бывшего ссыльного с новым интересом.
Вопрос так и остался без ответа – Крыжов не слишком церемонился со своим начальником.
Поменяв тему, Лев Сократович спросил, не был ли случайно господин Кузнецов в Москве, когда там на Ходынском поле передавили кучу народу. А когда узнал, что да, был и видел все собственными глазами, принялся жадно выспрашивать подробности.
Фандорин отвечал неохотно – у него с Ходынкой были связаны тягостные воспоминания, но Лев Сократович не отставал и лишь приговаривал: «Хорошо! Ах, как хорошо!»
– Да что ж тут хорошего, п-позвольте спросить? – рассердился наконец рассказчик. – Полторы тысячи убитых, несколько тысяч покалеченных!
– Ещё одна пробоина в корабле дураков. Скорей потонет, – отрезал Крыжов и так расстроил этим людоедским высказыванием главного уездного статистика, что тот захлопал ясными, близорукими глазами и ни к селу ни к городу залепетал про погоду:
– Какой тут климат удивительный! Тысяча вёрст к северу от Москвы, а на десять градусов теплее! Поразительная теплынь! Уже целую неделю держится! Мне рассказывали старожилы, что такого января не бывало с тысяча восемьсот…
– Пора, едем, – прервал его Крыжов, поднимаясь. – Оттепель эта чёртова некстати. На реке, где ключи бьют, лёд подтаял. Я-то гляжу, куда еду, а если кто спьяну или без понятия, запросто провалится.
И ведь накаркал, недобрый человек.
Река сузилась, огибая каменный утёс, потом снова расправила берега. Мохнатый конёк с разбегу вылетел из-за поворота и, всхрапнув, прянул в сторону – Эраст Петрович едва успел ухватиться за край саней, Маса же и вовсе кубарем полетел в снег.
Картина, открывшаяся взору путешественников, была пугающей и в первый миг малопонятной, даже абсурдной.
Под самым обрывом во льду зиял разлом, в котором колыхалась тёмная вода. Из воды тянулся брезентовый повод, в который изо всех сил вцепился тощий, долговязый человек в чёрном. Сзади стоял ещё один, в таком же одеянии, но низенький и очень толстый – он тянул долговязого за пояс. Эрасту Петровичу эта сцена напомнила народную сказку про репку, лишь внучки да кошки с мышкой не хватало, но многоопытный Лев Сократович сразу понял, в чём дело:
– Тьфу! Болваны долгополые! Упустили под лёд и коня, и сани.
Толстый обернулся, увидел людей и жалобно крикнул, налегая на букву «о»:
– Люди добрые! Помогайте, тяните! Катастрофия! Лошадь потонула! Сани! Имущество! Шуба лисья!
Это был священник, причём немалого звания, если судить по богатому золочёному кресту, по щекастой физиономии, по добротной шерстяной рясе. Второй тоже обернулся, разинул рот. Этот был совсем молодой, с жидкой пшеничной бородкой, в огромных стоптанных валенках.
– Дьякон, дурья башка, не выпускай! – накинулся на него толстый, ткнул кулаком в спину. – Тяни ты, тяни! Подсобляй, православные!
Фандорин хотел вылезти из саней, но Лев Сократович остановил его движением руки.
– Давно провалились? – спокойно спросил он.
– Полчаса-то будет, – бойко ответил дьякон, с любопытством разглядывая незнакомцев.
Из вторых саней с причитаниями выскочил Кохановский.
– Отец Викентий! Господи, как же это? Ах, ах! Что же вы, господа, помочь нужно! Это наш благочинный, отец Викентий! Лев Сократович, Эраст Петрович, хватайтесь!
– Бесполезно, – отрезал Крыжов. – Лошадь потопла, а сани мы не вытащим. Отпускай вожжи, дьякон.
Молодой священнослужитель охотно послушался, и повод соскользнул в воду. Благочинный только охнул.
– У меня там сундук! В нём облачение, бельё козьего пуха, сорочки! И шуба, шуба! Жарко стало, скинул! Всё ты, Варнава! – замахнулся он на дьякона. – Куда гнал, стручок лузганый? Ныряй теперь, доставай!
Варнава шмыгнул носом и попятился. Лезть в ледяную воду ему не хотелось.
– Не достанет, – сказал Лев Сократович. – Здесь омут, и ключ со дна бьёт. Потому и подтаяло. Коль взялись ехать по реке, лёд чувствовать нужно… Ладно, господа, время. Нужно в Денисьево засветло попасть.
Он дёрнул за поводья, отводя лошадь подальше от опасного места.
– Погодите! – возопил отец Викентий. – А мы-то? Мы-то как же? Без средства передвижения, без тёплого одеяния!
Но Крыжов был невозмутим:
– Ничего. До деревни двенадцать вёрст, мороза нет. Дотрусите как-нибудь. Разогреетесь.
– Грешное говорите! – ещё пуще взволновался благочинный. – Какое непочтение к особам духовного звания! Я вас не велю к причастию допускать!
– Нно, пошёл! – прикрикнул Лев Сократович на замешкавшего конька. – Что мне ваше причастие? Я атеист. Господин Кохановский тоже не из богомольцев. Кузнецов – раскольник. А его азиат, надо полагать, и вовсе барану или верблюду молится.
На помощь священнику пришёл гуманный Алоизий Степанович:
– При чём тут религия? Нельзя бросать людей в беде! Мы можем потесниться.
– Вы в статистической комиссии распоряжайтесь, – не поддавался Крыжов. – А на реке уж позвольте мне. Нельзя лошадей перегружать, надорвём. Нам ещё до верховьев добираться.
Не уступал и Кохановский. Завязалась дискуссия, сопровождаемая то жалобными, то возмущёнными возгласами благочинного. Дьякон-то помалкивал. Шмыгал носом, с любопытством вертел головой, наблюдая за спорящими. Его, в отличие от отца Викентия, перспектива двенадцативерстной пешей прогулки, видимо, не пугала.
– Хорошо! Предлагаю решить вопрос демократическим путём! – предложил Алоизий Степанович. – Думаю, вы, как прогрессивный человек, согласитесь. Проголосуем: брать их с собой или не брать.
– Я за! – сразу крикнул благочинный.
– Церковь выступает против всеобщего избирательного права, – напомнил ему Крыжов. – Так что святые отцы не участвуют. Я – против.
– Я тозе, – решительно поддержал его Маса. – Росядь – дзивое сусетво, её дзярко. Этот черовек сриськом торустый, – показал он на отца Викентия.
– Не толстый, а тучный, – обиделся тот и горько посетовал. – Эх, господа демократы, нехристю косоглазому электоральные права выделили, а исконных русаков побоку? Доверь вам Русь-матушку! – Он воздел руки к Фандорину. – На вас единственно уповаю! Хоть вы и старой веры, но ведь одному Христу ревнуем!
– П-право, господа, едем. Мы и так потеряли много времени, – примирительно сказал Эраст Петрович. – Чтобы не перегружать лошадей, будем ехать по очереди. Вы, святой отец, пожалуйте в наши сани, а вы, отец дьякон, во вторые. Залезайте под полость, грейтесь. Я пойду рядом, а через версты две п-поменяемся.
– Истинное являете милосердие, – чуть не прослезился благочинный, скорей пролез под медвежью шкуру и тут же сменил тон. – Ну, чего ждём? Трогайте!
Не прошло и десяти минут, как Фандорин горько пожалел о своём человеколюбии. Пока отец Викентий жаловался, как тяжко благочинствовать над округом, где православных почти нет, а сплошь одни раскольники, было ещё терпимо, даже познавательно. Но потом у отогревшегося представителя правящей церкви возникла блестящая идея: раз слушателю деваться все равно некуда, не помиссионерствовать ли, не спасти еретическую душу?
На чёрствого Крыжова он порох тратить не стал, взялся за Эраста Петровича, очевидно, сочтя его самым слабым звеном в цепи иноверцев и атеистов.
– Как вас по имени-отчеству? Из каких же раскольников будете? – вкрадчиво спросил отец Викентий. – Обличье у вас не нашенское.
– Эраст Петрович. Я м-московский, – ответил Фандорин и, вспомнив, что раскольники имеют в Первопрестольной собственное место обитания, прибавил: – Из Рогожской слободы.
– А-а, москвич. То-то я слышу – говор грубый, всё «а» да «а», будто собака лает. Рогожские старообрядцы не то что здешние, вы священство признаете, своего епископа имеете. Начальствопочитание это хорошо, это уже пол-веры. По лицу и манерам вашим, любезный Ерастий Петрович, видно, что человек вы книжный и просвещённый. Как же это вы троеперстие отвергаете? Разве не сказано чёрным по белому: «Перве убо подобаетъ ему совокупити десныя руки своея первыя три персты, во образъ Святыя Троицы»? А ещё дозвольте вас про патриарха Никона спросить, который для ваших единоверцев хуже диавола. Разве не исполнил сей муж задачу великую, государственную, когда сызнова воссоединил все церкви византийского корня, да привёл их под сень московскую? Разве не должны мы, славяне, возблагодарить…
Маса, зажатый в самый угол саней упитанным отцом Викентием, не выдержал и сказал по-японски:
– Садитесь на моё место, господин. Я разомну ноги. – И проворно вылез, отретировался назад, ко вторым саням.
Комментарий священника был таков:
– Не выдержало ухо басурманово благочестивой речи. Тоже ещё и об этом задуматься вам не мешало бы. Если нехристю слова мои поперёк сердца, значит, они и черту не угодны. А сие, согласно законам логики, означает, что они угодны Господу. Вот и рассудите как умный человек: коли мои слова богоугодны, так, стало быть, в них истина… Я вижу в вашем взоре сомнение?
– Нет-нет. Мне просто нужно сказать два слова г-господину Кохановскому, – пробормотал Эраст Петрович и тоже отстал, прибился к задним саням.
Там, оказывается, тоже говорили о божественном.
– Красота-то, красота какая! – восхищался дьякон. – Как это люди есть, кто в Бога не верует? Видал я на картинках творения прославленных художников. Отменно хороши – нечего сказать. Но что их творения, хоть бы даже самого господина Айвазовского, против вот этого? – обвёл он рукой берега, реку, небо. – Как лужица малая против океана!
– Это верно, это вы замечательно верно сказали! – признал Кохановский.
– То-то что верно. – И Варнава запел звонким дискантом 23-ий псалом. – «Господня земля, и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней! Той на морях основал ю есть и на реках уготовал ю есть!»
Маса припустил обратно к первым саням. От поспешности и непривычки к валенкам споткнулся, еле удержался на ногах, и дьякон, оборвав пение, заливисто расхохотался – так развеселил его неуклюжий инородец.
Вдали, над высоким берегом, показались дома деревни Денисьево: большущие, с крошечными резными оконцами. Из труб к небу тянулись белые столбы дыма.
Внезапно передние сани остановились – возница резко натянул поводья.
– Кохановский, слышите? – крикнул Лев Сократович, приподнявшись на облучке. – Собаки воют. Странно.
И действительно, по всей деревне, словно сговорившись, выли псы. Никаких других звуков не было: ни голосов, ни шума работы – лишь унылый, безутешный хор собачьей тоски.
– Что у них там стряслось? – недоуменно спросил Крыжов, трогая с места. – Померли, что ли?
Нет, не померли.
Когда сани подкатили к околице, из ближнего дома выскочила старуха и, мелко семеня, побежала куда-то по улице. На приезжих не оглянулась, что для жительницы захолустной деревни было удивительно.
Лев Сократович окликнул её:
– Эй, старая!
Но бабка не остановилась.
Тогда Кохановский соскочил с облучка, бросился вдогонку.
– Почтеннейшая! Мы из уезда, по поводу переписи! Где бы найти старосту?
При слове «перепись» старуха наконец обернулась, и стало видно, что её лицо искажено то ли горем, то ли страхом. Она перекрестилась двумя пальцами, громко пробормотала: «Тьфу на тебя!» и, не ответив, юркнула за угол ближайшего дома.
– Что за чёрт, – растерянно пролепетал Алоизий Степанович.
Фандорин с интересом рассматривал поселение.
Староверческая деревня была очень мало похожа на обычные, среднерусские. Во-первых, впечатлял размер построек. Даже зажиточные крестьянские семейства где-нибудь на Рязанщине или Орловщине не имеют таких домов: высоченных, в два – два с половиной этажа, с десятком окон по фасаду, а на некоторых поверху ещё и резные балкончики. Во-вторых, совсем не было заборов. Сосед от соседа здесь не отгораживался. А больше всего поражала опрятность и ухоженность. Ни покосившихся крыш, ни куч мусора, ни кривых сарайчиков. Всё добротное, крепкое, аккуратное. Из-за затянувшейся оттепели снег на улице почти всюду потаял, но раскисшая грязь была присыпана жёлтым песком, и полозья скрипеть скрипели, но не вязли, не застревали. Ближе к центру дома стали ещё лучше – на каменном подклете, с кружевными занавесками на окнах.