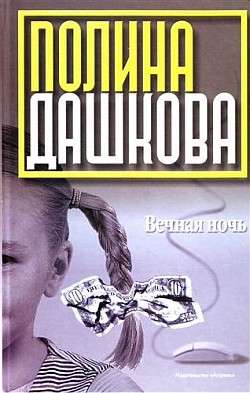Нефритовые четки Акунин Борис

С Кириллой, кажется, всё было в порядке. Около неё толпились ахающие и галдящие бабы. В ногах у сказительницы ползала рыдающая Полкаша, покаянно тыкалась лбом в землю.
– Ладно тебе, ладно. – Кирилла пошарила рукой, взяла девочку пальцами за тощую шею, придержала. – Ну напугалась, это ништо. Э, да ты голая. Бабоньки, оденьте её, простынет.
Казалось, эта удивительная женщина нисколько не потрясена случившимся.
– Каков типаж! – с гордостью сказал Фандорину промышленник. – Коренная русская порода! Сгорела бы, а повязку не сняла, обета не нарушила.
– Не обгорели? – спросил Эраст Петрович, приблизившись к Кирилле. – Где-нибудь болит?
– Болеть может только душа, – ответила она, повернув голову в его сторону. – А на душе хорошо, мирно. Это вы меня вытащили? Из наших будете, из христиан?
– …Из христиан, – несколько смущённо ответил он, хоть и догадался, что под этим словом она имеет в виду исключительно старообрядцев.
– Он, он тебя вызволил! – зашумели женщины. – Его благодари!
Но Кирилла равнодушно обронила:
– Бог попустил. Коли сподобил выйти из огня, значит, нужна ещё.
Старики и мужчины молча стояли и смотрели на пожар. Было ясно, что соборную уже не спасти, сгорит дотла.
Эраст Петрович заметил, что урядник, опустившись на четвереньки, роется в снегу. Нашёл что-то, поднёс к глазам.
Стараясь не привлекать внимания, Фандорин подошёл.
– Огниво, – вполголоса сообщил Одинцов. – И трут, обгорелый. Который же из них?
Он так и впился взглядом в деревенских.
– Плохо ищешь, – сказал ему Эраст Петрович, делая шаг в сторону. – А ещё п-полицейский.
Разгрёб снег и поднял увесистый предмет, тускло блеснувший в отсвете пламени.
Это был массивный железный крест на цепи, в которой разошлось одно из звеньев.
Наутро, как и собирались, двинулись дальше.
Потери от ночного пожара оказались не столь уж велики. По счастью, вся поклажа оставалась в санях и от огня не пострадала. Сгорело лишь кое-что из одежды – у тех, кто выскочил на улицу в бельё, но это было поправимо. Самый большой ущерб понёс дьякон, лишившийся скуфейки и подрясника, – ему переодеться было не во что. Но Крыжов дал Варнаве запасные валенки, Кохановский вязаный свитер, Евпатьев – короткий полушубок, а голову погорелец повязал шерстяным платком на пиратский манер и в этом наряде стал даже живописен.
Чудом спасшуюся Кириллу взяли с собой – она тоже держала путь в верховья. Евпатьев почтительно пригласил сказительницу к себе в возок, Полкашку укутали в одеяло и посадили рядом с кучером.
Поехали.
На этот раз устраивать пробежку Фандорин не стал, сел в сани к Одинцову. Им было что обсудить.
Когда караван рассредоточился, вытянувшись по льду неторопливой сороконожкой, в замыкающей повозке начался серьёзный разговор, малопонятный для постороннего уха.
– Вот и вся недолга, – сказал полицейский, поотстав от евпатьевской кибитки, что ехала перед ним.
– Неужели? – задумчиво молвил Эраст Петрович.
– А то нет? Поджёг-то кто?
– Он.
– Для чего поджёг – ясно. Всех нас, антихристов, извести. Чтоб раскольников переписываться не понуждали. Нно, леший, шевелись! – прикрикнул урядник на ещё не разогнавшегося конька. – Слыхали, как он дохтуру-то? «Теперь знаю», говорит. Знаю, как с вами, аспидами, обойтись… Ну, чёрт бешеный! Ходит по деревням, народ мутит.
Одинцов поглядел на собеседника, увидел, что тот озабоченно хмурит брови.
– Ай не так?
– Так-то оно так… Не всё тут ясно. Как юродивый оказался в Раю раньше нас? Это раз. Хотел спалить ч-чужаков – понятно. Но Кириллу-то с девочкой за что? Это два. И, наконец, главная неясность: где нам теперь искать этого п-провокатора?
– Э-э, Ераст Петрович, не над тем голову ломаете, – покровительственно усмехнулся полицейский. – Что Лаврушка быстрей нас поспел, это не диво. Мы по реке ехали, петляли, а он напрямки, через лес. Кто тропы знает, не заблукает. Что тётку с малолеткой не пожалел – так он же, как пёс взбесившийся. Злой, безумный, да ещё и завидущий. Видали, как его корчило, когда все стали Кириллу слушать? Не мог он такого перенесть, заревновал. А про третий ваш спрос скажу: искать злодея нужно по верхним деревням. Туда он побег, туда. Будет юродничать, запугивать, шаткие души в могилу тащить. Беспременно должно нам его выловить, пока ещё худших делов не натворил. А как схватим – повезём по всей реке показывать. Глядите, дурни сиволапые, любуйтеся, какой сатана у вас в учителях ходил, какому ироду веру давали.
– А п-поверят?
– Возьмём с поличным, да со свидетелями из местных – никуды не денутся… Что ж Крыжов, сонная тетеря, еле едет? Поспешать надо!
– П-пойду скажу.
Фандорин соскочил на лёд, побежал к передним саням.
Узнав причину, по которой следовало торопиться, Лев Сократович без единого слова щёлкнул кнутом, и скорость движения всей процессии увеличилась: первая повозка (сегодня роль буксира при Кохановском исполняла она) потянула за собой вторую; третья, с дьяконом и японцем, поначалу отстала, но Варнава гикнул на лошадь, и та заработала мохнатыми ногами с удвоенной быстротой.
– Гаспадзин, – позвал Маса, – Барунаба-сан раскадзывает про дзену, отень инчересно.
Варнава застенчиво пояснил присевшему на край саней Эрасту Петровичу:
– По матушке дьяконице скучаю. О прошлый год на Красную Горку повенчались.
– Курасивая, – одобрительно сообщил Маса и показал руками. – Вот такая. Рицо кругрое. Всё кругрое.
Густо залившись счастливым румянцем, дьякон подтвердил:
– Удивительной красоты особа.
– Что ж, п-поздравляю.
Эраст Петрович снова сошёл на снег, обернулся и увидел, что, пока он разговаривал с Крыжовым, в размещении пассажиров евпатьевского экипажа произошло изменение. Рядом с кучером теперь сидел Никифор Андронович в распахнутой шубе.
– Посадил девочку погреться, – крикнул он, – Загляните-ка, как там они?
– П-превосходно, – доложил Фандорин, встав на полоз и заглядывая в оконце.
Когда рядом не было посторонних, Кирилла, не слишком строго блюла «искус поношением» по отношению к своей поводырке. Полкаша, правда, сидела на полу, но голову пристроила к сказительнице на колени, та расчёсывала ей волосы гребнем и негромко напевала – кажется, колыбельную.
- …На постелю мягкую,
- Простыню шёлковую,
- Спать – не шевелитися
- До шестого дня…
Рот девочки был приоткрыт, глаза зажмурены – она уже уснула, да и самого Фандорина разом заклонило в сон от тихого, нежного голоса, от медленной мелодии, от шелестящих слов.
Но здесь Кирилла петь перестала и повернула голову к окну.
– Кто тут?
– Кузнецов, Эраст Петрович, – ответил он через стекло. – Что это значит – «до шестого дня»?
Ничуть не удивившись, она спокойно молвила:
– В старинных книгах написано: души праведных восстанут от конца света на шестой день.
– Вы, стало быть, тоже скорого к-конца света страшитесь?
– А чего мне его страшиться? – словно бы удивилась Кирилла. Говорила она не по-стерженецки, а очень чисто, по-городскому – хоть и с просторечиями, но грамотно. – И вы не бойтесь. Веруете вы не по-никониански, сердцем не порчены – это по голосу слышно. Страшный суд для сквернавцев страшен, кто душу не сберёг. А вы Господу милы, Он вас приимет, яко сына возлюбленного, домой возвернувшегося.
Поразительно: когда о конце света вещал бесноватый Лаврентий, это звучало жутко, беспросветно, а у Кириллы даже про Страшный Суд выходило утешительно и мечтательно.
Хотел Эраст Петрович расспросить, откуда она пришла и отчего не по-здешнему разговаривает, но тут случилось неожиданное.
– Эге-гей! Эй! Стойтя-а-а! – донеслось откуда-то сбоку. – Стойтя-а-а-а!
На высоком берегу размахивал руками мужик на лыжах. Оттолкнулся ногой, ловко скатился наискось по обрыву, заспешил наперерез.
Крыжов уже придерживал лошадь, морда задней ткнулась в затылок дремлющему отцу Викентию – тот вскинулся, обронил шапку.
Приглядевшись, Фандорин узнал в крикуне одного из райских счётчиков.
Ещё ничего не зная, лишь почувствовав – случилось несчастье, он бросился навстречу лыжнику.
– Беда, – прохрипел тот, – беда!
Он, видно, долго бежал через лес – от ворота валил пар, сивая борода около рта заиндевела и покрылась сосульками.
– Говори толком! – накинулся на него подоспевший Одинцов.
Следом подбежали остальные.
– Закопались… Ляпуновы… Никишка, жена его Марья и детишки, трое, – дрожащим фальцетом залепетал счётчик. – Утром соседка к им заходит, в избе никого… А в огороде земля проваленная и вот…
Он достал из-за пазухи листок.
Одинцов схватил, едва глянул и передал Эрасту Петровичу.
– Та же рука!
Фандорин тоже узнал – и текст, и почерк: «Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение отечества, а наше отечество – Христос…». И дальше всё слово в слово, вплоть до заключительного: «А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умерети».
– Спасли? – взял он гонца за плечо.
– И-и-и, какое там! Задохлись. Знать, ещё с ночи, после пожару залегли…
Одинцов схватил мужика за грудки:
– А Лаврушка-юродивый вечером по домам ходил?
Счётчик недоуменно смотрел на перекошенное лицо полицейского:
– Знамо ходил, за подаянием.
– И к Ляпуновым?
– Дак Марья Божьим людям всегда рада… Была, – прибавил вестник, и его морщинистые щёки задрожали – сейчас заплачет.
Урядник заскрипел зубами:
– Гад ядовитый! Успел зубья воткнуть! Я Ляпуновых помню. Никита – мужик тихий, подъюбошник. Всем в доме Марья заправляла, большая была богомольница. Эх, и деток своих не пожалели! – Он развернулся, побежал к саням. – Садитесь, Ераст Петрович, назад поедем.
Но Фандорин не тронулся с места.
– Один п-поезжай. Мне в Раю делать нечего.
– Как это нечего? – Одинцов остановился. – А расследовать? Вдруг опять чего не замечу, без вас-то?
– Расследовать будем п-потом. Нужно людей спасать.
Все кроме Кириллы и девочки, оставшихся в возке, толпились вокруг, но смысл спора им был непонятен. Лишь Крыжов, которому Эраст Петрович давеча объяснил, из-за чего нужно ехать быстрей, слушал без удивления.
– Лев Сократович, без вас мне не обойтись, – обратился к нему Фандорин. – Поедете дальше? – Тот молча кивнул. – А вывезет ваша лошадь троих? Со мной ведь слуга. Мы с ним можем ехать по очереди.
– О чём вы толкуете? – не выдержал Евпатьев. – У кого зубья? У Лаврентия? В каком смысле?
Пришло время рассказать спутникам про поджигателя.
– …Человек это очень опасный, не останавливающийся ни перед чем. Минувшей ночью все мы могли погибнуть. Возвращайтесь с урядником в деревню, г-господа. Там Лаврентий уж точно больше не появится, – сказал Эраст Петрович в заключение. – Сейчас не до переписи и тем более, – обернулся он к отцу благочинному, – не до пастырских объездов. Вот обезвредим преступника, тогда с-сколько угодно.
После пожара никому и в голову не пришло оспаривать право столичного «туриста» на принятие решений.
Никифор Андронович Евпатьев сказал:
– Правильно. Возвращайтесь, господа. А я, Эраст Петрович, поеду с вами. Кто-то ведь должен мужикам мозги вправлять? Вас они не послушают, вы для них чужой.
– Ну, насчёт вправления мозгов – это скорее по моей части, – заметил Шешулин. – Особенно если разыщем блаженного. Классический случай параноидальной мегаломании с ярко выраженной деструктивно-суицидальной компонентой. Как вы могли заметить, я умею обращаться с подобной публикой.
Отец Викентий, перекрестившись, важно молвил:
– Когда ж пастырю и быть с пасомыми, ежели не в час испытаний? Желаю, господин Кузнецов, вам сопутствовать. Более того – обязан.
И даже травоядный Алоизий Степанович не отступился:
– Эраст Петрович, я приносил земству присягу выполнять свои обязанности честно, не взирая на лица и не отступая перед препятствиями, – объявил статистик, приосанившись. – И мне несколько обидно, что вы могли предположить, будто я, выпускник Петербургского университета, из страха перед опасностью…
– Эхма! – перебил его лепет Одинцов, швырнув своей чёрной барашковой шапкой о землю. – Ну, и я поеду! Нехай исправник со следователем трупы откапывают, а мне бы живых уберечь!
Дискуссию подытожил Евпатьев:
– Стало быть, едем, как ехали. Только помните, господа: насильно никого не принуждали.
После этой экстренной остановки погнали ещё быстрей, чем прежде.
Теперь, когда главная цель экспедиции переменилась, караван возглавили сани законоблюстителя. Полицейский нахлёстывал своего конька не жалея, из-под копыт звёздочками разлетался смёрзшийся снег, от заиндевевших боков валил пар.
Следующая деревня, куда нужно было попасть раньше зловещего проповедника, называлась Мазилово, и жили в ней мазилы, то есть художники, но не иконописцы, а люди лёгкие, весёлые – лубошники. Почти в каждой крестьянской избе по всему северу, и отнюдь не только в жилищах староверов, висела их живописная продукция: отпечатанные кустарным образом картинки духовного и мирского содержания. Коробейники носили всех этих «Алексеев-Божьих-Человеков», «Бов-Королевичей» и «Финистов-Ясных-Соколов» по деревням и ярмаркам, продавали по пятачку, по гривеннику. Промысел копеечный, но широкий охватом, а потому прибыльный.
До места добрались перед закатом.
– Вон оно, Мазилово, – показал Одинцов на сбившиеся в кучку дома – не такие, как в первых двух деревнях, а маленькие, уютные, с радостными цветными ставнями. – Помогай Господь, чтоб не опоздать…
Он привстал, гаркнул на притомившегося буланого, и тот, качнув косматой башкой, расстарался – запустил дробной рысью.
У околицы несколько молодых баб и девок в ярких платках занималась странным делом – набирали в горшки снег.
– З-зачем это они? – удивился Эраст Петрович.
– У нас верят – крещенский снежок гож от сорока-недугов лечить, – кратко объяснил Ульян, а сам все тянул шею, оглядывал деревню. – Эй, бабоньки! Лаврентий-блаженный не у вас?
Местные жительницы глазели на приезжих. Одна, постарше других, степенно ответила:
– Утресь был. Поснедал, подаяние по домам собрал и дале побрёл.
Полицейский и Фандорин одновременно выкрикнули:
– Куда?
– Все ж-живы?
– Слава Богу, – изумилась молодка, обратившись сначала к Эрасту Петровичу. А уряднику сказала: – Куда-куда. Знамо – в лес.
– Держите! – кинул Одинцов вожжи спутнику. – Какой тропой он пошёл, видала? Эй, кто видал? Показывайте!
Тут подкатил Никифор Андронович.
– Христос спасай, красавицы! Все ль у вас ладно? Я Евпатьев.
Ему низко поклонились.
– Знаем, батюшка. Благодарение Господу, всё ладно.
– К старосте ведите. И народ скликайте! Говорить буду.
Одна из девок уводила прочь урядника, что-то рассказывая ему на ходу. Эраст Петрович, махнув Масе, чтобы был наготове, пошёл следом. Все остальные направились в деревню.
– К Лихому ключу? – переспросил Ульян у девушки. – Это на Богомилово, что ли?
Обернулся к Фандорину.
– Всего час, как ушёл. Догоню! Не уйдёт!
– Я с тобой.
Одинцов вернулся к саням, вытащил прикреплённые к полозу лыжи.
– По снегу бегать умеете?
– С п-палками довольно неплохо.
– У нас палок в заводе нет. Да и лыжи особые, к ним привычка нужна. – Полицейский быстро приладил на ноги две короткие и широкие доски, обшитые кожей. – Скоро ночь, отстанете – пропадёте. Ништо, Ераст Петрович. Энтого Кузьму я и сам возьму.
Он сунул в торбу моток верёвки, перекинул через плечо карабин.
– Ну д-догоните вы его. А дальше что?
– Свяжу, на лапник кину, да волоком потащу, – уже сорвавшись с места, крикнул Ульян. – Эх, свету бы ещё хоть часок!
Ладная, перепоясанная ремнём фигура быстро двигалась через поле к лесу: руки отмахивали по-военному, из-под лыж летели белые комья.
Минута-другая, и бравый урядник исчез в густом ельнике.
Краснощёкая девка стояла рядом, смотрела на Фандорина как-то странно – то ли с жалостью, то ли с испугом. Эраст Петрович, привыкший к тому, что его внешность вызывает у представительниц прекрасного пола совсем иную реакцию, сначала даже несколько обиделся, но потом сообразил: борода опалена огнём, на щеке пузырь – здоровенный, с пятак. Нечего сказать, красавец.
Вздохнув, повернулся к мазиловской обитательнице неповреждённой стороной.
– Ну, веди туда, где народ собрался.
Но к месту собрания он попал не сразу. То ли девушка подвернулась отзывчивая, то ли уцелевшая половина фандоринского лица произвела хорошее впечатление, но сначала Эраста Петровича отвели в дом и намазали место ожога какой-то пахучей мазью, от которой жжение сразу улеглось.
– Дай-ко обстригу, а то будто пёс драной, – предложила далее благодетельница (звали её Манефа) и, щёлкая огромными ножницами, восстановила симметричность подпорченной бороды. – Сам-то женатый будешь?
– Вдовец.
– Не вре-ешь? – протянула Манефа. – На лестовке побожись.
А у самой глаза так и блеснули.
Что такое «лестовка», Фандорин не знал, но настроение улучшилось. Оказывается, он ещё может нравиться юным, щедро одарённым природой девицам.
– Я, милая, тебе в отцы г-гожусь, – с достоинством молвил Эраст Петрович. – А попусту божиться – грех. Всё, пойдём.
Соборной, как в Раю, здесь не имелось, всё население деревни – под сотню человек – набилось в дом старосты. Зимняя часть избы была слишком тесна, большинство расположились в летней, неотапливаемой части, но скоро нагрели собою горницу, надышали так, что все окошки запотели.
Когда Фандорин вошёл, Никифор Андронович уже заканчивал свою речь. Стоя у печи, он всё поворачивался, чтоб охватить взглядом каждого. Говорил негромко, но чувствительно, чтоб до сердца достало:
– …Сатаной-Антихристом пугает, а он сам чёрт и есть. В чём главном Дьявол от Бога отличен? Бог – это любовь, а Дьявол – ненависть. Бог – это жизнь, а Дьявол – смерть. Кто ненависть проповедует и к смерти зовёт – от кого он, от Бога или от Дьявола? То-то. Знаю, ходил бес этот меж домами, сеял в сердца свои плевелы. Вы его не слушайте. Люди вы лёгкие душой, жизнерадостные, художники…
По правде сказать, хозяин дома особенно жизнерадостным Эрасту Петровичу не показался. Суровый дед ветхозаветной наружности сидел под образами прямой, как палка, в белой рубахе, с длинной седой бородой. Сдвинув косматые брови, слушал, но смотрел не на Евпатьева, а вниз. Справа и слева от старосты – жена и кривобокая дочь-вековуха, обе в чёрном и тоже с постными лицами. Зато все прочие жители Мазилова, пожалуй, в самом деле отличались живостью лиц, а в одежде предпочитали цвета весёлые, пёстрые. Мужики были по преимуществу тонкокостные, непоседливые, женщины румяные и улыбчивые, детишки хихикали, вертелись на месте.
И на раскольников-то непохожи, подумал Эраст Петрович, осмотревшись. Разве что привычкой ни минуты не находиться без работы. Бабы и девушки, проворно двигая пальцами, сплетали из полосок кожи и лоскутков странные разноцветные ожерелья, каждое из которых заканчивалось четырьмя треугольными пластинками. Многие из мужчин, слушая оратора, набрасывали что-то на бумаге карандашами (между прочим, вполне современными, явно купленными в городе). Фандорин полюбопытствовал, подглядел в листок к соседу. Тот набрасывал смешного рогатого черта, у которого из пасти вырывалось красное пламя, а из-под хвоста чёрный дым.
По стенам всюду были развешаны лубки, по большей части с зоологическим уклоном. Эраст Петрович с удивлением воззрился на картинку с заголовком «Какъ коркодилъ чиропаху обманулъ», где, действительно, были изображены крокодил и черепаха, причём довольно похоже. На большом листе «Всякое дыханiе Гспда славить», живописавшем поклонение тварей земных Всевышнему, обнаружилось чуть ли не все население бремовской «Жизни животных», вплоть до носорогов и жирафов.
– Это Ксюшка-Кривобока малюет, – шепнула Манефа. – Ей батька с городу книжку привёз печатную, про зверей всяких. Сама малюет, а боле никому не даёт. Жадная – страсть!
На девку зашикали. Это кончил говорить Евпатьев и поднялся староста. Речь его была немногословна. В избе сразу стало тихо.
Наверное, для этой непоседливой публики нужен именно такой вождь – сдержанный, суровый, подумал Эраст Петрович. Давно известно: болтунами лучше всего управляет молчун, а молчунами – болтун.
Старик сказал так:
– Устами блаженного Бог говорит. Ненависти к человекам в Лаврентии нету, едино лишь к Сатане. Про счётчика же подумаем.
И снова сел.
Всего три предложения произнёс, а весь эффект евпатьевской филиппики сорвал.
Кинулся выступать Алоизий Степанович, но его слушали мало. Ушли, правда, немногие, но всяк занялся своим делом. Разбились по кучкам. Где-то оживлённо спорили, где-то смеялись. Больше всего народу собралось послушать Кириллу.
– Вот она, настоящая Русь, – с горечью сказал подошедший Никифор Андронович, кивая на сказительницу. – Острая умом, бессребренная, да с повязкой на глазах – сама себе очи закрыла, и света белого ей не надо.
– Что это они плетут? – спросил Фандорин про странные ожерелья.
– Это лестовки. У каждого старовера такая есть. И у меня тоже. – Он достал из-под английской рубашки расшитую жемчугом ленту. – Четыре треугольных «лапостка» – это Евангелия. А узелки называются «бобочки». По ним молитвы и поклоны считают. «Лестовка» или «лествица» – значит «лестница». У нас верят, что по ней можно на небо вскарабкаться… Пойдёмте послушаем. – В толпе, сбившейся вокруг Кириллы, зашумели, загоготали. – Что это там у них? Интересно.
Оказывается, это страннице заказывали сказки.
– Про Катьку-царицу расскажи!
– Не, матушка, как немец в баню ходил!
– Про попа-постника!
А староста, дождавшись паузы, веско молвил:
– Расскажи сказку, чтоб сгодилось картину мазать.
Его поддержали, и некоторые из мужчин приготовили бумагу – рисовать.
– Да вы всё знаете… – задумчиво проговорила Кирилла. Её сухое, белое лицо было бесстрастно, без тени улыбки, хотя публика явно ждала чего-то весёлого. – Нешто о царе Петрушке? Слыхали про пирамиду?
Этого слова мазиловцы не знали.
– Про что, матушка?
– Пирамида – это такая каменная пасха, которую над могилой древних царей строили, чтобы им душу спасти, – объяснила рассказчица и показала руками: сверху узенько, книзу широко. – Огромадная, с гору. Я в книге видала. Так что, сказывать ай нет?
– Сказывай, сказывай!
Все тем же серьёзным тоном, нараспев, Кирилла начала:
– Царь Петрушка, кошачьи глаза, свинячье рыло, издох от дурной хворобы, и поволокли его черти в преисподню. Он орёт, жалится – думает, будут его рылом в табашны угли тыкать, бриту бороду иголками на место пришивать. Знает, паскудник, сколь наблудил.
Вокруг захмыкали, а сказительнице хоть бы что.
– Ан нет. Стречает его сам Князь Тьмы, честь по чести. Так мол и так, пожалуйте ваше велико, заждалися вашей милости.
Снова предвкушающие смешки.
– Петрушка-то заробел, говорит: «Это я там был велико, а тута от лаптя лыко. Мне ба куда-нито в уголок, в тихо местечко». А Сатана ему: «Не положено, у нас все по-честному. Кто у вас царь, то и у нас». Повели Петрушку в чисто поле. Дали деревянну столешню большую – клади на плечи, держи. Делать нечего, положил. Сверху Петрушкины князья-министры влезли, двенадцать человек. Царь-от на пиве-скоромнине мяса наел, косая сажень в плечах, а и то закряхтел, согнулся. Министры поверху скачут, радуются. «То мы тебя тешили, теперь ты нас потаскай». Только недолго они жировали. Накрыли их черти щитом медным, с цельну площадь, запустили толпу барчат, да попов, да купечества. Ну, князей-министров в три погибели пригнуло, а царь и вовсе едва пищит. Ладно. Положили по-над площадью зерцало серебряно, с море величиной. И на него без счёту крестьянства да мастеровых понапустили – тыща тыщ народу. Бар, да попов с купцами в лепёху сжало, министров в блин, царя в жидку лужицу. А поверх всего крестьянства понакинули с небес решётку из златых нитей, лёгкую. И по ней на приволье стали гулять-погуливать старцы, сироты, да молельники. И уж над ними никого – только солнце, луна да звезды…
– Вот вам вся социалистическая программа, в чистом виде, – усмехнулся Крыжов, поймав взгляд Эраста Петровича. – Дайте срок. Россию-матушку так снизу тряханёт – с ног на голову встанет.
Но Фандорин повернулся посмотреть не на Льва Сократовича, а на Масу.
Японец держался в сторонке, сказку не слушал, а с важным видом разглядывал горшок с фикусом, горделиво поставленный под образа. Эраст Петрович с невольным раздражением заметил, что краснощёкая Манефа переместилась поближе к японцу и таращится на него во все глаза, да ещё углом платка рот прикрыла.
Всё-таки в успехе, который Маса имел у слабого пола, было что-то мистическое.
– А вы, дядечка, кто? – боязливо спросила Манефа. – Чего это вы всё глаза жмурите? И вошли – лба не перекрестили.
Азиат даже не взглянул в её сторону, лишь задумчиво нахмурил брови.
– Может, вы – бес, в соблазн нам присланы? – все больше робела девушка. – Во знамение последних времён?
Тут он искоса посмотрел на неё и как бы нехотя обронил:
– В собразн. Да.
Манефа мелко закрестилась.
– А я не соблазнюся. Лучше домой пойду, святой иконе помолюся.
Что, съел? – мысленно позлорадствовал Эраст Петрович.
Преждевременно.
– От собразна прятаться грех. Нетестно, – строго сказал Маса. – Выдерзять надо.
– Как это «выдержать»? – У девушки округлились глаза. – А коли плоть не сдюжит? Бесу, известно, большая сила дана.
Японец внимательно осмотрел её сверху донизу.
– Проть – это нитево. Гравное – дусёй не поддаться, от старой веры не отойти. – Он перекрестился двумя перстами. – Дусёй крепка?