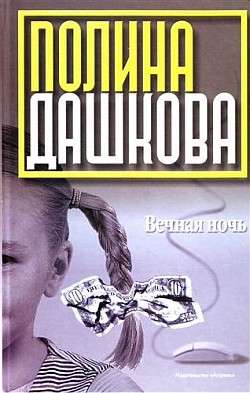Нефритовые четки Акунин Борис

– Почему эта деревня такая богатая, господин? – спросил Маса.
– Потому что здесь никогда не было помещиков. Кроме того, приверженцы этой веры не пьют водки и много работают.
Японец одобрил:
– Хорошая вера. Похожа на секту Нитирэн. Такая же дисциплинированная. Смотрите – все собрались на площади. Наверное, какой-нибудь священный праздник.
Эраст Петрович повернул голову и, действительно, увидел впереди подобие небольшой площади, на которой густо стоял народ. Все столпились перед домом с червлёной крышей и нарядно проолифенными стенами. Сквозь тихий гул мужских голосов пробивались бабьи причитания и плач.
– Фуражки понаехали, – объявил Крыжов, встав на облучок и глядя поверх голов. – Стряслось у них тут что-то. А ну, блюстители веры! – крикнул он на задних. – Расступись! Дорогу начальству!
В толпе заоборачивались. Увидели городских людей, попа в чёрной рясе и быстро, словно боясь запачкаться, шарахнулись в стороны. Открылся проход, по которому вылезшее из саней «начальство» двинулось вперёд.
У деревенских на лицах появилось одинаковое выражение – смесь насторожённости и брезгливости. Когда отец Викентий, важно переваливавшийся с боку на бок, задел рукавом рясы белобрысого мальчонку, мать подхватила малыша и прижала к себе.
Наконец, пробились к дому.
Обособленно от всех, словно по ту сторону невидимого барьера, стояла небольшая группа людей: двое в форме и ещё двое одетых по-городскому.
– Это наш исправник, – на ходу пояснил Эрасту Петровичу статистик, показывая на мужчину, вытиравшего платком распаренную лысину. – А в чёрной шинели – Лебедев, следователь. Раз приехал в Денисьево – значит, преступление, и нешуточное… Приветствую вас, Христофор Иванович! Что здесь такое?
Следователь оглянулся.
– Алоизий Степанович? По переписным делам пожаловали? Ох, не ко времени.
– Да в чём дело?
Казённые люди поздоровались с председателем за руку, к священнику подошли под благословение, Эрасту Петровичу вежливо кивнули, но и только – похоже, им сейчас было не до представлений. Двое штатских сосредоточенно что-то обсуждали вполголоса, на вновьприбывших едва посмотрели.
Куда-то исчез Лев Сократович. Только что был рядом, и будто сквозь землю провалился. Фандорин оглянулся, но и в толпе Крыжова не углядел.
– Выкинули фортель раскольнички, – злым тоном начал рассказывать следователь Лебедев. – Целая семья заживо в землю закопалась. Муж, жена, младенец восьми месяцев… Будет теперь шуму! А ещё называем себя просвещённой страной. Позор на всю Европу!
– Как закопалась? – охнул Кохановский. – Неужто из-за переписи!?
– Разумеется. Напугались, болваны. Откапываем вот. Один труп уже достали…
Дьякон Варнава всхлипнул и перекрестился. У благочинного же известие вызвало странную реакцию: он причмокнул толстыми красными губами, азартно раздул ноздри и, попятившись, скрылся в толпе, только высокая фиолетовая камилавка закачалась над головами.
Но поведение священника сейчас занимало Фандорина меньше всего. До двадцатого века оставалось три года, а здесь, на северо-востоке европейского континента кто-то живьём лёг в могилу, испугавшись переписи! Слухи слухами, вот ведь и Крыжов предупреждал, но поверить, что такое произойдёт на самом деле, было невозможно.
– Может быть, есть какая-то иная п-причина? – спросил он у следователя.
Тот лишь рукой махнул.
– Какая ещё «иная»! Сверху над миной записочка лежала. Можете ознакомиться. – И вынул из портфеля аккуратно сложенный листок.
При чём здесь «мина», Фандорин не понял, а спросить не успел – следователя отозвал исправник.
Зато откуда ни возьмись появился Лев Сократович. Лицо у него было напряжённое, хмурое, движения резкие.
– Все выяснил, – сообщил он, нервно потирая руки. – Поговорил со стариками. Ужас, средневековье. В Денисьеве первое сообщение о переписи восприняли сравнительно спокойно. Деревня богатая, все поголовно грамотные. А недавно вдруг ни с того ни с сего будто пожар какой – только о конце света и говорят. Мол, доподлинно разъяснилось – недели две осталось, не более, а там явится Антихрист. Кто сам себя не спасёт, тому гореть в геене огненной. И началось. Кто плачет, кто молится, кто с родственниками прощается. Староста – умный мужик. Ходил по домам, говорил: «Не торопитесь, и на Антихриста управа сыщется, Господь знак даст». Многих убедил обождать. Но не всех. Савватий Хвалынов, первый деревенский плотник, решил по-своему. Шесть дней назад с женой и ребёнком залегли в мину. Это такой земляной склеп, по сути дела могила. Так самозакапывались святые старцы во время гонений против раскольников. Обряжались в саваны, залезали в нору, вход за собой заваливали и лежали там во тьме, жгли свечки и пели, сколько хватало воздуха. В здешних местах ещё осенью, как первый слух о переписи прошёл, все кинулись тайные мины рыть. У наших чиновных умников считалось, что раскольники хотят просто попугать власть – чтоб отступилась со своей «антихристовой затеей». Вот вам и «попугать»…
– Плотник с семьёй залегли в мину шесть д-дней назад?! Почему же откапывают только сейчас?
– Староста попробовал – не дали. Тяжкий грех – мешать «спасению». Но и под суд старосте тоже неохота. Вчера исхитрился, тайком послал в уезд сына, с предсмертной запиской, которую оставил плотник. Вот власти и примчались, да что проку…
Эраст Петрович развернул желтоватую страничку, исписанную старинными буквами, как в древних книгах.
Текст был такой:
«Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение отечества, а наше отечество – Христос. Нам Господь глаголет во святом Евангелии своём: „Всяк убо иже исповестъ Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем Моим, иже на небесех, а иже отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз перед Отцем Моим, иже на небесех“. Посему отвещаем мы вам вкратце и окончательно, что мы от истинного Господа нашего Исуса Христа отвержения не хощем, и от Христианской веры отступити не желаем, и что Святые Отцы святыми соборами приняли, то и мы принимаем, а что Святые Отцы и Апостолы прокляли и отринули, то и мы проклинаем и отрекаем. А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умерети».
Кохановский, заглядывавший через плечо Фандорина, страдальчески воскликнул:
– Да при чём же здесь отвержение от Христа? Какой-то «устав» придумали! Чудовищное недоразумение! Я же сам был здесь в декабре, всё подробнейше…
– П-плотник что, был книгочеем? – спросил Эраст Петрович, перебив эмоционального статистика. – Цитирует церковнославянское Евангелие, и почерк почти каллиграфический.
– Здесь в каждом доме старые книги есть, переписанные от руки. – Крыжов с интересом рассматривал записку. – Ишь ты, «повиноваться вашим законам не можем». Вот это дело.
Из глубины двора вышел молодцеватый полицейский урядник в перепачканной землёй шинели.
– Ваше благородие! – откозырял он исправнику. – Кажись, всех достали. Хорошо теплынь, земля оттаяла, а то б дотемна провожжалися. Пожалуйте.
Чиновники пошли первыми, остальные следом. Эраст Петрович услышал сзади странное шарканье. Оглянулся – вздрогнул. Вся масса крестьян ползла на коленях, один замешкавшийся Маса торчал столбом меж бабьих платков и обнажённых мужских голов. Камердинер беспокойно заозирался и тоже бухнулся на карачки. Этикет японской вежливости предписывает не выделяться из толпы, ибо «торчащий гвоздь бьют по шляпке».
Проворней всех передвигался лысый, бородатый мужичонка, в отличие от остальных, одетый в рваньё. На голых ногах вместо обуви два куска бараньей шкуры, кое-как обвязанных верёвками.
– Бее, бее! – дурашливо заблеял блаженный, выползая вперёд. – Посторонися, табашники! Овцы Божий на заклание грядут! Бее! Все закопайтеся, братие! То-то Сатане кукиш покажете! То-то ему, псу, досада будет!
Он затряс тяжёлым железным крестом, свисавшим с грязной шеи, залаял по-собачьи, и Фандорин, поморщившись, ускорил шаг.
Во дворе кучами лежала разрытая чёрная земля. Угрюмые мужики с лопатами в руках кучкой стояли поодаль, а представители власти и двое незнакомых господ в штатском молча рассматривали что-то, лежащее на большой расстеленной рогоже.
Сзади взметнулся пронзительный женский голос:
– Блаженно преставилися, душу свою спасли! А мы, грешные, погибли-и-и!
Один из штатских, бородач в бобровом картузе, обернулся и громко, с оканьем, сказал:
– Блаженно? Поди-ка, дура, сунь нос. Полюбуйся.
Да уж, на блаженно преставившихся покойники были непохожи. У мужчины лицо посинело от мук удушья, женщина держала во рту изгрызенную кисть руки, а ещё над трупами успели потрудиться черви – спасибо оттепели…
Фандорин с содроганием отвернулся. На его спутников кошмарное зрелище тоже подействовало. Дьякон Варнава плакал навзрыд. Алоизий Степанович сделался белее снега, закачался и упал бы в обмороке, если б его не подхватил помощник.
– Смотрите, смотрите! – яростно закричал господин в бобровом картузе на деревенских. – И вы бы этак валялись! Вот до чего дикость и дурь доводят!
Поперхнулся от гнева, закашлялся. Его, впрочем, не слушали. Крестьяне поднялись с колен, обступили тела и молча смотрели.
Один лишь юродивый завертелся волчком, затрясся в корчах, схватил зубами ком земли, с лиловых губ потекла грязь и пена.
– Уберите вы этого калеку! – раздражённо оглянулся исправник. – Работать мешает!
Урядник хотел оттащить припадочного, но высокий седой старик с медалью на груди (должно быть, староста) удержал служивого за плечо:
– Не тронь. Это Лавруша, святой человек. По деревням ходит, за людей молится. Ништо, поорёт да утихнет.
Взяв себя в руки, Фандорин подошёл ближе к покойникам. Присел на корточки, приподнял твёрдую, будто высеченную из льда руку главы семейства. Кисть была такая, как положено плотнику – с грубыми, мозолистыми пальцами. Такими каллиграфических букв не выпишешь.
– Что это такое? – спросил Эраст Петрович, показывая на торчащий из земли деревянный кол – довольно толстый, но стёсанный к концу.
– Не знаю, – хмуро ответил стоящий рядом Крыжов. – Как устроена мина, мне неизвестно. Знаю лишь, что смерть в ней может быть «тяжкая» или «лёгкая». «Тяжкая» – это от медленного удушья. Она считается более почтенной. А «лёгкая» – когда землёй заваливает. У этих, похоже, «лёгкая» была. – Он передёрнулся, глядя на страшные лица мертвецов. – Какая ж тогда «тяжкая»?
В яме рылся урядник – он уже и сюда поспел. По всему видно, человек это был ловкий, расторопный и времени попусту терять не привык. Подобрал огарок свечи, надорванную иконку.
– Ваше благородие, гляньте-ка!
Он извлёк из-под сырых комьев какой-то листок с такими же, как в предсмертной записке, письменами.
Исправник скривясь взял грязную бумажку. С трудом прочёл:
– «А в ино время спасался аз в обители некой, старинным благочестием светлой…» Опять раскольничья чушь. Всё, Одинцов, хватит в мусоре копаться! И так ясно. – Скомкал листок, швырнул наземь. – Трупы пусть тащат в сани, повезём в город.
В толпе глухо загудели.
– Куды в город? Глумиться над телами христианскими? На поганом кладбище никоньянском зарыть?
Откуда ни возьмись вынырнул благочинный.
– Ишь чего захотели! – замахал он на раскольников. – На кладбище! Да кто дозволит самоубийц в освящённой земле хоронить? На Божедомке закопают.
Тут гул голосов сменился тяжёлым, грозным молчанием. Рослые бородатые мужики в длинных поддёвках, в допотопного шитья кафтанах плечо к плечу двинулись на городских.
– Тела не выдадим, – твёрдо сказал староста, выходя вперёд. – Похороним честью, по своему обычаю.
Он подошёл вплотную к начальству и шепнул:
– Уезжали бы вы, господа. Как бы греха не вышло.
Весь налившись багровой краской, исправник погрозил старообрядцам кулаком:
– Но-но, вы глядите у меня! Хотите, чтоб воинская команда приехала – следствие вести и перепись проводить? Я вам это устрою!
– Не нужно команды, – все так же тихо попросил староста. – Если кто для допроса понадобится – пришлю. И счётчиков для переписи дам. Дайте только народу охолонуть малость.
– В самом деле, Пётр Лукич, едемте, – зашипел следователь, нервно поглядывая на мужиков. – Рожи-то, рожи! Воля ваша, а я тут на ночь не останусь. Лучше в темноте поеду.
Исправнику и самому не терпелось поскорей унести ноги из негостеприимной деревни, но и лица терять он не хотел.
– Мы с господином Лебедевым уезжаем в Стерженец, будем разбирать ваше дело! – зычно крикнул он. – Здесь останется урядник Одинцов, слушать его во всём! Если что – ответите за безобразия совокупно, по полной строгости!
Но следователь уже подталкивал его локтем. Бочком, бочком представители власти обошли мрачную толпу и поспешно удалились в сторону площади. Так торопились, что даже не забрали у Фандорина следственный документ – страничку с предсмертным посланием.
– Господа! И меня возьмите! – всколыхнулся благочинный. – У меня по дороге приключилась катастро… Господа!
Он подобрал полы рясы, кинулся догонять, но осмелевшие жители Денисьева уже заняли весь двор, обступая мертвецов кругом.
Отец Викентий побежал в обход дома, всё призывая уездных правоохранителей обождать, но поздно – с площади донёсся удаляющийся перезвон колокольцев.
Но отец Викентий напрасно испугался. Ничего страшного не произошло. Наоборот, после ретирады представителей власти напряжение заметно спало. В толпе никто уже не сжимал кулаки, в первые ряды протиснулись женщины, и опасная тишина сменилась вздохами, жалостными причитаниями, плачем. Юродивый уже не дёргался, не грыз землю – он подполз к мёртвому младенцу и тихо, безутешно подвывал.
Маса совал бледному Алоизию Степановичу ватку с нашатырём. Варнава, всхлипывая, бормотал молитву. Крыжов помогал уряднику, натягивавшему поверх тел покров из небелёного холста.
Фандорин же внимательно прислушивался к разговору бобрового картуза со вторым незнакомым господином, будто только что перенёсшимся в эту лесную глушь прямо с Невского проспекта, такой он был не по-здешнему холёный, чисто выбритый, в золотых очках и каракулевой шапке пирожком.
– Эх, головы столичные, ведь предупреждал, в колокола бил – не послушали, – горько сетовал очкастый собеседнику.
Эти-то слова и привлекли внимание Эраста Петровича.
– Читал вашу статью, читал. Даже в своей газете перепечатал, – откликнулся картуз – высокий, статный мужчина лет тридцати пяти, с ухоженной светлой бородкой. – Но ведь у нас на Руси, сами знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
– А я не для мужиков писал, – жёлчно вставил бритый. – Для лиц, облечённых властью. Слава Богу, в научных кругах имя моё достаточно известно, могли бы прислушаться к мнению Шешулина. Когда волнения ещё только начались, я предсказывал: если не принять меры, возможна психогенная эпидемия с человеческими жертвами! В сентябре ещё предупреждал!
Тема разговора настолько заинтересовала Фандорина, что он счёл необходимым подойти и представиться. Господин в шапке-пирожке оказался известным петербургским психиатром Шешулиным. Златобородый красавец – вологодским промышленником Евпатьевым. Про него Эрасту Петровичу рассказывали ещё в столице: из старинного раскольничьего рода, но прогрессист. Учился в Англии, магистр экономики. Ведёт дело по-современному, суеверий не признает и даже издаёт собственную газету, весьма популярную на русском Севере.
– Как узнал про записку, увязался за чиновниками, – объяснил он. – Горе-то какое! Какой удар для всего старообрядчества! Теперь из-за нескольких умалишенцев все газеты на нас накинутся. Мол, дикари, изуверы… А вот Анатолий Иванович, – кивнул Евпатьев на психиатра, – уверяет, что это цветочки, ягодки впереди. Из самого Петербурга пожаловал, чтоб быть на месте событий.
– Вы п-полагаете, что будут ещё самоубийства? – содрогнувшись, спросил Эраст Петрович.
Шешулин снял очки, сдул со стёклышка пылинку.
– Вне всякого сомнения. Моя основная специальность – воздействие внушения на человеческую психику. Мозг не такой сложный механизм, как представляется дилетантам. Как и остальные органы тела, он на сто процентов подвержен внешним влияниям. Опаснейший вид массовой эпидемии – не чума и не холера, а психоз, охватывающий целые слои населения. Вспомните детский крестовый поход. Или средневековую охоту на ведьм. А что такое война, как не психическое заболевание, поражающее целые страны, а то и континенты? Вспомните наполеоновские кампании, когда сотни тысяч, даже миллионы людей без каких-либо серьёзных причин кинулись рвать друг другу глотки и жечь города, завалив всю Европу грудами трупов?
– Меня интересуют раскольники и п-перепись, – вежливо, но твёрдо прервал исторический экскурс Фандорин.
– Извольте. В среде старообрядства уже два с лишним века витает идея о скором приходе Антихриста. Эта группа людей, можно сказать, постоянно пребывает в ожидании неминуемого конца света. Вот вам фон заболевания. С Антихристом у староверов ассоциируется государственная власть – ещё со времён патриарха Никона и царя Петра. Вот вам объект патологического страха. Известно, что внушению особенно подвержены субъекты с низким уровнем образования и неразвитой индивидуальностью. Таковы большинство здешних лесных жителей: минимальная сумма знаний о внешнем мире, максимальная зависимость от общины. Всё это, так сказать, состав взрывной смеси. Для того чтобы сей порох воспламенился, не хватает малости – горящей искры. Роль искры периодически берут на себя пророки и проповедники, обладающие незаурядным даром внушения. Я специально изучил историю раскола. В этой среде время от времени появляются индивиды, объявляющие, что Антихрист уже грядёт. Немедленно срабатывает психологическая цепочка: фон – объект – внушаемость, и люди совершают чудовищные поступки. Бросаются целыми семьями в огонь, топятся или, как здесь, заживо ложатся в могилу. В 1679 году близ Тобольска безумный поп Дометиан уговорил сжечься 1700 человек. Несколькими годами позднее Семён-пророк согнал в огонь население целого города на Ярославщине – 4000 душ. Последний по времени случай самоубийственной эпидемии произошёл 36 лет назад в Олонецкой губернии. Там добровольно сожглись пятнадцать человек, в том числе женщины с маленькими детьми. Причина психоза та же – эсхатологические ожидания.
– Прощения просим. Какие-какие ожидания?
Увлечённый лекцией Фандорин не заметил, как к числу слушателей присоединились остальные: пришедший в себя Кохановский, Крыжов, Маса, священник с дьяконом и даже урядник Одинцов. Именно полицейский и спросил про непонятное слово.
– Конца света, – пояснил доктор.
Тут все заговорили разом.
– Господе Иисусе, спаси и сохрани люди твоя, – тоненько, с дрожью в голосе воззвал к небу Варнава.
Алоизий Степанович воскликнул:
– Милостивый государь, то, что вы предвещаете, ужасно!
Причмокивая леденцом, Маса сказал по-японски:
– То же самое было в эпоху Канъэй, когда Токугава Иэмицу приказал христианам острова Кюсю отказаться от их веры.
Промышленник Евпатьев желал знать:
– Коли вы так научно, по-медицински все трактуете, так у вас, верно, и рецепт есть? Как остановить поветрие?
– Дык, стало быть, завёлся какой-нито змей, кто народ баламутит? – грозно сдвинул белёсые брови полицейский.
А Эраст Петрович выждал, пока все выскажутся, и обратился к Кохановскому:
– Алоизий Степанович, нам задерживаться в Денисьеве незачем. Староста обещал, что счётчики будут. Едемте д-дальше, в следующую деревню.
– Браво, Кузнецов! – тряхнул кулаком Евпатьев. – Вот вам и рецепт! Нужно проехать по всем староверческим селениям, потолковать со стариками. У меня в санях «кодак». Пока не стемнело, сфотографирую трупы во всей красе. Буду показывать. Отпечатки сделать негде, ну да ничего. На стеклянной пластине ещё страшней смотреться будет, чем на фотокарточке! Поедете, Анатолий Иванович?
– Разумеется. – Доктор Шешулин улыбнулся. – Санитарно-эпидемический отряд? Неплохая идея.
Урядник поправил шапку, из-под которой свисал лихой чуб.
– Я тоже поеду. Пресечь надо. Сыскать смутьянов и заарестовать. Не дозволю на своей телитории безобразию творить!
Промышленник, очевидно, знавший полицейского, сказал:
– С тобой, Одинцов, никто говорить не станет. Да и нам помешаешь. Сам знаешь, для здешних отступник хуже бритоуса.
– А вы мне, Никифор Андроныч, не указуйте, – набычился Одинцов. – Я не вам, я казне служу. И разрешениев ваших мне не требуется. Слава Богу, свою упряжку имею.
– Пускай едет, – вступился психиатр. – Если эпидемия примет угрожающие размеры, возможно всякое. Вооружённый полицейский пригодится.
– И меня возьмите, – попросил отец Викентий. – Немилосердно поступите, если духовных особ в раскольничьем гнезде покинете. Имею опасение, как бы через их злосердие не лишиться живота своего.
И приложил ладонь к своему весьма изрядному чреву. Эта просьба Фандорина удивила. Всего несколько минут назад, перед тем, как подойти к Евпатьеву и Шешулину, он видел, как священник вполне мирно беседует со старостой и ещё несколькими стариками. Те кивали, то ли с чем-то соглашаясь, то ли принимая слова соболезнования. Фандорин ещё порадовался за благочинного: всё-таки не пень бесчувственный, а служитель Божий, способен и на сострадание.
– Ну уж вы-то, батюшка, нам в отряде совсем ни к чему, – почтительно возразил Шешулин. – Лишний раздражитель для и без того воспалённой психики.
Отец Викентий воздел палец:
– Грех вам, представителю гуманной медицинской профессии. Сказано: «Грядущего ко мне не изжену». Бросите меня на погибель, возопию и следом побегу. То-то вам стыд будет!
– В самом деле, как их тут оставишь, – вздохнул Фандорин. – А что до раздражителя – уж всё одно. Где п-полицейский, там и поп. Едемте, господа. Время дорого.
Передвигаться по реке ночью оказалось ничуть не труднее, чем днём. Едва Денисьево скрылось за изгибом русла, начало смеркаться, но полной темноты так и не наступило. Погода менялась. Тучи растаяли, в небе проглянули звезды, и белый путь, замкнутый меж чёрных берегов, был отлично виден. Оттепель закончилась, воздух с каждой минутой делался все морознее, снег вкусно хрустел под копытами лошадей, под санными полозьями.
Ехали так.
Впереди, как самый бывалый, Лев Сократович, к которому сел доктор Шешулин. У Анатолия Ивановича было своё транспортное средство – щегольская тройка, нанятая столичным жителем ещё в Вологде, вместе с ямщиком. Но ямщик в Стерженце запил, и до первой раскольничьей деревни психиатра довёз денисьевский крестьянин, возвращавшийся домой. Сам Шешулин с тройкой бы не справился. Она по местным условиям была, собственно, и ни к чему. Все стерженецкие ездили на одном коне или, самое большее, одвуконь – так легче пробираться по узким дорогам, а лошади здесь, на севере, хоть и невидные собой, но тягластые, выносливые и привычные к холоду. Ямщицкая же тройка бежала неровно, оступалась, да и сами розвальни были плохо приспособлены для долгих переездов – разболтались, иззанозились и скрипели, как несмазанные ворота. Правил тройкой Варнава, пассажиром при нём усадили японца.
Второго священнослужителя пристроили к доброму Алоизию Степановичу – на «прицеп» за крепким возком промышленника Евпатьева.
Замыкал экспедицию урядник Одинцов на лёгких санках с широкими, как лыжи, полозьями, годными для езды и лесом, и полем.
Эраст Петрович пока что ни к кому садиться не стал, решил устроить моцион – пробежать вёрст пять-десять на своих двоих. Скинул шапку, полушубок и, с наслаждением вдыхая чистый морозный воздух, отмахивал сбоку ровной невесомой побежкой, которой научился давным-давно в Японии.
Снег на льду был твёрдый и слегка пружинил под ногами, как разогретый асфальт на августовском Бродвее. Иногда Фандорин делал рывок, обгоняя санный поезд, и тогда казалось, что он в этом бело-чёрном мире совсем один: только снег, лес да кантовское звёздное небо над головой.
Пробежит так какое-то время и замедляет ритм, отстаёт.
Дело в том, что, не сев в сани, Эраст Петрович кроме гимнастики преследовал ещё некую цель. Ехать в одной из повозок значило обречь себя на общение только с одним спутником, а чутьё подсказывало, что нужно присмотреться ко всем членам «санитарно-эпидемического отряда», и чем скорее это произойдёт, тем лучше. Не то чтобы выстраивалась какая-то версия или гипотеза, пока не с чего, но своим внерациональным побуждениям Фандорин привык доверяться. Одиночный способ перемещения давал полную свободу манёвра, можно было попеременно соседствовать с каждым из экипажей.
Ездоки санного поезда предавались двум извечным российским удовольствиям – дорожному пению и дорожной беседе. Эрасту Петровичу подумалось: уж не из этого ли корня произрастает вся отечественная словесность, с её неспешностью, душевными копаниями и беспредельной раскрепощенностью мысли? Где ещё мог почувствовать себя свободным житель этой вечно несвободной страны? Лишь в дороге, где ни барина, ни начальника, ни семьи. А расстояния огромны, природа сурова, одиночество беспредельно. Едешь в телеге, почтовой карете или, того лучше, в зимней кибитке – сердце щемит, мыслям привольно. Как человеку с человеком по душам не поговорить? Можно откровенно, можно и наплести с три короба, ибо главное тут не правдивость, а обстоятельность рассказа, потому что торопиться некуда. Иссякнут темы для разговора – самое время затянуть песню, и тоже длинную, протяжную, да с немудрящей философией: про чёрного ворона, про двенадцать разбойников или про догорающую лучину.
В первых санях не пели – не та подобралась компания. Здесь разговаривали об умном. На Фандорина взглянули мельком и продолжили заинтересованную беседу.
– Что человек – не шибко сложная социальная машина, это мне давно понятно, – покачивал головой Крыжов. – Но ваша идея о биологической машине для меня внове. Это очень, очень любопытно. Да только не заносит ли вас?
– Нисколько, – отвечал доктор Шешулин. – И насчёт биомашины это не метафорически, а в самом что ни на есть буквальном смысле. Рацион питания – сиречь поставка извне химического сырья плюс внутриорганическая выработка гормонов полностью определяют и характер, и поступки, и личные качества. Благородный человек – это тот, у кого гормональный баланс хорошо отрегулирован, а с пищей в организм не поступает асоциальных и агрессогенных токсинов. Я, например, никогда не ем свежей убоины – это повышает уровень злости. На ночь никогда не пью чаю, но обязательно съедаю две морковки – помогает мозгу, находящемуся в режиме сна, самоочищаться от депрессии. Хотите, я вам скажу, чем объясняется предрасположенность северорусских старообрядцев к суициду?
Фандорин, собравшийся было отстать от передних саней, решил повременить – захотелось услышать ответ.
– Чем же? – хмыкнул Лев Сократович.
– Тем, что в их рационе много сырой рыбы. Строганина, которую они тут поедают в огромных количествах, хорошо стимулирует работу сердца, но в то же время замедляет выработку витапрезервационного гормона – это мой собственный термин. Я впервые описал витапрезервационный гормон в своей работе «Некоторые особенности функционирования гипофиза в свете новейших биохимических открытий». Статья имела огромный резонанс. Не читали?
Крыжов покачал головой.
– А вы, господин Кузнецов?
– Не имел удовольствия, – вежливо ответил Эраст Петрович, замедлил бег и десять секунд спустя естественным образом оказался подле вторых саней.
Там шла дискуссия до того оживлённая, что вынырнувший из темноты Фандорин остался незамеченным.
Дьякон обеими руками натягивал вожжи, придерживая коренника, который всё норовил догнать передние сани, но смотрел при этом не вперёд, а назад, на японца.
– И что же, коли живёшь по-божески, сызнова народишься в более высоком звании? Так по-вашему выходит? – заинтригованно выяснял он у Масы. – К примеру, я рожусь не дьяконом, а протоиереем, да? Ежели же и в протоиереях себя не уроню, то потом махну прямо в епископы? – недоверчиво засмеялся он.
Про буддийское перерождение душ беседуют, догадался Эраст Петрович. Настала очередь Масы миссионерствовать.
Для начала тот угостил собеседника леденцом, каковых имел при себе изрядный запас.
Потом вкрадчиво посулил:
– Мозьно сразу в епископы, есри отень-отень праведно будесь жичь. А твой поп родится дзябой, это я чебе обесяю.
– Отец Викентий? Жабой? – ахнул Варнава и закис со смеху. Потом смеяться перестал и задумался. – Что ж, и ваша вера тож неплохая, а наша православная всё-таки лучше.
– Тем рутьсе? Тем рутьсе? – загорячился Маса.
– А милосерднее. Больше человеку помощи от Бога, особенно если кто слабый. По-вашему как выходит? Коли душой хил и сердцем робок, так до пиявки поганой доперерождаешься. И никто тебя не укрепит, не поддержит – ни Иисус Христос, ни Матушка-Богородица, ни добросклонные ангелы? Страшно так-то, одному. Иисус Христос потеплее Будды вашего будет, с Ним и жить легче, и на душе светлее. Надежды больше.
Японец запыхтел, кажется, не найдясь, что на это ответить. В теологии бывший якудза был не силён.
Почувствовав, что оппонент дрогнул, дьякон перешёл в наступление.
– А то покрестились бы? – задушевно сказал он. – Вам бы от того хуже не стало, а мне счастье – живую душу к Христу повернул. Право, сударь, что вам стоит?
– Нерьзя. – Маса вздохнул. – У нас говорят: срузи князю, которому срузир твой отец. А есё говорят: исчинная вера в верносчи.
Тут призадумался дьякон.
Эраст Петрович не стал мешать богословскому диспуту, переместился к третьим саням, евпатьевским.
Это был целый домик на полозьях: обшитый войлоком, с крышей, над которой вился дымок из трубы, а в окошке горел свет.
На облучке сидел кучер в огромной дохе, похожий на меховой шар, и сиплым голосом пел:
- Помню, я ещё молодушкой была,
- Наша армия в поход куда-то шла…
Песня была подходящая, длинная, с романтическим сюжетом: про несбывшуюся любовь меж простой девушкой и молодым офицером.
- …Он напился, крепко руку мне пожал,
- Наклонился и меня поцеловал,
– с чувством вывел бородач, и тут дверца повозки приоткрылась.
– Эраст Петрович? Не умаялись? Что вы, будто заяц. Не юноша ведь, вон борода наполовину седая. Садитесь ко мне, обогрейтесь, – позвал промышленник.
Фандорин не «умаялся» и уж тем более не замёрз, но приглашение принял. Этот человек вызывал у него особый интерес.
Внутри было чудо как хорошо. Сразу видно, что Никифор Андронович часто бывает в зимних разъездах и привык путешествовать с комфортом.
На стенках с двух сторон горели яркие керосиновые лампы, в углу потрескивала углями маленькая железная печка. Больше всего Эраста Петровича поразила внутренняя обивка.
– Это что, горностай? – спросил он, проводя ладонью по белому с чёрными кисточками меху. Ощущение было такое, будто гладишь по волосам юную и прекрасную деву.
Евпатьев засмеялся, блеснув отличными белейшими зубами.
– Мне ещё отец говорил: кто пышно себя подаёт, тому с кредитом проще. Мы, Евпатьевы, без расчёту ничего не делаем.
– П-позволю себе в этом усомниться. Если б ваши предки были столь прагматичны, то давно отказались бы от староверия.
– Ошибаетесь. Купцу да промышленнику в старообрядстве сподручней. – Никифор Андронович весело подмигнул. – Всякий партнёр знает, что у старовера слово твёрдое, а это в смысле того же кредита чрезвычайно полезно. Опять же приказчики и работники не пьют, не воруют. Я вообще пребываю в убеждении, что вся Россия много бы выиграла, если б лицом в нашу сторону повернулась.
Теперь Евпатьев говорил уже без улыбки, серьёзно – видно, что обдуманное и выстраданное.
– Пётр Первый, сатана припадочный, превратил нас в недо-Европу. Рожа бритая, на пузе жилетка, а как были наособицу, так и остались. Только пить да табак курить приучились. По-своему надо жить – как природа, вера, традиция предписывает. Нечего из себя дрессированного медведя изображать.
– То есть бояться Антихриста и живьём в з-землю закапываться?
Никифор Андронович аж застонал.
– Вот! Того и страшусь! Что все теперь так же говорить станут! Горстка дремучих дикарей всей нашей исконности компрометацию сделает. Будут старообрядчество с изуверским сектантством смешивать! Только знаете, что мне в голову пришло? В эту самую минуту!
Он наклонился к соседу, со лба упала длинная золотистая прядь. Волосы у Евпатьева были ниже ушей и вроде как стрижены по-старинному, в кружок, однако этот фасон почти в точности совпадал с нынешней парижской модой, особенно в сочетании с бородкой а-ля Анри-Катр.
– А может, оно и к лучшему? – глаза промышленника так и загорелись – очевидно, мысль, действительно, осенила его только что. – Главный враг старой русской веры не официальная церковь, той-то общество цену знает. Наша беда – фанатики, беспоповцы, кто не признает священников и всякой организованности. Так что я подумал-то? Не было счастья, да несчастье помогло. Нужно оповестить всю старообрядческую Россию, до чего изуверы людей довели. Многие устрашатся, многие от беспоповства отшатнутся! И оттого наша церковь только укрепится. Организуемся, объединимся – и будет у нас своя иерархия, свой патриарх. Власть перестанет нас опасаться, поймёт, что мы государству союзники, потому что люди наши работящи, трезвы и к революциям не склонны. Основа у нас та же, что у английских пуритан, да ещё и построже. На таком фундаменте можно крепкое здание построить!
Он говорил так убеждённо, так горячо, что Эраст Петрович хоть и был со многим не согласен, но поневоле заслушался. Никифор Евпатьев был похож на старорусского воеводу или витязя – Евпатий Коловрат, да и только.
– И как же вы намерены обратить это несчастье в счастье? – осведомился Фандорин.
– Очень просто. По-современному. Как только доедем до следующей деревни, пошлю гонца в Вологду, в редакцию своей газеты. Пусть мчатся в Денисьево и первыми сделают репортаж о самоубийствах. Именно в той тональности, какую я вам сейчас описал. Перья у моих ребят бойкие, так что статьи перепечатают во всей периодике, и столичной, и провинциальной. Здесь главное – кто первым поспел, да каким взглядом посмотрел. Не по старой вере удар придётся, а по беспоповской ереси. Мне Крыжов сказал, вы тоже из наших. Так что вы про мою идею думаете?
– Жарко у вас, – уклонился от ответа Фандорин. – Б-благодарю за приют, но я, пожалуй, разомну ноги.
Снаружи вилась снежная труха – поднимался ветер. Движение поезда замедлилось, так что теперь бежать Эрасту Петровичу не пришлось, хватило быстрого шага.
Евпатьевский кучер закончил прочувствованный сказ про молодушку и тянул песню про замерзающего в степи ямщика – заунывную, как колыбельная.
То ли под её воздействием, то ли просто укачало, но в следующих санях, привязанных к экипажу Никифора Андроновича, действительно, спали! Глашатай прогресса Кохановский и оплот благочиния отец Викентий, трогательно привалившись друг к другу, вовсю посапывали. Снег присыпал их шапки, посеребрил бороды, но холод и вьюга им были нипочём. Плед, которым они прикрылись, весь побелел и подрагивал на ветру, как парус.
Задерживаться подле сего «Летучего голландца» смысла не было, и Фандорин передислоцировался к последней из повозок, где в одиночку ехал и распевал во всю глотку бравый урядник. У него и песня была бравая, неизвестного Эрасту Петровичу происхождения:
- Полюбила девка
- Ваню-молодца.
- У его усишшы
- Ажно в пол-лица.
- Сабля с портупеей,
- На груди мядаль.
- Йэх, заради Вани
- Ничаво не жаль!
Увидев Фандорина, служивый прекратил петь и крикнул сквозь посвист метели:
– Эй, господин хороший, спросить желаю! Вы каких будете и для какой такой надобности в нашу волость пожаловали? Про остальных мне боле-мене понятно, только вот насчёт вашей милости сомневаюсь. Я, к примеру, Ульян Одинцов, старший полицейский урядник, государево око на окружные двести вёрст. А вы кто?
Голос у «государева ока» был звонкий, взгляд острый.
Эраст Петрович ответил в тон:
– Если око з-зоркое, должно само примечать. Раз ты старший урядник, то, наверно, в шестимесячной п-полицейской школе учился? Ну-ка, что про меня скажешь?
Одинцов прищурился, тронул закрученный ус.
– Одеты попросту, но сами из образованных – из купеческого сословия или почётных граждан. Лакей вон при вас татарин. Дале что? Семьи не имеете, потому нет кольца на пальце. Приехали из Москвы – говорите по-московскому. Были на войне, и вас там ранило либо контузило – на словах спотыкаетесь. Дале… Мороз и пешой ход вам в привычку – даже шубы не надели. Я про таких в газете читал. У богатых, кому делать нечего и жены-детей нету, нынче такая блажь – беспременно хочут до земной маковки дойти. Северный полюс называется. Кто на собаках, кто на лыжах, кто вовсе пешедралом. Вот и вы туда путь держите, через нашу губернию на север, к морю-океану. Как, угадал аль нет?
И победительно посмотрел на Фандорина.
Дедукция стерженецкого Шерлока Холмса лишь на первый взгляд могла показаться бредовой. Немного подумав, Эраст Петрович был вынужден признать исключительную точность формулировки: пожалуй, он и в самом деле всю жизнь пытается «добраться до земной маковки», просто называет это иначе.
– В самую точку? То-то, – важно протянул Ульян Одинцов. – У меня глаз верный. Звать-то вас как?
Фандорин назвался и с улыбкой сказал:
– Ну, а теперь давай я про тебя расскажу. – Присмотрелся к полицейскому получше, вспомнил, как тот себя вёл в Денисьеве, да что про него говорили окружающие. – Лет тебе не меньше двадцати восьми, но не больше т-тридцати. Ты местный уроженец. Мужик смелый, независимый, привык жить своей головой. Охотиться любишь, особенно на медведей. Родился в раскольничьей семье, но после перешёл в православие. Никто тебя не заставлял, не заманивал, сам решил. Потому что хотел в полиции служить, преступников ловить, а старообрядцу такая служба заказана. Холостой – потому что народ тут сплошь староверы. Девушки на тебя заглядываются, но замуж выйти не могут. Впрочем, одна тебя тайком привечает – вдова или бобылка, – прибавил Эраст Петрович, заметив, как из-под форменной шинели высовывается краешек любовно связанного шарфа. – Что вылупился? Я про тебя, Ульян, ещё много чего могу порассказать. Но лучше ты сам. Например, как тебя в прошлом году косолапый чуть не з-задрал.
– Это вы у меня на шее след от когтя разглядели! – догадался урядник и восхищённо покачал головой. – Ну, Ераст – на все горазд! Эх, барин, вам бы не на полюс ходить, дурака валять, а в полиции служить. Большую пользу могли бы принесть. Садитесь, передохните, я рядом пойду.
Поблагодарив, Фандорин сел в сани – почувствовал, что этот Юлиан-отступник хочет ему сказать что-то важное.