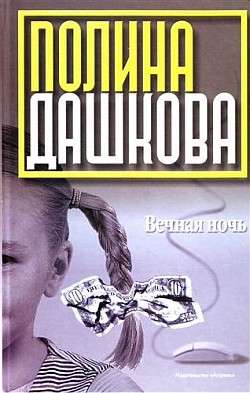Нефритовые четки Акунин Борис

– Душой – да, – тихо ответила бедная жертва.
И не стала противиться, когда Маса взял её за руку и, пользуясь тем, что все слушают сказку, потихоньку увёл из избы.
Можно было, конечно, вмешаться и испортить коту масленицу, но Эраст Петрович делать этого не стал. Во-первых, это выглядело бы мелочной мстительностью. А во-вторых, все равно занять Масу нечем. Дел никаких не было, только дожидаться, когда вернётся Одинцов.
Посетовав на общий кризис морали, который, судя по Манефиному поведению, затронул даже самые нравственно стойкие народные массы, Фандорин вышел на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха – в избе от многолюдства было хоть топор вешай.
У крыльца заметил гурьбу ребятишек, собравшихся вокруг девочки-поводырки. Та опять что-то рассказывала – похоже, страшную сказку: голос замогильный, глаза вытаращены, а руки растопырены, будто клешни. Дети только поойкивали.
– …Ходит – топочет – башкою ворочет, – разобрал Эраст Петрович и улыбнулся. Достойная ученица подрастала у матери Кириллы – с собственной аудиторией.
Одна конопатая девчушка, с красными варежками, подвешенными через шею на тесёмке, чтоб не обронить, оглянулась на взрослого, шмыгнула носом. Лет ей было восемь-девять, в разинутом рту зубы торчали через один – ещё не выросли.
– Шторожко! – звонко крикнула она, произнося «ш» вместо «с».
Все дети затихли, обернувшись на чужого.
Выражение лиц было одинаковое: напуганное и в то же время восторженное. Воспользовавшись паузой, Полкашка сунула в рот леденец – надо полагать, гонорар за сказку.
– Ну чаво вылупилша? – сердито сказала щербатая. – Иди куды шёл.
– Иду-иду. Только сопли подбери, – засмеялся Фандорин и вытер девчонке нос её же красной варежкой.
Вышел на середину, посмотрел в небо и замер. Такие яркие звёзды и в таком количестве он прежде видел лишь в полуденных морях. Но здесь, подсвеченное белизной снега, небо было не беспросветно чёрным, как на юге, а отливающим голубизной. Небо в этих краях живее и теплее земли, поёживаясь от холода, подумал Фандорин.
Как там урядник – один, в тёмном лесу? Упустит юродивого – беда.
Ещё сам бы не пропал…
Ульян вернулся заполночь, усталый, злой, весь покрытый инеем.
Матерно, не по-раскольничьи ругаясь, рассказал, что шёл по следу Лаврентия до лесного озера, а там налетел лиходуй — так в здешних местах называют короткую, но буйную метель, вроде шквала на море. Залепило глаза, закрутило. Десяти минут не мело, а всю лыжню засыпало. Куда идти, непонятно. Порыскал-порыскал, да разве в темноте углядишь?
– Ушёл, пёс! То ли вправду в Богомилово, как деревенским сказал. То ли вверх, на Лосьму. А может, в Данилов Скит повернул, там кликуш полно. Им хоть в землю, хоть в огонь.
– Почему к-кликуш? – быстро спросил Фандорин, натягивая шубу.
На ночлег всех разместили кого куда. Эраст Петрович ложиться не собирался, потому остался в конюшне, при лошадях. Кириллу как почётную гостью приютил староста. Прочих приезжих разобрали по крестьянским домам.
– В скиту вдовицы-старушки спасаются, век доживают. С утра до вечера молятся, свечки жгут. Самая публика для Лаврентия.
– Что в Лосьме? – уже на ходу продолжал выяснять Фандорин. Остановился у сенного сарая, свистнул.
– Возчики живут. От Архангельска до Ярославля ходят. Народец тёртый… Да что вы на месте-то не стоите? И так с ног валюся, – осерчал урядник.
Сверху высунулась круглая голова Масы, из-за уха торчала соломинка.
– Хаяку. Дэру дзо![28] – приказал ему Эраст Петрович. – А что в Богомилово?
Недовольно ворча и кряхтя, однако и не подумав перечить, японец стал спускаться по приставной лестнице.
– Большая деревня, богатая. На реке стоит. Писчики там. Книги старинные переписывают – тетради с молитвами, жития… Куда вы меня тащите?
Фандорин подтолкнул его к конюшне.
– Выводи, з-запрягай. Едем.
– Куда?
– В Богомилово. Далеко до него?
– По реке сорок вёрст.
– Тем б-более.
– А почём вы знаете, что он в Богомилово пошёл?
– Старушек живьём в могилу не загонишь, не та аудитория. Это раз, – наскоро объяснил Эраст Петрович, помогая надевать на коня упряжь. – С возчиками пропаганда самозакопания тоже не пройдёт. Это два. А книгописцы – то, что ему нужно. Сидят на одном месте, вся жизнь в с-старине. Да и про предсмертную записку забывать не будем. «А вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умерети». Помнишь? Это три. В Богомилово! Скорей!
Но очень уж скоро не получилось. Одинцовский конь, накануне пробивавший путь первым, ободрал бабки, и троих седоков ему было не увезти.
Пошли будить Крыжова. Тот сначала и слушать не хотел, говорил, что ночью будет метель, до Богомилова все одно не доехать. В том же доме, где ночевал Лев Сократович, разместился и Евпатьев со своим кучером. Проснулся, принял участие в дискуссии. Никифор Андронович твёрдо объявил, что поедет и что нужно поднимать земского статистика – Кохановский не захочет отстать. Да и психиатра бросать в Мазилове нельзя, обидится.
В общем, отправились по домам опрашивать всех. Крыжов агитировал подождать до утра, Евпатьев убеждал, что метели бояться нечего, в крайнем случае можно будет укрыться в лесу.
На все эти хождения было потрачено не меньше часа, но в конце концов в дорогу засобирались все, даже благочинный с дьяконом. Кириллу с девочкой будить не хотели, но в доме старосты горел свет, там всё одно не спали, поэтому Никифор Андронович заглянул, спросил.
– В Богомилово? Поеду, – сказала Кирилла. – Никогда не бывала, а село, говорят, славное, христолюбивое. Полкашка, бери узелок!
Тут и Крыжов не выдержал:
– Чёрт с вами со всеми! Пропадать так вместе!
Пропасть, конечно, не пропали, но и до места не доехали. Прав оказался Лев Сократович.
Перед рассветом, примерно на середине дороги, на реку обрушился снежный заряд. Исчезло всё: небо, лес, берег реки. Фандорин едва мог разглядеть сквозь бешено несущиеся белые хлопья круп лошади. Вместо Одинцова, спавшего сзади, под тулупом, вмиг вырос сугроб.
Куда править, стало не видно, пришлось остановиться.
Из ниоткуда, перекрывая вой ветра, донёсся голос Крыжова:
– Влево! Влево! Все влево!
Слева, под крутым обрывом, действительно, было относительно тихо. Повозки одна за другой вынырнули из вихрящегося снеговорота, сбились полукругом.
– Ну и чего вы добились? – сердито крикнул Лев Сократович. – Лаврентий-то лесом, поди, проскочил, а мы встали. Двадцать с гаком вёрст до Мазилова, почти столько же до Богомилова!
– Это опасно? – нервно спросил доктор Шешулин, смахивая с бородки снег. – Я читал, метель может продолжаться и два, и три дня…
Евпатьев втянул носом воздух.
– Нет, эта не затяжная. Часов на пять, на шесть. Ничего, переждём. Вон там, под кручей, огонь развести, туда не задувает. Опять же можно по очереди у меня в кибитке греться.
И ничего, как-то обустроились. Полчаса спустя в выемке берега пылал яркий костёр, вокруг которого на еловых ветках, накрывшись кто чем, расположились мужчины. Кириллу и девочку оставили в тёплом евпатьевском возке, у печки.
Пока караван двигался по реке, Фандорин был напряжён и сосредоточен, думал лишь о том, как бы не опоздать. Но теперь, когда всё равно ничего сделать было нельзя, он велел разуму, духу и телу расслабиться. Китайский мудрец две с лишним тысячи лет назад сказал: «Когда благородный муж сделал всё, что в его силах, он доверяется судьбе». Посему Эраст Петрович лёг на спину, накрылся снятой с саней полостью и спокойно уснул под колыбельную вьюги.
Проснулся он в серых рассветных сумерках. От крика.
Кричала женщина.
Метель стихла, и, видно, недавно – над излучиной реки ещё покачивалась мелкая белая пыль, но Божий мир был смиренен и благостен. Если бы не этот подвывающий, плаксивый голос:
– Вона вы где! А я-то не приметила! Мимо прошвондила! У-у-у! Что же вы, эх! Помогайтя! У-у-у!
На засыпанном снегом льду, тоже вся белая, словно Снегурочка, стояла на лыжах мазиловская красавица Манефа и, широко разевая рот, то ли рыдала, то ли звала на помощь – спросонья Эраст Петрович толком не понял.
Его соседи поднимались один за другим. Из евпатьевской кибитки высунулась Полкашка.
– Ты что, девка? – вскочил Крыжов. – Случилось что?
Фандорин уже знал, каков будет ответ. И спросил только:
– Кто?
– Староста, – всхлипнула девушка и, сев на корточки, протянула к тлеющим углям красные руки. – С женой и дочкой… Ксюшку-Кривобоку жалко, тако баско зверей малевала…
Отец Викентий заголосил:
– Разума их Господь лишил! За худоверие! Я ль им вчера не пенял: «Одумайтесь! Прозрейте!» Залепили уши свои воском, за то и кара!
На Манефу со всех сторон посыпались вопросы:
– Когда он успел?!
– Отрыли?
– Ты-то здесь откуда?
Манефа, давясь слезами, отвечала всем сразу:
– Как вы давеча уехали, пошёл он по избам, прощаться. «Не поминайте лихом, если кому согрубил. Сами спасёмся и за все обчество Господу слово замолвим. А вы оставайтеся, только и вам недолго уж осталось. Близок час, так неча и ждать». Отговаривали всяко, но они накрепко порешили. Сели в погреб, где капуста, сорок свечек зажгли, дверь снутри законопатили. Мужики звали-звали – ни словечка, только слышно: молитвы поют…
– Почему не удержали силой? – простонал Кохановский. – Ведь это явное помешательство!
– Почему за мной вдогонку не послали? – грозно спросил Одинцов. – Это супротив закону преступление!
– Сход был, – объяснила Манефа. – Старики приговорили: вольному воля, между человеком и Богом встревать – грех. А я за вами на лыжах побегла, потихоньку от обчества… Только вьюга попутала, не приметила я вас ночью, мимо прогнала. А нонеча это я уж назад тащилася…
– Отчаянная девка, – покачал головой Крыжов. – Ни деревенских, ни метели не испугалась.
Однако у Эраста Петровича имелась своя версия для объяснения такого бесстрашия, подтверждаемая взглядами, которые Манефа бросала на японца. Тот на неё не смотрел, потому что настоящему мужчине демонстрировать свои чувства не положено, лишь горделиво поворачивал голову.
Никифор Андронович с болью воскликнул:
– «Старики приговорили»! Теряем время, господа. Надо вытаскивать этих дикарей, пока не задохлись. Скажи-ка, милая, сколько до Мазилова, если на лыжах через лес?
Но Манефа не расслышала. Она подошла к японцу и, розовея, что-то ему говорила.
Ответил Одинцов, отлично знавший округу:
– Вёрст десять-двенадцать. По рыхлому снегу это часа три будет. Ловчей уж по реке на санях.
– Запрягай, поворачивай! – закричал Евпатьев кучеру. – Возвращаемся! И ты, служивый, со мной. Понадобишься!
Трогательный тет-а-тет влюблённых пришлось нарушить.
– В котором часу староста замуровался в погребе? – тронул Эраст Петрович девушку за локоть.
– А? – Она взглянула на него затуманенными, счастливыми глазами. – Ещё первый кочет не кричал.
Стало быть, не позднее, чем в два ночи, прикинул Фандорин.
– А велик ли п-погреб?
– Малой совсем. О две капустные бочки.
И показала размер погреба: развела в стороны руки, потом немного пригнулась.
Поморщившись, Эраст Петрович окликнул Евпатьева и Одинцова, уже усаживавшихся в кибитку:
– Зря время потратите! Если мужики не одумались и не выломали дверь, спасать поздно. Там примерно два-два с половиной к-кубических метра воздуха. Если щели законопачены, да сорок свечей горят, троим взрослым на час-полтора хватит. А прошло больше семи… Манефа, а не передал ли староста какую-нибудь записку?
– Оставил, для начальства. Что нету его согласия от Христа отвергаться. И с собой в погреб каку-нито грамотку взял, молитвенную, что ли.
– Всё то же, – покачал головой Фандорин, обращаясь к уряднику. – Как в Денисьеве, как в Раю.
– А Лаврентий-юродивый у кого снедал? – подступил к девушке Одинцов.
– Знамо у старосты.
Шешулин щёлкнул пальцами:
– Патогенез ясен. Наш пациент успел подвергнуть его психологической обработке. То-то старик вечером такой подавленный сидел. Все вокруг веселятся, хохочут, а он мрачнее тучи. М-да, не терпится мне вновь повидаться с почтённым. Лаврентием. Меня крайне интересует механизм обсессионногенного внушения. Я читал в немецком психиатрическом журнале…
Не дослушав учёную сентенцию, Фандорин подошёл к Кирилле. Намереваясь возвращаться в Мазилово, Никифор Андронович высадил из своего экипажа сказительницу и поводырку. Обе они, опустившись на колени, молились – очевидно, за новопреставленных.
– П-простите, что мешаю, – вполголоса сказал Эраст Петрович, присаживаясь на корточки. – Но вы ночевали в их доме. Как они себя вели? Почему в горнице горел свет?
– Как люди ушли, встали они все трое перед образами и начали творить молитву, – печальным, но спокойным голосом рассказала Кирилла. – Час молились, другой, третий. Я не встревала и Полкашке велела тише воды сидеть. Раз только подошла, поклонилась. Отрадно зреть такое рвение, говорю. Не дозволите ли с вами помолитовствовать. Хозяин в ответ: «Мы вона где, а ты вона где. Иди себе с Богом». Я, грешница, подумала, гордится староста с нищенкой коленопреклоняться. А он-то про другое: они уже по ту сторону обретались, к великому таинству готовились… – Кирилла перекрестилась и посетовала. – Глаза себе завязала, чтоб лучше сердцем видеть, а всё одно слепа осталась – не углядела.
Поди, и догадалась бы, отговаривать не стала, подумал Фандорин, вспомнив, как мазиловский сход решил не вмешиваться в отношения добровольных смертников с Богом. Что за люди живут в этих лесах!
Ему не давала покоя записка, которую самоубийцы оставляли для властей. Две первые были у него с собой. Они совпадали слово в слово, буква в букву, и почерк тот же. Судя по словам Манефы, мазиловский староста перед тем, как «закопаться», вручил односельчанам такую же.
Уж не богомиловские ли книжники руку приложили? Кто кроме переписчиков-старообрядцев сейчас умеет так выписывать допетровские буквы?
– Десятый час, – озабоченно сказал Эраст Петрович, подойдя к Евпатьеву и Одинцову. – Лаврентий нас сильно опередил. Нужно торопиться.
Никифор Андронович, обернувшись к остальным, зычно крикнул:
– В Богомилово!
– Это и есть село Богомилово? – спросил Фандорин, глядя на жалкую кучку построек: четыре маленьких избы, одна большая, да бревенчатая церквушка.
– Их два, Богомилова, – объяснил Ульян. – Тут село. Потому где церква, там и село. Старики главные здесь проживают, четверо. А ещё есть другое Богомилово, за тем ельником, отседа полторы версты. Оно больше, но там церквы нет, потому прозывается «деревня».
И рассказал, как удивительно устроена жизнь в поселении книжников.
Переписывать старинные книги – работа не только кропотливая, но и священная. К ней допускают лишь старшего в роде, «кто из грешного возраста вышел», с ухмылкой пояснил Одинцов.
В Богомилове проживает всего четыре «фамильи», во главе каждой – свой дед. Дед обычной работой рук не грязнит, лишь со света до темна пишет «списки». Прядут бумагу и переплетают написанное сыновья, зятья и внуки. Бабы и девки трут чернила, самые искусные рисуют на полях золотом и киноварью цветники да узоры-финики.
Старикам в село приносят еду, всячески обихаживают, обстирывают.
– Так здесь живёт всего четыре ч-человека? Почему же тогда мы приехали не в деревню, где основное население?
– Решают всё деды. Как скажут, так и будет.
Сани друг за другом уже въезжали на холм, где стояли дома. Никто не вышел навстречу, никто не выглянул. Эраст Петрович встревоженно приподнялся, но урядник успокоил его:
– Вишь, дым? Сидят, пишут.
Четыре избы – те, что поменьше, были с крохотными оконцами, как почти везде на севере, это чтоб тепло не уходило. Но посередине стоял сруб необычного для здешних мест вида, с большими окнами. В нём единственном из трубы поднималась белая струйка.
– Книжница это. – Полицейский натянул вожжи, останавливая у крыльца. – Там они все.
Евпатьев поднялся по ступенькам, показал рукой: ждите, мол. Исчез за дверью. Вышел скоро.
– Обождать надо. Старики от работы не поднимутся, пока не начнёт темнеть. И говорить не станут. Я только про юрода спросил. Был он тут, утром ещё. Передохнул и ушёл вверх по реке. Судя по тому, что деды сидят и спокойно пишут, никакого смятения не наблюдается. Подождём до сумерек.
Ждать оставалось не столь уж и долго. Пока добирались, короткий зимний день почти весь иссяк.
Все поднялись в сени, греться. В санях остался один Маса. Он сидел нахохленный, ко всему безразличный. Пока рядом была Манефа, изображал мужественное равнодушие, но когда девушка распрощалась, японец сник. По дороге не произнёс ни слова, леденцов не сосал, обедать отказался и только беспрестанно шевелил губами. Фандорин знал – это он стихотворение слагает, танка или хокку. Горевать по любимой в разлуке – это допустимо, даже достойно.
Однако Эраст Петрович сейчас и не нуждался в собеседнике. Он смотрел на дальний лес, над которым небо уже наливалось багрянцем, и пытался представить себе, каково это: жить вдали от людей, над рекой, и переписывать мало кому понятными буквицами мало кому потребные книги. Что ж, в старости, наверное, неплохо. Пожалуй, он и сам не отказался бы провести так закатную пору жизни. Поселиться где-нибудь в пустынном, красивом месте и каллиграфически переписывать кисточкой мудрые изречения древних. А если ещё окружают почтением, кормят, заботятся о тебе. Чем не рай?
Умиротворяющим мыслям пришёл конец, когда на крыльцо вышли покурить Лев Сократович Крыжов и Анатолий Иванович Шешулин. Разговор у них, очевидно, начался ещё в сенях, так что начала Фандорин не слышал.
– …всколыхнёт весь Север, – оживлённо говорил ссыльный. – Живьём в землю – это впечатляет. Как водится в народе, ещё присочинят. Ну, будет заваруха!
– И, поверьте мне, это ещё не конец, – подхватил психиатр. – Уже сейчас одиннадцать смертей, а Савонаролу этого раскольничьего пока не поймали, и неизвестно, поймают ли. Помяните моё слово, он ещё немало людей с повышенной внушаемостью в могилу сведёт. Ах, какой собирается материал! Вернусь – сделаю публичный доклад. Это, скажу я вам, будет событие!
«Ворон ворону в ответ: знаю, будет нам обед», подумал Эраст Петрович и, скорчив гримасу, хотел отойти от этих энтузиастов подальше, но тут из дверей выглянул Евпатьев.
– Пошабашили. Пора!
Четыре длиннобородых старика сидели за длинным столом, на котором лежали аккуратные стопки желтоватой бумаги, а из позеленевших от времени медных чернильниц торчали гусиные перья. Лица у книжников были морщинисты и суровы, у одного, самого дряхлого, голова подрагивала на тощей шее, будто он всё время что-то отрицал или от чего-то отказывался.
Деды были похожи то ли на судей, то ли на экзаменационную комиссию, и вошедшим стало как-то не по себе. Они неловко расселись по лавкам вдоль стен, на почтительном расстоянии от этого ареопага. Полкашка к строгим писцам соваться не посмела, побежала через лесок в деревню – вероятно, рассказывать ребятишкам сказки и тем малость подкормиться.
До того, как члены экспедиции переступили порог, Евпатьев предупредил:
– Они должны заговорить первыми. Так положено.
Но старики начинать разговор не спешили. Повисло молчание.
Книжники рассматривали чужаков, медленно переводя глаза с одного на другого. На Кириллу все четверо нахмурились – очевидно, бабе, хоть бы даже и монашеского обличья, в этом святилище было не место.
Солнце уже зашло, и в горнице становилось темновато. Евпатьевский кучер принёс из саней свечи, расставил по столу, зажёг. Старики неодобрительно наблюдали за его действиями.
– Свечи для молитвы, – прошамкал тот, что с трясучкой. – Лучину бы запалили, и ладно.
Снова тишина. Наконец предварительный досмотр завершился.
– Ну, сказывайте, – велел все тот же дед – очевидно, он тут был за главного. – Какие вы такие люди, зачем пожаловали? Тебя, Никифор, знаем, видали, а протчие остальные кто?
И приложил ладонь к уху – видно, был ещё и глуховат.
Первым поднялся урядник как официальный представитель власти. Почтительно, но строго рассказал про самоубийства. Спросил, был ли здесь «преступник, именующий себя блаженным Лаврентием» и не призывал ли последовать злодейскому примеру.
Книжники переглянулись.
– Сам ты преступник. Бороду броешь, пуговицы с антихристовой печатью носишь, – проворчал старейшина. – А Лаврентий за-под Богом живёт. Был утресь. И про самозакопание говорил. – В этом месте все четверо, как по команде, перекрестились. – Плакался о ради Христа усопших. Но и корил их. Наставлял наших от такой страсти беречь и прелестных посланцев, буде забредут, не слушать.
– Понятно, – усмехнувшись, протянул Одинцов и сел на место, со значением поглядев на Фандорина. Взгляд означал: «Врут, пни трухлявые. С Лаврушкой заодно».
– Кто это «пререстные посранцы», господзин? – шёпотом спросил Маса, заинтересовавшись.
– Те, кто п-прельщает. Вероятно, это про нас.
После полицейского прельщать книжников принялся Алоизий Степанович. Красноречиво описал блага, какие сулит России всеобщая перепись, показал портфель и даже, вероятно, считая себя хитроумнейшим дипломатом, решительно отмежевался от Антихриста: мол, земство почитает Лукавого врагом человеческого рода и намерено биться с ним не на жизнь, а на смерть.
Закончив речь, статистик гордо оглянулся на товарищей, блеснув стёклышками пенсне.
Однако приговор старцев был твёрд. Немного пошушукавшись с остальными, беззубый объявил:
– Нету нашего согласия на вашу бесовскую затею. Неча нас переписывать. Мы сами писцы.
Кохановский снова вскочил, горячо заспорил, но всё напрасно.
Никифор Андронович Евпатьев молча слушал, с каждой минутой все больше мрачнея.
– П-позвольте-ка, Алоизий Степанович, – поднялся Фандорин, трогая жестикулирующего статистика за плечо.
– Да-да, Эраст Петрович! Скажите им вы! Если они моим опросным формам не доверяют, пускай сами составят. Я после переделаю!
– Я не про перепись… – Фандорин подошёл к столу и вынул два почти одинаковых листка: первый из мины в Денисьеве, второй из мины в Раю. – Взгляните-ка, почтеннейшие, на эти г-грамотки. Что скажете про бумагу, на которой они написаны. Про чернила. А более всего меня интересует п-почерк. Видите, он один и тот же.
Книжники внимательно прочли оба предсмертных послания, не взирая на их полную идентичность. Очки, видимо, здесь почитались за бесовское ухищрение, а глаза от переписки у дедов были слабые, поэтому каждый подносил бумагу к самому носу. В общем, ознакомление с вещественной уликой продлилось добрых полчаса.
Эраст Петрович терпеливо ждал. Ему очень хотелось посмотреть, каков почерк у самих писцов. Перед ними лежало по стопке переписанных за день страниц, но при приближении Фандорина, старики дружно перевернули листки чистой стороной кверху – чтоб чужак не поганил священное письмо своим взглядом.
Наконец изучили. Переглянулись. За всех ответил все тот же старец:
– Бумага как бумага. Чернилы тож. А кем писано, не ведаем. Скушно писано, без лепоты.
Остальные покивали.
Это молчаливое единодушие Фандорину очень не понравилось.
– Б-благодарю.
Забрал улики, вернулся к скамье.
Похоже, визит в Богомилово заканчивался фиаско по всем фронтам. Приезжие не сговариваясь поднялись с лавок, в нерешительности глядя друг на друга.
Что, собственно, делать дальше? Ехать? Но куда, в какую сторону? Да и лошадям нужен отдых. Однако на гостеприимство этих мафусаилов рассчитывать не приходилось…
– А вот дайте-ка я попробую их вразумить. С Божьей-то помощью, глядишь, и выйдет, – сказал отец Викентий расстроенному Алоизию Степановичу.
Прошелестев рясой, обошёл вокруг стола, наклонился к главному книжнику, зашептал ему что-то. Трое прочих стариков придвинулись ближе.
У старейшины голова затряслась ещё сильней, на лице появилась брезгливая гримаса, но благочинного он слушал внимательно. Несколько раз, не расслышав, переспросил:
– А?
Тогда поп слегка повышал голос. Чуткий слух Фандорина разобрал эти несколько слов, произнесённых громче остальных.
Сначала отец Викентий сказал: «Предписание от архиерея». Потом: «По домам с иконою». И ещё: «Так договоримся или нет?».
Дослушав священника, деды о чём-то пошушукались между собой. Старейший взял клочок бумаги, что-то на нём написал, показал благочинному. Тот с возмущённым видом воздел очи к потолку.
Книжники снова зашушукались.
У Эраста Петровича и зрение было отменное, не только слух. Сделав шаг вперёд и прищурившись, Фандорин разглядел, что на клочке написана какая-то буква, а над нею закорючка. Кажется, так в старославянском письме обозначаются цифры.
А ещё внимание Эраста Петровича вдруг привлёк дьякон. Варнава тоже неотрывно смотрел на своего начальника, но, в отличие от остальных, следивших за странными переговорами с любопытством, имел вид сконфуженный и несчастный. Лицо вытянутое, красное, глаза опущены.
Фандорин взял дьякона за рукав, потихоньку отвёл в сторону:
– Из-за чего т-торг?
– Вот и вы догадались, – вздохнул Варнава. – Очень уж отец благочинный алчен. Стыд какой. Я-то, когда он меня удостоил с собою в пастырскую поездку взять, сначала обрадовался. Такая для меня честь. А потом понял – дурачком меня считает, не опасается, оттого и избрал. Он ведь что по благочинию ездит-то? Должен еретиков в истинное православие обращать, молельни ихние закрывать, супругов перевенчивать. А раскольникам это хуже каторги. Поговорит со старостой либо со стариками, пригрозит, а после за мзду отступается. Нехорошо это…
– Смотря для кого, – оглянулся Эраст Петрович на оборотистого попа.
А дьякон от этих слов вдруг весь просветлел:
– Вот и я так же думаю. В соседнем округе, где раскольники-поповцы проживают, благочинный, подношений не берет, неподкупен и ревностен. Что людей-то притесняет! Скольких до тюрьмы довёл! Думается мне, что отец Викентий много человечнее, ибо стяжательство – грех меньший, нежели жестокосердие.
Негоции между тем закончились, и похоже, к взаимному удовлетворению сторон.
– Так я после зайду, к каждому, – громко сказал благочинный и осенил дедов троеперстным знамением.
Книжники, как один, сплюнули через левое плечо, но священника это не обидело.
С довольным видом он подошёл к Кохановскому:
– Вот ваши товарищи не желали меня с собою брать, а видите, какая от меня польза. Договорился, что пройду с наставительной беседою по домам, потолкую с сими старцами наедине, с проникновением. А заодно, – он подмигнул, – расспрошу про семью. Кого как звать да сколько лет. Всё запишу и после вам передам.
Алоизий Степанович кисло поблагодарил.
– Ну, а ты, черница убогая, какого состояния будешь? – обратился тряский старейшина к Кирилле. – Пошто с нечистыми якшаешься?
Странница встала, опершись на посох. Степенно поклонилась:
– Чистый от нечистых не замарается, нечистый от чистых не обелится. По зароку я, батюшка. С затворенными очами землю обхожу, ради души спасения. Поводырка со мной. Кормлюсь подаянием, сказания старинные сказываю. Зимой без глаз трудно, вот и пристала к добрым людям.
– Куда тебе сказания сказывать? – скривился книжник. – Бабьи сказки, поди, брешешь, да побасёнки.
– Все жития знаю, святые речения, – возразила сказительница.
– А это всего хуже. Лучше пустые сказки балаболить, чем священные книги перевирать. От вас, побирух, древней благости одно нарушение!
Кирилла отставила посох, вновь смиренно поклонилась:
– Ни словечком не кривлю, всё, как в старинных книгах прописано, сказываю. Проверь, батюшка, сам увидишь.
Книжники зашевелились. Впервые разверз уста кто-то кроме старейшины – востроносый дед, взглядом немного поживей остальных.
– «Рукописи о древних отцех» знаешь? – спросил он тенорком.
– Знаю, батюшка.
– Нет, пущай из «Златоструя» зачтёт! – предложил третий, маленький и кривоплечий.
– Легко больно! Кто ж «Жлатоштруя» не жнает? – подключился четвёртый, вовсе беззубый.