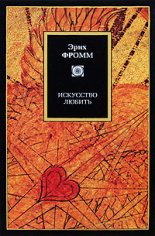Москва Ква-Ква Аксенов Василий

Уже на улице, под морозным тоненьким серпом луны, Глика спросила, кто этот человек. И вот вам новый восторг: оказалось, что автор «Трех толстяков». Позднее она нередко вспоминала этот странный вечер в кафе «Националь» как завершение своего детства. Они там съели три апельсина, и именно там невероятный Кирилл приобщил ее к миру советской богемы, околдовал ее тремя поцелуями – в щеку, в подбородок и в ключицу, открыл перед ней новые времена, пору трепетного влюбленного девичества. Именно оттуда они прибыли на свой 18-й этаж и прямо с порога объявили обеспокоенной мамочке Ариадне, что стали женихом и невестой. «Браво!» – воскликнула та, отвернулась от дочери и глубоко заглянула в глаза поэту.
Все в белом
Прошло три месяца. Началось лето, одно из тех малооблачных лет вершины социализма. Глика только что завершила экзаменационную сессию. В просторном белом платье она стояла на террасе своего этажа. Платье трепетало под порывами ветра, иногда вздымалось выше колен. Пыли тогда в городе почти не было. Осадков в виде гари тоже недоставало. Кирилл любил присаживаться на балюстраду и вставал с нее всегда без всяких темных пятен на заднице белых брюк. Не осквернялась и лопаточная область белого пиджака от прикосновения к голени каменного трудящегося Геракла. Родители в плетеных креслах за плетеным столиком поедали первый доставленный в столицу астраханский арбуз. Вынесенный на площадку радиоприемник «Мир», тяжелый, как сундук с пиастрами, исполнял концерт по заявкам; в частности, лилась лирика с острова Куба – «О, голубка моя, как тебя я люблю!» – сочиненная свободолюбивым народом, несмотря на режим диктатора Батисты.
Глика, щурясь, смотрела на сверкающую под солнцем Москву-реку, по которой в этот час медленно проходила расцвеченная сигнальными флагами кильватерная колонна канонерок Волжской военной флотилии. «Почему вокруг нас так много всего красивого?» – вдруг вопросила она. Отец и мать при этих словах переглянулись с арбузными полумесяцами в зубах. Кирилл ничего не сказал: он, кажется, не очень-то и расслышал вопрос, поглощенный созерцанием девичьей фигуры в летящей на ветру белой одежде. «Но ведь далеко не все в нашей стране живут так, как мы, не так ли?» – спросила девичья фигура. Ну и ну, подумал тут поэт. «Кто это тебе сказал?» – спросила мать, освободив рот от арбуза. «Киска фантазирует», – хохотнул Ксаверий Ксаверьевич. Глика пожала плечами. «Иной раз в буфете я вижу ребят, считающих медяки, чтобы набрать на тарелку винегрета. Кое-кто ходит на босу ногу, тэ е без носков». Ариадна Лукиановна обернулась к Кириллу: «Что ты на это скажешь, поэт?» Тот, будто подражая невесте, тоже пожал плечами. «Идеальная республика вовсе не предусматривает равноправия».
Глика поглядела на него через плечо. «Расскажите нам про идеальную республику, мой дорогой». Обеими руками она подхватила разлетающуюся под ветром гриву и стала заворачивать ее в узел на затылке. Надо сказать, что эти девичьи взгляды через плечо или исподлобья, а также частые изменения золотого нимба стали уже основательно терзать матерого жениха. Наши отношения застыли в какой-то двусмысленной неподвижности, думал он. Что же, мне так и подвизаться в роли воспитателя капризного дитяти? Так и поклоняться ее девственности? Нужно все же предпринять какие-то шаги в сторону дальнейшего развития.
Он предпринял какие-то шаги и почти вступил в соприкосновение с ее фигурой. Даже положил ладонь на ее бедро. «Я говорю о „Республике“ Платона, моя родная». Он представил себе, какими взглядами в этот момент обменялись Ариадна Лукиановна и Ксаверий Ксаверьевич. Вдруг он почувствовал, что бедро как-то дрогнуло под его рукой, как бы даже слегка повернулось в его сторону. «Смотрите, смотрите, как они летят!» – вскричала фигура и вся вытянулась в сторону юго-западного свода московских небес с подъятой дланью. Невероятная экзальтация прозвучала в этом возгласе, словно в поле зрения появились бессмертные боги.
Из солнечных высот к сверкающей реке снижались три гидроплана. Метрах в двустах от поверхности воды они изменили курс и пошли над рекой на восток, то есть в сторону нашего жилого великана. Они, все трое, были белого цвета с синими полосами вдоль бортов, с красными звездами на крыльях и с красными серпами-молотами на хвостовых оперениях, – иными словами, они несли цвета и эмблемы Военно-морского флота СССР. Кирилл сообразил, что летающие амфибии вкупе с канонерками проводят на животворном городском потоке репетицию военно-морского парада.
Самое удивительное, однако, было впереди. Не долетев нескольких сот метров до траверза высотного здания, один из гидропланов свернул влево и полетел прямо к зрителям 18-го этажа. Да уж не собирается ли этот охотник за подводными лодками врезаться в дом? Уж не японский ли камикадзе пробрался к штурвалу? Супруги Новотканные, а также жених семьи Кирилл Смельчаков застыли в напряжении, не зная, что предпринять: броситься ли вниз, спрятаться ли за колоннами, упасть ли ничком на кафельный пол террасы? Одна лишь Глика не изведала ни секунды страха, она продолжала ликовать и размахивать над головой ослепительным летним шарфом. Между тем с каждой секундой аппарат становился все крупнее, за стеклами кокпита обозначились лица экипажа, над открытым люком возвысилась широкоплечая фигура пилота в плотно прилегающем кожаном шлеме и в закрывающих половину лица очках-консервах. Он поднял над головой сомкнутые в приветствии ладони, и только тогда смельчаки-пилоты – или отчаянные сорви-головы? – отвернули и начали облет здания.
«Это он мне! Он послал привет мне!» – вне себя от восторга прозвенела дева.
«Безобразное безрассудство!» – протрубил академик.
«Экое хамство! – возвысила голос ведущая дама. – Ксава, ты должен немедленно позвонить в штаб парада!»
Один только жених девы ничего не сказал. Фигура пилота напомнила ему кого-то и что-то из прошлого; уж не полярную ли экпедицию 1940 года, уж не поиски ли пропавшего во льдах многомоторника «Коминтерн», уж не навигатора ли Жорку Моккинакки?
Не прошло и минуты, как дерзновенный гидроплан снова появился в поле зрения обитателей 18-го этажа. Теперь он снижался, явно норовя приводниться возле набережной. «Кирилл, посмотри, они садятся! – продолжила свои слегка нарочитые восклицания Глика. – Да ведь это пилотаж высшего класса!» Жених ее тем временем возжигал свою «хемингуэевскую» трубку. «Недурно, недурно, – бормотал он. – Однако не стоит, киска, так злоупотреблять восклицательными знаками». Она с некоторым вызовом посмотрела на него и еще пуще зашлась: «Браво, браво!»
Поднимая буруны изумрудно-кристальной воды, гидроплан побежал по Москве-реке и через несколько минут остановился, слегка покачиваясь, неподалеку от гранитных ступеней.
«Похоже, что это разведывательный вариант машины КОР-1», – произнес знаток аиационной техники Ксаверий Ксаверьевич.
«А мне он напоминает трофейный „Хейнкель-59“, – прищурился Кирилл.
«Кирилл, пожалуй, прав», – со знанием дела улыбнулась Ариадна Лукиановна.
Через несколько минут внушительная фигура, на этот раз без шлема и без очков-консервов, выпросталась из самолетного люка, опустилась на массивный поплавок и, взявшись за один из лееров, перемахнула на уходящую в воду лестницу. На голове у этого человека была теперь морская фуражка, а облачен он был в габардиновый плащ с золотыми генеральскими, или адмиральскими, погонами. Уже на набережной он поднял голову, посмотрел на сверкающего всеми тридцатью этажами окон исполина архитектуры и отмахал какой-то сигнал морской азбукой. Смельчаков, хоть и не особенно искушенный в этом средстве коммуникации, готов был поклясться, что прочел что-то вроде: «Кирилл, поднимаюсь к тебе. Жорж». Глика между тем была уверена, что сигнал следует прочесть иным способом, а именно: «Вздымаюсь к тебе, моя родная!» Перегнувшись через перила террасы, жених и невеста теперь смотрели, как загадочный моряк-авиатор пересекает дорогу в направлении парадного входа в здание. Два члена экипажа несли за ним его чемоданы.
С тревожным чувством взирал Кирилл Смельчаков на шествие этого человека. Он не был уверен, что это тот самый Жорж, которого он имеет в виду, когда вспоминает спасение «Коминтерна», да и вообще – Жорж ли это? По установившейся традиции спасение многомоторника проходило тогда под неотступным вниманием правительства, прессы и общественности и, по сути дела, превращалось во всенародный праздник любви к родной партии большевиков и гордости за взращенных ею героев. Иные многоопытные полярники и авиаторы иной раз, особенно после принятия иных доз ректификата, слегка чуть-чуть несколько ворчали: дескать, где тут заложена причина для ликования? Где кроется базис для гордости? Машина не выполнила задания, затерялась во льдах, радиостанция на борту отказала, полностью вырубилась, экипаж и пассажиры, разбившись на кучки, бессмысленно кружат в окрестностях Канина Носа, ледоколы «Красин» и «Калинин» пошли слишком далеко на север, сами застряли, их надо было самих вызволять; а чем вызволять, бомбами, что ли? Ну, конечно, эта воркотня была приглушенной, вернее, почти неслышной, а на поверхности, разумеется, гремели оркестры, шли бесконечные приподнятые радиопередачи, предприятия брали на себя повышенные обязательства, пионеры шефствовали над семьями героев-полярников, фоторепортеры и журналисты засыпали редакции свежими материалами, и среди них, конечно, выделялись взволнованные репортажи смельчака Смельчакова. В частности, запомнились всем его короткие, но емкие радиодепеши с маршрута группы отборных лыжников РККА, с которой он прошел не менее двухсот километров по льдам моря Лаптевых, пока они не натолкнулись на «Коминтерн», застывший, словно ящер, извлеченный из мезозойских, или каких там еще, юрских, что ли, глубин. Оказалось, что на борту еще осталась группа людей, умудрившихся не только выжить, но и даже поддержать определенный градус оптимизма. Во главе этой группы стоял здоровенный парень, обросший густой греческой бородой, второй пилот Жора Моккинакки. Именно в его руках, вернее, в кобуре его револьвера, находился ключ от рундука, где хранился запас 96-градусного оптимизма, предназначенного для борьбы с обледенением крыльев и почти уже до конца использованного для борьбы с обледенением людей. Впрочем, об этой жидкости ни слова не было сказано в депеше собкора «Комсомолки». Там речь шла о вере в жизнь, о верности родине и идеалам социализма, о дерзновенном вызове, что бросила Ледовитому океану горстка героев, ведомых мужественным южанином Моккинакки.
О нем тогда стали писать все газеты. На всенародной встрече в Москве его засыпали цветами. Всесоюзный староста, однофамилец злополучного ледокола Калинин собственноручно приколол к его френчу орден Трудового Красного Знамени. Вот тут и возникло некоторое недоумение. Никто не сомневался, что Моккинакки будет удостоен звания Героя Советского Союза, однако вместо высшей награды ему достался орден третьего разряда. Вскоре после этого Жорж Моккинакки вообще исчез из поля зрения. Прошел слух, что его обвиняют чуть ли не во вредительстве. Якобы это именно он способствовал выводу из строя такого чуда нашего авиастроения, как многомоторник «Коминтерн». Потом и этот слух заглох.
О вчерашнем герое просто перестали говорить. Это было в духе времени. Если о ком-нибудь переставали говорить, то разговоры о нем больше не возобновлялись. Считалось просто бестактным упоминание того, о ком перестали говорить. Если кто-нибудь упоминал выпавшее из обихода имя, на бестактного болтуна просто бросали недоуменный взгляд, и тот сразу понимал, что ляпнул что-то неудобоваримое. В этом был определенный смысл героического времени. Подлинные герои не выпадают из обихода. Зачем упоминать неупоминаемое? Жизнь идет вперед семимильными шагами, чуть ли не ежедневно возникают новые блистательные имена.
Вскоре началась Великая Отечественная война. Все полярные подвиги отодвинулись в далекое прошлое. В этом проявлялся еще один удивительный парадокс героического времени. Великие события, возникающие в ходе бурной истории, такие, как гражданская война, нэп, коллективизация, борьба с троцкистско-бухаринским подпольем, немедленно по возникновении намывали колоссальный межвременной вал, и то, что за этим валом, хоть хронологически совсем еще близкое, оказывалось в каких-то неопределенных далях, смыкалось с прошлыми веками.
В течение всей войны о Жорже Моккинакки в авиационных и журналистских кругах нет-нет да возникали противоречивые слухи. А помните такого Моккинакки? Вот отколол номер! Да разве он жив? Говорят, что жив, оказался в оккупации, перешел к врагу, теперь над нами на «штуке» летает. В другой раз совершенно противоположная приходит информация. Вроде бы Моккинакки был в составе той самой эскадрильи дальнего действия, что поднялась с нашей базы на острове Сааремаа и отбомбилась над Берлином как раз за несколько дней до того, как остров был взят эсэсовским десантом. После перелома военных действий в нашу пользу где-то вблизи ставки Верховного Главнокомандующего кто-то обмолвился, что Жора Моккинакки водит как раз тот самый высотный самолет, на котором Молотов в Лондон летает. А в кругах разведки за распитием трофейного коньяку однажды зашел разговор о спецоперациях в боснийских горах, и вот тут снова всплыла на поверхность фамилия Моккинакки. Будто бы он там совместно с британцами обеспечивает ближайшую поддержку партизанам-коммунистам маршала Тито.
После войны Кирилл никогда ничего о нем не слышал, да, признаться, и никогда о нем не вспоминал. Не исключено, что тот снова попал в число неупоминаемых. И вот вдруг явился точно из небытия, да еще и на гидроплане, да еще и в адмиральских погонах, да еще и произвел сильнейшее впечатление на экзальтированную Глику, да еще и направился с большими чемоданами в их общий высотный дом, обитель будущей неоплатоновской республики. Уж не собирается ли тут вместе с нами, «царями-философами, солдатами и артизанами», поселиться?
Оказалось, что вот именно в неоплатоновской обители, вот именно вместе с «царями-философами» и возвышенными женщинами социализма и собирается поселиться воздушный моряк республики, контр-адмирал Жорж Моккинакки с набором орденских планок шириной в натруженную штурвалом ладонь. Больше того, вот именно на 18-м этаже, где, оказывается, ждала его одна не занятая еще квартира.
Не прошло и получаса после его вселения, как он появился на террасе Новотканных в сопровождении обслуживающего персонала. Фаддей и Нюра скользили по бокам с нескрываемым восхищением сопровождаемой персоной. Казалось, им и в голову не приходит, что незваный гость может вызвать какие-либо иные чувства, кроме восхищения. Не исключено, что персона сия фигурировала в каких-нибудь секретных списках их подразделения, то есть Специального буфета, как лицо выдающихся заслуг и беспрекословных качеств, однако не исключено также, что гость и без всяких списков просто воздействовал на них каким-то своим собственным гипнотическим шармом.
«Ксаверий Ксаверьевич, разрешите доложить, к вам с визитом прибыл контр-адмирал Моккинакки», – с иключительным чувством причастности к великолепному событию произнес Фаддей, а Нюра сделала соответствующий жест обеими руками, как в водевиле на народные темы. И тут же выдвинулась вперед выдающаяся фигура названной персоны, успевшей за истекшие полчаса переодеться в белую парадную форму, по всей вероятности, сшитую на заказ в преддверии парада. Пройдя по обширной и весьма витиеватой вследствие всевозможных архитектурных и скульптурных изысков террасе без малейшей запинки, как будто он не раз уже тут побывал и может проложить курс без посторонней помощи, Жорж, держа левую руку за спиной, подошел к столу, за которым восседало все почтенное семейство, и с некоторым юморком прищелкнул каблуками: «Величайший Ксаверий Ксаверьевич, достойнейшая Ариадна Лукиановна, несравненная Гликерия Ксаверьевна, позвольте представиться, я ваш новый сосед по этажу, морской и воздушный разбойник на службе Союза республик Жорж Эммануилович Мокки, а также и Накки!» С этими словами он извлек из-за спины великолепнейший букет фантастических полярных тюльпанов.
Служащие СБ тут же водрузили в центр обширного круглого стола большую хрустальную вазу, изделие братской Чехословакии, где и поместились странные, как будто выросшие из алюминия, цветы. Все присутствующие, включая, между прочим, и военнослужащих СБ, на миг испытали странное чувство какого-то изменения среды. Чувство это, впрочем, тут же отлетело прочь, и воцарилось нечто сродни общему ликованию.
Только закончив церемонию представления хозяевам, Моккинакки раскрыл объятия Смельчакову. «Черт тебя побери, Кирюха, ты, наверное, думаешь, что я удивлен был увидеть тебя в окуляры своего фронтового бинокля вот здесь, в лоне столь великолепной семьи, а вот и не был удивлен и на микрон!» Смельчаков стоял с раскрытыми объятиями. «Черт тебя побери, Мокки и Накки, ты, наверное, думаешь, что я удивлен твоему появлению на этой башне неоплатоновского града, а я вот не удивлен даже и на одну запятую!» Объятия сомкнулись, то есть превратились в одно могучее объятие двух неслабых. Мужчины помяли друг друга, как и полагается среди солдат. Шутливые чертыхания перемежались восклицаниями «а помнишь, а помнишь», пока вдруг оба не сообразили, что вспоминать-то, собственно говоря, нечего, кроме одной-единственной встречи во льдах моря Лаптевых двенадцать лет назад. Ну и прорвалось: «А помнишь, как на „Коминтерне“-то повышали градус оптимизма?!» «Еще бы, почитай, весь твой энзе прикончили за два часа под северным сиянием!» «А помнишь, как чашу дружбы-то возжигали?!» «И черпачками, что ли, хлебали, так, что ли?!» «И как оглашенные там бегали с чертенячьими пламеньками на животах и на рукавах, как только бородища твоя не сгорела!» «А также и глотки наши как не сгорели, мой друг, а также и языки!» «Ей-ей, как же можно забыть такое бдение отпетой полярной комсомольщины!»
Пока эта сцена продолжалась, хозяева террасы обменивались восхищенными и, конечно, гостеприимными, но все-таки слегка отчасти чуть-чуть недоуменными взглядами. Откуда-де так вдруг и появился этот столь неожиданный контр-адмирал? Как чудесно выглядит эта встреча боевых друзей, однако не кажется ли тебе, роднуля, что они обмениваются какими-то странными воспоминаниями? За столом, конечно, никто у нас не лишний, а уж тем более новый сосед по 18-му этажу высочайшего в столице жилого дома, да к тому же и такой отменный образец молодого мужчины, да с небольшой плешью, ну и что ж, эти залысины у него на смуглоореховой голове ничего ему не убавляют, а только прибавляют, а все-таки не стоит ли запросить соответствующих товарищей о степени гостеприимства?
Третья хозяйка, то есть дочь Гликерия, прекрасно понимая эти обмены улыбчивыми взглядами, полыхала своими взглядами им в ответ. Ах, товарищи родители, да неужели вы забыли, что Жорж спустился к нам с этих лазурных небес, что он прилетел сюда на первоклассном советском гидроплане, словно с картины Дейнеки? Ах, Глика, с минимальнейшей досадой отвечала ей взглядом мать, ты опять слегка, чуть-чуть не к месту упоминаешь этого отчасти формалиста Дейнеку!
Все эти неизреченные сомнения улетучились, когда Фаддей, раскладывая новые наборы ножей и вилок, дал понять своими взглядами из-под лохматеньких бровей, а также улыбками, в которых поблескивал крупный желудь золотого зуба, что соответствующие товарищи уже запрошены и что получено «добро» на высокую степень гостеприимства. Тут как раз и Нюра появилась с блюдом отлично пропеченной индейки, еще недавно пробегавшей по полям братской ВНР. И сразу же по прибытии индейки академик Новотканный поднялся с хрустальным бокалом.
«Ну что ж, друзья, давайте начнем наш ужин с традиционного тоста всех советских людей. За генералиссимуса Сталина!»
Солнце, собственно говоря, к началу ужина уже опустилось за звезды, шпили и купола священной для каждого гражданина старинной крепости Кремль. Отсюда, с 18-го этажа, она в этот прозрачно-сияющий вечер видна была как на ладони, и казалось, что это именно она покрывает собою важнейшее закругление земли. Небосвод на своих западных склонах демонстрировал полную незыблемость. Там сгущалось золото, а над ним разливалась волшебная прозелень, словно предназначенная для промывки планетного серебра; и, впрямь, там уже светилась успевшая раньше других Венера, Глика видела ее прямо над адмиральским погоном, когда оборачивалась к сидящему слева Моккинакки.
«Верьте не верьте, Жорж Эммануилович, но я помню статью в „Огоньке“ о вашем освобождении из ледового плена, – говорила девушка своему соседу. – Я была тогда шести лет от роду, и я с некоторой опаской смотрела на мутную фотографию бородатых полярников. Мама мне читала, что самая длинная борода была у пилота Моккинакки, он даже затыкал ее за пояс».
Девчонка явно кокетничает, с удивлением наблюдал жених Кирилл. Никогда еще не видел, чтобы она посматривала на чужого мужчину из-за плеча.
«Мама, помнишь, как ты мне читала про эту бороду?» – спросила Глика.
Ариадна Лукиановна картинно курила длинную болгарскую «Фемину» с золотым ободком. Выпустила колечко, шикарно хохотнула. «Ничего подобного я тебе не читала, дитя мое. Это, очевидно, одно лишь твое воображение».
Глика притворно рассердилась, хлопнула ладошкой по столу. «Да ничего это не мое воображение! Может быть, это было воображение какого-нибудь репортера. – Мельком бросила надменноватый взглядик на Кирилла – ого, она меня задирает, подумал тот. – Жорж Эммануилович, да подтвердите же вы, что у вас на льдине была борода, которую вы затыкали за пояс!»
Моккинакки еще не перешел к курению, обтесывал индюшачью ногу, совершал глотательные движения, которые у него сочетались с каким-то ловким причмоком, очищающим ротовую полость. «Гликочка моя, – произнес он, великолепно артикулируя каждое слово, – чаще я обкручивал эту бороду вокруг шеи на манер шарфа, но иногда я действительно затыкал ее за пояс. Кирилл не наврал, несмотря на свое поэтическое воображение».
Глика бурно рассмеялась. «Ой, как замечательно! Бороду на манер шарфа! А почему бы вам, Жорж, не отрастить ее снова и не носить ее заново на манер шарфа?»
Моккинакки завершил трапезу еще одним сильным причмоком и слегка приблизил свое знатно выбритое лицо к собеседнице. «Гликочка моя, если бы мне пришлось отращивать ее заново, я бы вообразил ее на ваших плечах на манер боа. – И добавил своими бровями, крыльями носа и даже слегка чуть-чуть преувеличенными ушами: – Моя родная». Девушка вспыхнула, что, конечно, не прошло не замеченным за столом. Вот это да, подумал Кирилл. Каково, подумала мать. И только отец подумал иначе: однако, однако.
Платоническая любовь
Три месяца, что прошли в их жизни со дня удивительного обручения Глики и Кирилла, нельзя было назвать ни абсолютно безоблачными, ни стопроцентно лучезарными, хотя и дурными эти месяцы тоже не назовешь. Конечно, временами кто-то начинал интенсивно хмуриться из этого союза четырех сердец. Вот, скажем, Ксаверий: вдруг возьмется ходить день-деньской по своей огромной квадратуре, бубнит, вдруг палец загибает в виде вопросительного знака, вздымает его выше темени и так ходит, поет одну строчку из оперы: «Сатана там правит бал» и без конца ее повторяет или вдруг, превратив вопросительный знак в восклицательный, берется им, как копьем, куда-то тыкать. «Ксава, какого быка ты там матадоришь?» – спрашивает его Кирилл. Тот не отвечает.
Собственно говоря, отец и будущий зять (если так можно сказать о женихе в платоническом смысле) были людьми одного поколения: Ксаверий был старше всего на пять лет. Когда-то, в период молодых влюбленностей, Кирилл недолюбливал этого «постоянного мужа», потому что тот постоянно мешал ему добраться до Ариадны. Теперь, когда наш поэт нежданно-негаданно оказался едва ли не членом семейства Новотканных, возникли совсем новые отношения. Они стали симпатизировать друг другу и с удовольствием проводили вместе время на теннисном корте, или в плавательном бассейне спортклуба ЦДКА, или возле камина за распитием коллекционного коньяка «Греми» и за беседами о мировой атомно-политической обстановке. Вот только такие приступы молчания и мычания, хождения по бескрайней квартире и загадочных жестикуляций обескураживали Кирилла.
«Адна, спроси ты своего благоверного, о чем это он без конца ходит?» – с некоторым раздражением просил Кирилл. «Я и так знаю, о чем он так ходит, он ходит так о любви, то есть обо мне, – поддразнивала поэта будущая теща. – Ксавка, ведь правда, что ты так ходишь обо мне и только обо мне?»
Ксаверий вдруг выходил из кататонического состояния. «Неправда! – громогласно возглашал он. – Я хожу так по поводу ускорения частиц! Там, в Лос-Аламосе, они обогнали нас на порядок!»
Ариадна тоже временами теряла ритм своей привычной жизни, в которой она, водрузив на нос очки, садилась к столу в своем кабинете, читала бесконечные материалы различных комитетов, говорила по телефону (обычному и вертушечному) с разными выдающимися людьми, диктовала тезисы одновременно стенографистке и машинистке, звонила в гаражи то Академии, то КСП, а то и ГОНа,[1] заказывала себе машину к подъезду, отправлялась на заседания, премьеры, филармонические концерты, выставки МОСХа; и вдруг выпадала из ритма.
«Где твой жених? – в такие минуты спрашивала она Глику. – Ты отдаешь себе отчет, что он за человек? Ответь матери, вы откровенны друг с другом? Он прикасается к тебе? Тебя влечет к нему? Ты хотя бы чуточку понимаешь, что у него за плечами?»
Глика, разумеется, вспыхивала и молчала. Мать внимательно следила за состоянием ее ланит. Экая странность, у меня в моем бальзаковском возрасте с эндокринной системой все в порядке, а дочка то и дело полыхает на девятнадцатом году жизни. Она меняла тон, приближалась к дочке, нежно целовала ее в мочку уха. «Девочка моя, ну доверься мне, тебе будет легче, поверь. Что происходит между вами, когда вы остаетесь вдвоем?» Глика вскакивала, куда-то устремлялась, резко оборачивалась, красота ее, усиленная румянцем, становилась просто невыносимой. «Знаешь, мама, ты совсем не понимаешь наших отношений! Кирилл не Тезей, ему не нужна нить Ариадны! Он скорее Лоэнгрин!» Мать грубовато хохотала, качала головой, резковато покачивалась ее прическа, великолепные темно-каштановые волосы. «Что за вздор? Что за мистика? Это в наше-то время!» Диалог прерывался.
Жених и невеста оставались вдвоем не так-то часто. Иногда он читал ей новые стихи в своей квартире. Комнаты, еще недавно заставленные инвентарной мебелью, с каждым разом преображались, превращаясь в шикарное и безалаберное обиталище богатого холостяка: туркменские ковры, медный глобус старой германской работы, оригиналы гравюр Дюрера, живопись Питера Брейгеля, холсты «Бубнового валета», купленные под сурдинку на разных московских чердаках, массивный письменный стол и рядом конторка красного дерева, все это завалено старыми книгами, множеством нового хлама в лице «толстых» журналов, а также и пожелтевшими копиями журнала «Аполлон», возле камина отменный мрамор, скульптура стыдливой полуобнаженной девы, о которой он ни разу не упустил возможности заметить «Это ты!», сделанная по заказу стойка бара и три высоких табуретки, зеркала в позолоченных рамах, широченная «александровская» кровать, мимо которой она всегда проходила, отвернув возмущенную голову, – и все это в хаотическом расположении, в беспорядке, прямо скажем, в дисгармонии, в сочетании несочетаемого; например, под большой фотографией Сталина навален был комплект зимних шин с шипами и заплатанные баллоны.
Она забиралась с ногами на отменный кожаный диван, лишь едва потертый задами и лопатками неизвестно скольких поколений, а он ходил перед ней и читал, читал, читал свое: то чисто советское лирическое, слегка чуть-чуть как бы чувственное, то дерзновенно вызывающее в адрес империалистов, а то и киплингианское с гумилевским акцентом. Иногда, зачитавшись, весь в ореоле мегаломании, если так можно сказать по-русски, он забывал про нее. Спохватившись, бросал на деву взгляд и видел заплаканное лицо, светящиеся глубокой любовью глаза. Глика, девочка моя, он садился рядом, одной рукой обнимал ее за плечи, другой гладил по голове. Она как-то, то ли по-кошачьи, то ли по-детски, обуючивалась у него в руках. Он переполнялся чем-то братским или даже отцовским, пока вдруг, всегда бурно, в нем не просыпалось либидо, и он, теряя голову, начинал целовать ее в губы, а рука непроизвольно начинала путешествовать с головы на шею, потом на грудь, на живот, и тут она пружиной выскакивала из его объятий. Лицо ее в такие минуты становилось гневным и презрительным, как будто он, ее «вечный жених», совершал предательство.
Вот, собственно говоря, и все, что так жаждала узнать Ариадна. Дальше этих вспышек они ни разу еще не зашли. Кирилл клял себя за то, что вступил с фригидной красавицей в такой немыслимый альянс. Неужели она не понимает, какая это мука для меня с моими тридцатью семью годами, со ста сорока женщинами, что прошли через мои руки? Надо немедленно поломать все это постыдное жениховство! Признаться самому себе в лицемерии! Сбежать, уехать куда-нибудь! Закрутить какой-нибудь роман с хорошо разработанной бабой! Жениться на какой-нибудь! Подстеречь опять Эсперанцу! Снова украсть ее! Пусть Гага меня убьет! Пусть Сосо-батоно посадит меня в тюрьму! Что угодно, но только не это!
А через несколько переборок могучих яузских стен, на том же 18-м этаже, металась на девичьей постели звезда МГУ Гликерия Ксаверьевна Новотканная. Солдафон, насильник, он хочет из меня сделать заурядную гарнизонную шлюху! Девку из «Националя»! Говорят, они там все обмениваются своими затычками! В лучшем случае супругу семижды лауреата, гусыню выводка! Он, мой вечный жених, Лоэнгрин, даже не понимает, каким становится постылым, когда меня домогается. Скажу матери, пусть откажет ему от дома! Пусть Ксаверий даст ему пинка! Пусть Фаддей и Нюра не пропускают посягателя! А лучше убегу на стройку Волго-Дона, туда, к энтузиастам! На лесозащитные полосы! Хочется улететь, оттолкнуться ногами, взорлить и исчезнуть, чтобы не видеть нарцисса самовлюбленного. Который ради своей утехи намерен все тело мое распластать под собой, придавить, разодрать ноги, вторгнуться в меня и трястись на мне, как оккупант на Украине. Как жаль, что сейчас нет войны: ушла бы в санбат, таскала бы страждущих, которым не до плотских утех, исчезла бы там где-то.
Метания такого рода продолжались всю ночь по обе стороны лестничной площадки до тех пор, пока не затихали и пока в горячем полусне и перед ним, и перед ней, быть может, даже в один час или в один миг мелькали моменты, или скорее порывы счастья и влюбленности, на которой нет ни единого плевка, ни единого пятна, в которой каждое прикосновение пальцев переплетается со счастьем взглядов. Так было, конечно, в тот мартовский день, когда шли вдвоем вдоль ледохода к Кремлю, когда огибали Кремль и пересекали Манежную, чтобы войти в столь интригующий европейский отель. Так было и в другой раз, к концу марта, когда вдруг, ненадолго, грянули последние морозы и весь город повалил через Крымский мост в ЦПКиО с коньками на плечах, чтобы насладиться последними в году катаниями.
Кирилл и Глика оставляли машину у главного входа и бежали через триумфальные ворота в какую-то паршивую раздевалку, чтобы надеть коньки. Дальше начиналось сущее блаженство, то есть детство. Детство это было не малышовское, а порядочно возрастное, что-то вроде пятиклассия или шестиклассия, когда девочка и мальчик скользят вместе, взявшись за руки, совершают пируэты и шалят друг перед другом, не замечая вокруг никого, но все-таки пьянея от толпы, от взрывов смеха, от писклявого голоска из репродуктора: «Мы бежали с тобой на каток, на сверкающий лед голубой!»
Однажды они далеко унеслись от электрифицированной части огромного катка, и вдруг над ними среди белых еловых лап открылся глубочайший, вернее, безмерный колодец в звездное небо. Вдруг оба они, как потом признавались друг другу, почувствовали тотальную новизну момента, а также всего бытия. Все, что мы видим нашими телами, подумали они, может предстать совсем иным. То, что здесь кажется ничтожно малым или бесконечно большим, там отвергается и может стать самим собой. Все наши чувства и органы чувств – лишь намеки на вселенское чувство, а наша любовь – лишь намек на вселенскую радугу. Когда скользишь на коньках в ночи, слегка освобождаешься от притяжения и от вечной человечьей неуклюжести. Вот почему нас так тянет на лед. И вдруг они затанцевали друг с дружкой, как какие-нибудь фигуристы будущего на дне космического колодца.
Вспомнив эти счастливые минуты, они мирно засыпали, а утром встречались на большой кухне Новотканных, где спецбуфетчица Нюра готовила для них хрустящие оладьи.
Появление Тезея
Однажды, уже в апреле, Глика сказала Кириллу, что в МГУ намечено его выступление перед студентами. Оно состоится через неделю. Он не поверил своим ушам. В эту обитель всего самого непорочного и ортодоксального даже Степана Щипачева с его стихами о любви не приглашали, не говоря уже о таких авторах, как Константин Симонов или, тем более, Кирилл Смельчаков. Глика со смехом рассказала ему, как волновались в комитете комсомола, в парткоме, в деканате и в ректорате. Все эти организации обращались с робкими запросами по инстанциям в полной уверенности, что те наложат вето, и крайне удивлялись, когда из всех инстанций без задержки приходило безоговорочное «добро». Впрочем, была одна оговорка: никаких публичных объявлений, вход в зал по строго лимитированным пригласительным билетам.
В тот вечер всем семейством, включая спецбуфетовцев, отправились на Ленгоры в секретном ЗИСе-110 Ксаверия Ксаверьевича. В гигантском здании не наблюдалось никаких признаков чрезвычайного события. Актовый зал был закрыт. Необъявленный вечер поэзии должен был пройти в университетском Клубе. Все триста мест были заняты активистами и отличниками с разных факультетов. Большинство из них жили в маленьких отдельных комнатах с душем, что считалось по тем временам невероятным комфортом. Народ, стало быть, был хорошо помытый, о чем свидетельствовал низкий уровень запаха пота, что было молчаливо отмечено как семейством Новотканных, так и поэтом. Последний все-таки не удержался и шепнул невесте, что даже в парижском зале Мютюалите душок бывает покрепче. Стоял сдержанный гул, свидетельствующий об изрядном возбуждении: не каждый день здесь на сцену поднимались такие героические, влекущие молодежь фигуры.
Гул затих, едва лишь герой поднялся на подмостки, воцарилась стопроцентная тишина, свидетельствующая о стопроцентном возбуждении, словно в ожидании взрыва. Вечер открыл декан журфака профессор Январь Заглусский. Он представил гостя как выдающегося поэта и журналиста, перечислил его награды и титулы, прочитал отрывки из хвалебной критики, включая даже ту самую ключевую статью из «Красной звезды» 1944 года, «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались (поэтическая эпопея коммуниста Смельчакова)». Герой встал, поклонился и вдруг… ах!.. снял пиджак и повесил его на спинку стула. В зале вспыхнуло: прям как Маяковский! Неужто времена ЛЕФа возвращаются?! Свитер тонкой шотландской шерсти плотно облегал разворот его плеч. Глику вдруг обожгло: обязательно повисну на этих плечах! Это мои плечи! Ариадна перепутала очки, нацепила что-то не то на свой греческий нос. Фигура Кирилла не приблизилась, а отдалилась, показалось, что время скакнуло назад и он мальчишкой стоит один где-то в аллее Петровского парка. А он силен, подумал Ксаверий. Ей-ей, я ее понимаю, ей-ей! Фаддей и Нюра, смышленая пара, быстро переглянулись: раз снял пинжачок – значит, может себе позволить.
Сначала он прочел кое-что по злободневной гражданской теме. Пентагон был его главный враг, зловещий пятиугольный ромбоид. Однажды его там задержала местная, из Пентагон-сити, полиция. Не понравилась, видите ли, манера езды на наемном автомобиле. Приказали дуть в трубку, сковали запястья. В участке посадили под портретом своего президента с псевдоаптекарской внешностью. Милитаристская провокация развивалась в полную силу. Выворачивали карманы, рылись в портфеле, засыпали градом непонятных угроз. Как борец за мир он отвечал на все одной фразой: «Пис би уиз ю!» Фараоны грубо хохотали, «олсоу уиз ю», кривляясь, пожимали ему руку, ёрнически осеняли себя крестом. Браслетки все-таки сняли. И вот тогда он встал и произнес четыре слова: «Совьет Юнион, Москоу, Сталин!» Узы мигом распались.
- Вы, фараоны угрюмых ристалищ!
- Ты, бомбоносный, атомный Пентагон!
- Знайте, великое слово – Сталин
- реет над маршем
- наших
- миролюбивых
- колонн!
Публика аккуратно поаплодировала в предвкушении дальнейших, лирических строф, ради которых, собственно, все и пришли. Кирилл подошел ближе к краю сцены и стал оттуда читать стихи из фронтовых тетрадей, среди которых были и уже известные читателям этой книги «Высадка в Керчи» и «Надежда парашютиста». Потом он подтащил к краю стул с пиджаком, уселся в непринужденной, нога на ногу, позе и приступил к откровениям из «Дневника моего друга». Глика с первого ряда оглянулась на зал и сразу увидела там зачарованные лица смельчаковок, что, не будучи ни отличницами, ни активистками, умудрились пробраться в ряды избранных. Теперь уже каждое стихотворение завершалось каким-то общим вздохом потрясенного тихой лирикой, с ее пресловутой смельчаковской «чувственностью», молодого народа. Теперь уже Ариадна оглядывалась на зал. «Надеюсь, он не будет читать „Снова Испанию“, – прошептала она на ухо Глике.
«Вторая, еще не завершенная, а потому и ненапечатанная книга „Дневников моего друга“ называется „Снова Испания“, – сказал Кирилл. – Вот несколько строф из этого цикла».
Глика сжала запястье матери.
- Ты извертелся на перине.
- Кузнецкий спит, гудит пурга,
- Ну почему ты не отринешь
- Кастилию и Арагон?
- Звучит «Фанданго» Боккерини.
- Заснуть! Но не смыкаешь вежды.
- Забыть! Но даже через транс
- Она идет, Звезда-Надежда.
- Иль по-французски Эсперанс?
- Увы, тебя не сдержат вожжи.
«Что за странные стихи», – пробормотал академик.
«Ксаверий, молчи!» – шикнула на него Ариадна.
Глика закусила губы. Ее вдруг поразила мысль, что она, вечная невеста вечного жениха, полностью отсутствует среди его лирических героинь.
По смельчаковкам прошло рыдание. Зал волновался. Профессорско-преподавательский состав переглядывался и шептался. Заглусский довольно громко произнес: «Может быть, перейдем к вопросам и ответам?» Вдруг молодой бас прогудел: «Читай дальше, Кирилл!» Кто-то оглушительно захлопал. Зал подхватил. Поэт встал со стула, накинул на плечи свой болотистого цвета пиджак с накладными карманами. Фотограф факультетской газеты «Журфаковец» зажег свою лампу. В ее свете фигура на сцене приобрела слегка монументальные черты. Поэт улыбнулся и достал из нагрудного кармана потрепанный блокнот.
«А теперь, друзья, и особенно вы, мои молодые друзья, я хочу познакомить вас с фрагментами одной экспериментальной работы. Много лет назад, еще до войны, будучи студентом ИФЛИ, я был увлечен древнегреческой мифологией, особенно эпосом Тезея. Я стал записывать в эту книжку строки большой поэмы „Нить Ариадны“. Все это вскоре было, конечно, забыто, потому что начался другой героический эпос, в котором мы оказались не описателями и не читателями, а прямыми участниками. И вот недавно, во время переезда на другую квартиру, я стал разбирать свой довольно хаотический архив и натолкнулся на эту книжку. И вдруг сообразил, что во время войны я умудрился побывать на месте действия поэмы, то есть на острове Крит, когда я был на короткое время приписан к штабу фельдмаршала Монтгомери. Вдруг снова загудели во мне те старые песни. Я стал расшифровывать и записывать заново прежние строки. И вот появились первые результаты. Надеюсь, вы будете снисходительны к слегка запутавшемуся автору».
- Свершив немало известных деяний
- И много больше темных злодейств,
- В одном из неброских своих одеяний
- Прибыл на Крит боец Тезей.
- Бредет он, на метр выше толпы поголовья,
- Своей, неведомой никому стезей,
- А Миносу во дворце уж стучат людоловы,
- Что в городе бродит боец Тезей.
- Сюжет в мифологии не зароешь,
- Спрятав версию или две.
- Не так-то легко пребывать в героях,
- С богами будучи в тесном родстве.
- Потом он возлег в пищевой палатке,
- Зажаренного запросил полбычка,
- Вина из Фалерно для высохшей глотки
- И кости, дабы сыграть в очко.
- Царю в тот же час доложат сыскные,
- Хорош он с плебеями или плох,
- В какой манере он ест съестное
- И часто ли приподнимает полог.
- Царь посылает дочь Ариадну:
- «Проси знаменитость прибыть во дворец.
- Не тешь себя любопытством праздным
- И не трещи, дочь моя, как залетный скворец».
- Она на подходе понять сумела —
- Царская дочь была неглупа, —
- Что сердце герою дарует смело
- И шерсти овечьей отдаст клубок.
- Царская дочь, то есть почти богиня,
- В шаткой палатке герою сдалась тотчас.
- Шептала: «Ты меня не покинешь?»
- И вишнями губ ласкала железный торс.
- «Все люди проходят свои лабиринты,
- И каждого ждет свой Минотавр,
- Но знай, Тезей, на краю горизонта
- Пряду я нить из небесных отар.
- Если пойдешь ты на Минотавра
- И вступишь в запутанный, затхлый мрак,
- Держи эту нить и увидишь завтра,
- Что царству теней ты не заплатишь оброк.
- Теперь отправляйся к престолу Крита,
- А я тебе фимиам воскурю.
- Эола тут прилетит карета,
- И ты свою тайну откроешь царю».
- Темные мраморы, мерная поступь.
- Стража сзади смыкает штыки.
- Сколько храбрость свою ни пестуй,
- Жила дергается на щеке.
- И вот он предстал перед троном Кносса,
- Где чудищ скопилось не меньше ста,
- И Пасифая, узрев колосса,
- Вдруг разлепила свои уста:
- «Я знаю, что ты негодяй прожженный,
- Но, если избавишь нас от Быка,
- Куб золота дам и дочерь в жены.
- Женись и от подвигов отдыхай».
- Он отправляется дальше к цели
- Спасать афинян, что достались Быку,
- Один, словно клещ, вползающий в щели,
- Лишь только меч висит на боку.
- Вокруг кишат вульгарные твари,
- Ищет растления пьянь.
- Дико рычит в унисон с Минотавром
- Буйная, посейдоновская, океань.
- Для пересечения площади пускаюсь в бег.
- Ариадны горячий клубок под моим плащом.
- Удаляется в сторону вольный брег,
- Приближается свод лабиринта, под кирпичом.
- Толпа завывает, трусливо гоня.
- Опускаюсь, куда послали, во мрак.
- Больше никто уже не зажжет огня.
- Кремня и кресала даже не дали впрок.
- В лабиринте герой теряет глаза.
- Нужно видеть кожей, идти на слух.
- Ну а если появится прошлого полоса,
- Отгоняй эти краски, как знойных мух.
- В этом мраке есть житель, он черноту коптит.
- Ты не увидишь, как он опускает рога.
- Ты только услышишь грохот его копыт
- И, не успев помолиться, превратишься в рагу.
- Но даже если ты от него уйдешь,
- Если прянешь в сторону со щитом,
- Если в шейную жилу вонзишь ему нож,
- Не найти тебе выхода в светлый дом.
- Чу, услышал он, нарастает рев,
- Убивающий волю шум,
- Сатанинский бессмысленный бычий гнев,
- Словно персы идут на штурм.
- Я обрываю здесь свой рассказ —
- К счастью, не обрывается нить —
- В надежде, что ноги смочу росой
- И увижу твою финифть.
После выступления и прощания с умеренным количеством тостов семейство Новотканных, вместе с «женихом», решило пройтись по Аллее Корифеев. Над ними стояла апрельская, слегка морозная ночь. Ярко светились Стожары. За спинами у них высился Университет со своими огромными светящимися часами и с подсветкой фигур каменных книгочеев. Лимузин, перекатываясь белыми кругами шин, на самой малой скорости шел вровень с ними по параллельной аллее. Шофер и спецбуфетчики поглядывали из окон. Сначала шли молча. Потом Кирилл спросил:
«Ну как?»
«Ах! – воскликнула Ариадна. – Все было просто замечательно! Кирилл, ты действительно лауреат!» Блестели ее глаза, в темноте она казалась не матерью Глики, но ее немного старшей сестрой. – Ты очень вырос, Кирилл! Какие стихи! Какой верный отбор для сегодняшнего вечера! Особенно мне понравилась… – Она запнулась и продолжила с некоторым принуждением. – Особенно мне понравились стихи гражданского звучания!»
Ксаверий положил на плечо Кириллу свою тяжелую руку. Основательно нажал. «И все-таки я считаю, что „Нить“ была лишней. Это слишком, ну, сложно для студенческой аудитории. Ты не находишь?»
Кирилл что-то промычал, стараясь освободиться из-под весомой руки. Глика молчала, кончик носа у нее слегка дрожал, на нем чуть-чуть поблескивала крохотная капля. Он взял ее под руку.
«А ты что молчишь, Гликерия Ксаверьевна?»
«Ах! – сказала она, то ли пародируя, то ли просто повторяя маменьку. – Вы просто всех ошеломили! Никто такой раскованности от вас не ждал. Ваши поклонницы с нашего курса просто отпадали в полуобмороке».
Кирилл растерялся. «С каких это пор… Признаться, не понимаю причины… Что это ты вдруг перешла на „вы“? Дай-ка я лучше вытру твой столь вдохновляющий нос!»
«Оставьте, оставьте! – вскричала она, увиливая от платка. – Что это за панибратство?»
Делая вид, что все переходит к шуткам, они погрузились в ЗИСы, и быстро промчались по Фрунзенской набережной, где к тому времени уже выросли добротные жилые дома, мимо Министерства обороны, мимо ресторана «Поплавок», мимо двух таинственных дипломатических клубов, американского и французского, мимо законсервированной стройплощадки Дворца Советов, потом по Кремлевской набережной, потом мимо Зарядья и Артиллерийской академии, пока в полный рост не возник перед ними их великолепный высотный чертог; и тут подъехали к центральному входу, где и выгрузились.
«Девушки, вы поднимайтесь наверх, а мы с Кирюшей немного погуляем», – вдруг распорядился Ксаверий Ксаверьевич. Жена и дочь знали, что, когда он говорит таким тоном – что случалось крайне редко – лучше не возражать. Кирилл этого не знал.
«В чем дело, товарищ генерал?» – спросил он.
Ксаверий отогнал вновь мелькнувшее желание дать жениху по шапке, или, вернее, по загривку, да так, чтобы тот слегка сплющился.
«Дело в том, мой друг, что твоя античная поэма представляется мне очень опасной».
«Опасной для юношества?» – делано рассмеялся Кирилл.
«Да нет, для автора», – суховато уточнил академик.
«Для автора мифа или для версификатора?» – с еще большей искусственностью хохотнул поэт. Он вдруг почувствовал слабость в ногах.
«Перестань ёрничать! – оборвал его Ксаверий. – Ты, кажется, всерьез вообразил себя гражданином утопической республики, о которой ты постоянно поешь канцоны нашей девчонке. А между тем мы живем в реальном мире, в середине двадцатого века! Прошло всего лишь шесть лет после Постановления ЦК о журналах „Звезда“ и „Ленинград“. Всего лишь семь лет с конца войны. Может быть, кому-то в вашем Союзе писателей кажется, что подходит время поблажек, однако никто не отменял борьбы против космополитизма, за наше национальное достоинство. Мы собираемся нести свет, очищать горизонт, а ты в этой поэме пишешь о мраке. Твой герой идет в полном мраке, а в глубине этого мрака его ждет сгусток мрака, который убивает всех, кто идет по лабиринту. Ты что, вот пишешь так свои вирши, снабжаешь их диковинными рифмами и не отдаешь себе отчета, что такое этот мрак, кто такой этот Минотавр, этот сгусток мрака?»
«Ну и разгулялось у тебя воображение, Ксава, – пробормотал Кирилл. – Послушай, давай присядем, у меня от твоей зловещей трактовки поэмы, ей-ей, задрожали коленки».
«Именно так будут трактовать ее те, кому полагается это делать. Если, конечно, тебе удастся ее напечатать, – сказал Ксаверий. – А если не напечатаешь, но будешь читать на публике, ее будут трактовать те, кому полагается заниматься другими делами».
Они сидели на длинной скамье недалеко от центрального подъезда. У дверей там стояли шофер Кулачков и спецбуфетовцы Нюра и Фаддей. Охрана засекреченного ученого ни на минуту не прекращалась. Проходила и обычная жизнь. На другом конце скамьи две пожилых дамы в каракулевых манто вместе со своими болонками рассматривали фотокарточки и весело хохотали, что твои молодухи. Мимо скамьи с пинчером на поводке прошел рослый юнец в чрезвычайно узких брюках и с большим, словно проволочным, начесом надо лбом. Он поклонился: «Добрый вечер, Ксаверий Ксаверьевич». Новотканный кивнул ему в ответ. «Кто это?» – спросил Кирилл. У него почему-то улучшилось настроение при виде юного стиляги с пинчером. «Это сын моего коллеги, академика Дондерона», – ответил Ксаверий.
«Послушай, Ксавочка. – Кирилл впервые в жизни назвал его так, как иногда, развеселившись, дразнили могучего кубанца Ариадна и Глика. Назвав его так, тут же пожалел об этом, поймав сумрачный, будто угрожающий взгляд. – Я очень тебе благодарен за твою трактовку и даже весьма польщен, что мое версификаторство разбудило такое трагическое воображение. В конце концов миф всегда содержит в себе и трагедию, и катарсис. Почему, однако, мы не можем осветить всю картину красками светлого исхода? Да, лабиринт – это мрак, да, в этом мраке есть сгусток мрака, но почему не представить себе, что мрак – это угроза новой войны, нависшей над миром, а сгусток мрака – это не что иное, как Пентагон? Тезей бесстрашно идет навстречу этому сгустку, а нить Ариадны – это то, что соединяет его с жизнью, с любовью, со светлым горизонтом, со звоном финифти в конце концов. Почему не представить себе, что Тезей – это ты, Ксаверий Новотканный, великий ученый, призванный защитить мир света и добра?»
Академик расхохотался столь громогласно, бурно и неудержимо, что все присутствующие при этой мизансцене – и дамы в каракуле, и их болонки, и Юрочка Дондерон, и его пинчер, и охрана – обернулись. Он хохотал не менее трех минут, даже прослезился, а потом взял из рук собеседника платок, которым тот пытался ухватить нос Глики, и вытер им свое лицо. «Ну и хитер ты, Кирюха! Теперь я понимаю секрет твоих успехов! Каков хитрец!»
Кирилл молчал. Медлительными движениями он достал из кармана плаща коробку албанских сигарет, зажег свой фронтовой источник огня, с наслаждением затянулся, откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза.
Боевики мира
Утром его вызвали к Маленкову. Отгоняя от себя мрачные мысли, он быстро побрился, ублаготворил подмышки отечественным одеколоном «Шипр» («Данхилл» может вызвать недоуменное принюхивание), вытащил из шкафа серый, шитый в Военторге костюм, в который обычно облачался для походов в инстанции. Мрачные мысли все же возвращались. Неужели Ксаверий прав? Неужели «Нить Ариадны» действительно так опасна? Неужели второе лицо в государстве получило сигнал уже на следующий день после легкомысленного прочтения? Неужели второму лицу в государстве больше делать нечего, как только бить по башке поэта, пусть он даже семижды лауреат Сталинской премии и депутат Верховного Совета?
Если это так, значит, я вхожу, как Тезей в лабиринт к Минотавру, с той лишь разницей, что у меня нет ни меча, ни клубка Ариадны.
Впрочем, кто осмелится меня вот прямо так столкнуть под землю? Что же, Маленков не в курсе того, что я иногда по ночам беседую с первым и, собственно говоря, единственным сверхчеловеческим человеком государства? Так или иначе я иду вперед, как Тезей. Пусть «жила дергается на щеке», но лучше бы она не дергалась. Скажу ему то, что сказал вчера Ксаве, о Пентагоне и об угрозе новой войны. Не дрожать, не опускать головы. Ради Глики, что может стать моей женой. А может и не стать моей женой, но останется вечной невестой.
В секретариате его даже не заставили ждать, сразу провели в кабинет предсовмина. Маленков сидел за своим столом, заплывшей своей физиономией и круглыми очертаниями похожий на вождя тропического острова Туамоту. Большевистский френч был сильно натянут на животе и слегка засален. Жестом пухлой ладони он отослал всех и показал Смельчакову на кресло.
«Извините, товарищ Смельчаков, что так внезапно отрываю вас от творческой работы, – произнес он своим бесцветным голосом. Желтоватые глаза его не выражали никаких чувств, не было в них и только что произнесенных извинений, не говоря уже о странной сталинской иронии, которая постоянно мерцала в глазах вождя. – У нас тут, понимаете ли, произошло чэпэ. Отправляем сегодня в Париж на сессию Всемирного совета мира очень важную писательскую делегацию. И вот в последний день недуг поразил главу делегации, Александра Александровича Фадеева. М-дас, не в первый раз он нас так подводит. Словом, товарищ Смельчаков, лучшей кандидатурой на роль главы делегации, чем вы, мы сейчас не располагаем».
Это не его фраза, думал потрясенный Кирилл. Он не так говорит. Он повторяет фразу другого человека. Уж не моего ли телефонного собутыльника?
«Кто же входит в эту делегацию, Георгий Максимилианович?» – спросил он.
«Кроме вас, в ней четверо: Симонов, Твардовский, Эренбург и Сурков».
«Позвольте, Георгий Максимилианович, но как я могу быть руководителем таких людей? Ведь они признанные лидеры. Моя позиция в движении за мир гораздо скромнее».
«Не нужно чрезмерно скромничать, товарищ Смельчаков. Вы человек очень большого потенциала. То, что вы уже сделали для борьбы за мир, говорит само за себя. Партия знает вас как предельно преданного бойца».
Как Тезея, уточнил для себя Кирилл. Вождь Туамоту опять повторяет чужие слова. Скорее всего, вождя России. Повторяет, однако, без всякого аппетита.
«В прошлом вас несколько недооценивали, – продолжил Маленков. – Мой предшественник однажды выступил против вашей кандидатуры. – Он заглянул в какую-то лежащую перед ним папочку. – Он сказал, вот дословно: „Товарищ Смельчаков, к сожалению, злоупотребляет алкоголем“. – (Кажется, промелькнула чуточка аппетита – подумал Кирилл). – Однако по нашим данным, – предсовмина перевернул страницу, – это не соответствует действительности».
Возникла пауза. Они смотрели друг на друга. У Маленкова моргнуло правое веко. Человеческая жизнь слишком коротка для людей тотальной власти, подумал Кирилл. Веко снова моргнуло. Или у него тик, или он мне подмигивает.
«Ваша кандидатура утверждена товарищем Сталиным», – наконец произнес Маленков.
«Когда мне нужно ехать?» – спросил Смельчаков.
«Вы едете вместе со всеми. Кажется, сегодня вечером. Обо всех деталях с вами поговорят наши товарищи на третьем этаже. Желаю вам успеха в вашей благородной миссии».
На третьем этаже его ждали Поликарпов из отдела культуры ЦК и Кобулов, помощник Берии. Оказалось, что все члены делегации уже прошли собеседования. В настоящее время они едут в аэропорт. Если он успеет, то полетит вместе со всеми на рейсовом. Если нет, будет отправлен на самолете посла. Паспорт готов, вот получите. Здесь небольшая часть вашего денежного содержания. Основные суммы получите в посольстве.
«На сессии ожидаются очень значительные фигуры, – проскрипел древесноликий Поликарпов. – Ян Дрда, Халдор Лакснесс, Пабло Неруда. Не исключено, что появится даже Хидальго Хидальгес».
«Это еще кто такой?» – поинтересовался новоявленный глава. «Как, вы не знаете Хидальгеса? Вот вам книжка, Кирилл Илларионович. Почитайте в полете. Пламенная душа».
«Кстати, будьте поосторожней со славянами, – посоветовал одутловато недобритый Кобулов. „Почему „кстати“?“ – подумал Кирилл. – Кстати, по нашим раскладкам, Тито задумал массированный десант своей агентуры в Париж. – (Похоже, что он каждую фразу начинает со слова „кстати“, но произносит, как „кэсэтати“.) – Кэсэтати, Смельчаков, вам на фронте или в мирное время никогда не встречался некий Штурман Эштерхази?»
Кирилл не удержался от смеха, вспомнив тигренка. «Смеюсь потому, Амаяк Захарович, что это имя в прошлом мелькало в роли героя анекдотов. Что-то вроде барона Мюнхгаузена. Правда, уже много лет ничего о нем не слышал».
«Было бы хорошо, Смельчаков, если бы вы рассказали пару-другую таких анекдотов в кулуарах конференции, так, кэсэтати. Особенно если с поляками будете обмениваться юмором. Есть предположение, что этот ваш Мюнхгаузен курсирует туда-сюда с чемоданами литературы».
В таком духе жевали всяческий сыскной вздор еще минут тридцать. Кирилл кивал, подхохатывал, демонстрируя относительную независимость главного фаворита, а сам все думал о том, что людям тотальной власти явно не хватает человеческой жизни, чтобы воплотить свою бредовину в реальность. Наконец попрощались. На сборы ему было дано два часа.
Он помчался в чертог. Нужно успеть перехватить Глику, чтобы стереть всю двусмысленность вчерашнего вечера. Она явно ревнует меня к моим лирическим героиням. Надо успеть ей сказать, что все это было в прошлом, что все это было в предвосхищении главной встречи, что новый цикл будет посвящен их вечной любви и тэ дэ, и тэ пэ. Дверь в квартиру Новотканных ему открыла огорченная Нюра. Оказалось, что сегодня все пренебрегли ее хрустящими блинчиками. Молчали за кофием, дулись друг на друга, а потом все разъехались. Он быстро накатал огромными буквами прощальное послание: «Срочно вылетаю с делегацией в Париж, позвоню оттуда, всех люблю, тебя больше всех, твой ВЖ».
По дороге во «Внуково» в цэковской машине он стал вспоминать того, кому, вне всякого сомнения, он был обязан этим новым назначением. Через несколько дней после переезда в высотку, как и тогда на Кузнецком, около трех часов ночи протрещал кремлевский телефонный звонок. Голос, который нельзя было спутать ни с чьим другим, произнес:
«Кирилл, звоню тебе узнать, как, доволен ты новой квартирой?»
«Не то слово, Иосиф-батоно! Просто счастлив», – ответил он, стараясь придать своему сонному голосу некий звенящий колорит.
Сталин удовлетворенно хмыкнул. Потом чем-то тихонько застучал: очевидно, выколачивал трубку. Потом спросил: «Греми» там нашел?»
«Конечно, нашел. Наслаждаюсь, Иосиф-батоно. Бьет любую французскую марку, знаете ли, не говоря уже про „Арарат“. Какой букет, какой благостный жар проходит внутрь! Как будто чья-то дружеская рука проходит внутрь. Наверно, ваша, Иосиф-батоно».
«Почему такая формальность, Кирилл?»
«Не понял, Иосиф-батоно».
«Послушай, Кирилл, тебе хмельноватый друг звонит среди ночи. Не нужно всяких там „вы“. Давай со всякими там „ты“.
«Теперь понял тебя, Иосиф».
«Давай наливай себе, Кирилл! Сколько граммов себе наливаешь?»
«Граммов сто пятьдесят, Иосиф».
«Твое здоровье, Кирилл».
«Твое здоровье, Иосиф».
Говорят, что на Западе есть секс по телефону, подумал Кирилл, а тут вот мы с корифеем всех времен и народов надираемся по телефону. Он не раз признавался себе, что любит вождя с полной искренностью, проще – он его боготворит. Вместе со всеми миллионами он творит из него Бога. И когда Бог будет полностью сотворен, монстр уйдет и возникнет новая религия. Пока что мы с ним надираемся по телефону. Ну как тут обойтись без легкой иронии?
«Как прошло, Кирилл?»
«Птичкой пролетело, Иосиф!»
«Надеюсь, ты не залпами пьешь „Греми“, как все эти наши солдафоны?»
«Иосиф, как мои родители пили „Мартель“, так и я пью несравненный „Греми“. Знаешь, они были людьми той культуры…»
«Кирилл, я все знаю о твоих родителях. Разве ты не знал, что это именно о тебе кем-то была сказана фраза „сын за отца не ответчик“? Скажи мне лучше, ты своими соседями доволен?»
Неужто мне и соседей по его выбору подобрали? Холодок прошел от Волги вдоль позвоночника.
«Очень доволен, Иосиф. Настоящая советская семья».
«В этом никогда не сомневался. И дочкой их Гликерией, как я понимаю, доволен, Кирилл?»
«Ах, Иосиф, Глика – это просто символ нашей молодежи. Иногда мне кажется, что она не ходит, а парит, как радужная дева социализма».
«Неплохо сказано, Кирилл, клянусь нашим Кавказом, ярко сказано. Только ты не очень-то увлекайся символизмом. Вот что я тебе скажу: эта девушка должна стать цветущей матерью Новой фазы».
«Новой фазы, Иосиф?»
«Вот именно, Кирилл. Положи ее к себе в постель и делай с ней детей. Сразу увидишь, что началась Новая фаза нашего счастья».
Кирилл задохнулся, запечатал себе ладонью рот. Неужели он знает даже о нашем завете?
«Ты что молчишь, Кирилл? Может, что-нибудь не так? Может быть, ты что-нибудь неверное замечаешь в этой семье, какие-нибудь признаки титоизма?»
«Что это такое, Иосиф? Я такого термина еще не слышал».
«Налей себе еще сто пятьдесят, Кирилл. Я тебе что-то важное скажу».
«А ты себе уже налил, Иосиф?»
«Как приятно с тобой пить, Кирилл! Ни с кем мне так не приятно пить, как с тобой. Даже с Шостаковичем не так приятно, как с тобой. Итак, я поднимаю свою дозу, и ты поднимай свою дозу! Пьем! А теперь заедаем ломтиком лимона. У тебя там есть лимон?»
Кирилл, не отрывая трубки от уха, побежал на кухню. Хватит ли шнура, чтобы добраться до лимона? Лимона не нашел, откусил от огурца.
«Заел ломтиком лимона, Иосиф».
«Не понимаю, почему вы, русские, так любите огурцы? В них одна вода. Ладно, Кирилл, теперь слушай государственную тайну. В последнее время я повсюду вижу южных славян, Кирилл».
«Как это понять, Иосиф?»
«Как можно этого не понять, Кирилл? Тито повсюду насаждает свою агентуру, смертоносных гайдуков. Я вижу их даже в моей охране. Даже на секретных заводах, глубоко под землей. Придешь в Большой театр, на балет, вдруг в зале по меньшей мере десяток рож с бакенбардами оборачиваются на ложу и смотрят на тебя с гайдучьим вниманием. Уничтожаешь обнаруженных, и тут же появляются другие, в еще большем числе. Он не жалеет людей, кровавая собака!»
«Я просто ошарашен, Иосиф. Ты уничтожаешь этих гайдуков, и тут же появляются новые?»
«Они готовят штурм Кремля, Кирилл. Или Ближней дачи. Ты ведь был у меня на даче, правда, Кирилл Смельчаков?»
«Нет, Иосиф, я никогда не был у тебя на Ближней даче».
«Это плохо, что ты не был в моих жилых местах, Кирилл Смельчаков. Я распоряжался, говорил Власику, чтобы тебя привезли, но ты не появлялся. Я подумал, что ты не хочешь меня навестить. Не хочешь сближаться. Подумал, он ездит за границу, этот Кирилл Смельчаков, читает там всякую гадость про меня. Ты знаешь, там меня диктатором называют. Почему молчишь?»
«Я просто потрясен, Иосиф. Ты для меня не диктатор, а любимый вождь, как для всего советского народа».
«Спасибо тебе, Кирилл Смельчаков. Товарищ Сталин – не диктатор. Товарищ Сталин – вождь. Ты всегда правильное слово находишь! Ты обязательно должен приехать ко мне на Ближнюю дачу. Увидишь собственными глазами. Там, знаешь, между кинозалом и моим кабинетом есть такая идиотская система коридоров, направо, налево, вниз, вверх. Настоящий лабиринт. И на каждом углу стоит энкавэдэшник с оружием. Понимаешь, Кирилл, я им не доверяю. Иду по коридору и думаю: откуда выстрел придет, сзади, или спереди, или сбоку? Киров вот тоже не знал, откуда троцкист налетит. Ты должен приехать и сам увидеть этот лабиринт, Кирилл».
«Знаешь, Иосиф, меня тоже как поэта тревожит тема лабиринта. Я был в знаменитом критском лабиринте, где стоял Минотавр и шел Тезей».
«Значит, ты понимаешь меня, Кирилл! Значит, если титоисты пойдут на штурм, ты примчишься, чтобы возглавить смельчаковцев, нашу последнюю линию обороны?»
«Что ты имеешь в виду, говоря „смельчаковцы“, Иосиф?»
«А вот этого пока я даже тебе не скажу, товарищ Кирилл Смельчаков».
Приблизительно в этом месте диалог прекратился. Кирилл погасил лампу и долго лежал в темноте. Что происходит с ним, с этим не-диктатором, с этим вождем? Глухие слухи бродят по Москве о каких-то яростных вспышках, о страшных приказах, о том, что окружение не спешит эти приказы выполнять в промежутках между вспышками, а он о них как-то странно забывает и превращается на пару дней в доброго дедушку. В ужасе кто-нибудь произносит тот старый, еще 1927 года, бехтеревский диагноз, и после этого тот, кто произнес, почти немедленно исчезает. Что будет с Союзом Республик, думает Кирилл немного в платоновском ключе и покрывается каким-то мочевым потом, сродни тому, что появлялся, когда танки противника прорывали оборону. Он осознает, что в твердыне социализма не сформировалась еще каста царей-философов и что правит не царь, не философ, но всего лишь один-единственный больной человек; не диктатор, вождь…
Он поднялся с ложа и отдернул шторы. В ночи открылся головокружительный вид на покрытую лунным светом Москву. Темный Кремль был виден как на ладони. Светилось там только одно окно, о котором спето столько песен акынами Советского Союза. Вдруг он почувствовал чье-то присутствие у себя за спиной. Резко обернулся. Во мраке комнаты, чернея антрацитовой чернью, стоял бык Минотавр.
Во «Внукове» ему пришлось бежать через летное поле. ИЛ-14 уже раскручивал два своих пропеллера, но дверь еще была открыта. Те, кто бежал вместе с ним, особисты, погнали назад уже было отъехавший трап. Успел! Делегация, четверо знаменитых, сидела в первом ряду. Из них только Эренбург был тверез, читал «Юманите». Симонов, Сурков и Твардовский приканчивали неизвестно какую по счету бутылку «Греми». Значит, не только я отступился от «Арарата», подумал Кирилл. «Старрык! – раскрыл ему объятия Симонов. – Ты знаешь, что мы тезки? Ведь я тоже Кыррыл, только скррываю, старрык, не раскррываю скобки!» Эту «тайну» Симонов рассказывал Смельчакову уже сто раз и всегда вот в эдакой разудалой гррассирровке. Все были в превосходном настроении, а в каком еще, старрыки, можно быть настроении, вылетая из Москвы в Париж! Устаканили еще одну бутылку. Сурков читал свои столь популярные в богемных кругах столицы «ловушки».
- Стиль «баттерфляй» на водной глади
- Нам демонстрируют три девы.
- Плывут направо и налево,
- На нас задорным взглядом глядя.
Все бурно хохотали, только Эренбург улыбался тонко, толстую желтую курил сигарету «Ле бояр» и попивал коньяк маленькими глотками в манере Кирилловых родителей, о которых все знает друг Иосиф.
Потом и панславяне угомонились, и каждый остался сам по себе, в кресле с ремнем безопасности и с пакетиком для блевания на всякий случай. Самолет шел через облачный фронт, часто проваливался в «ямы». Лучшее дело в таких полетах – заснуть, либо на дне «ямы», либо над ней. Знаменитости уже подсвистывали честолюбивыми носами, включая и крохотульку здоровенного Твардовского. Кирилл в дремоте, в расплывчатом состоянии вспоминал последний, то есть третий по счету, телефонный разговор с ночным Иосифом.
«Кирилл, прости за назойливость, это Иосиф. Послушай, я хотел тебя спросить: ты в Югославии ведь, кажется, бывал? Какого ты мнения о них?»
«Прости, Иосиф, о ком?»
«О всех этих сербах, хорватах, словенцах, что ли, боснийцах, македонцах, кто там еще, а главное – о руководстве. С кем ты там встречался, назови по именам».
«Дай подумать, Иосиф».
В паузе на обдумывание Кирилл уловил какой-то странный хмычок Сталина, как будто тот был удивлен, что кто-то так запросто называет его Иосифом.
«Я там первый раз был еще корреспондентом в конце сорок третьего, на партизанских базах. Познакомился с самыми главными, с Тито, с Ранковичем, с Джиласом, с Карделем, кто еще, ах да, Моше Пиаде. Они тогда праздновали победу над четниками, собрали всех своих комкоров, веселились, пели наши песни…»
«Какие наши песни, вы запомнили?» – с неожиданной сухостью перебил Сталин.
«Ну вот например: „Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтоб было веселее!“
«Вот военщина, – усмехнулся Сталин. – Ну а в мирное время вы с ними общались?»
«В мирное время я был там с делегацией в сорок седьмом году, незадолго до того, как отношения испортились».
«Не по нашей вине», – быстро сказал Сталин.
«Конечно, не по нашей. Нашу делегацию принимали совсем на другом уровне. Тито был недосягаем. Нас принимал Коча Попович, потом председатель их Госплана Андрия Хебранг, кроме того, Сретен Жуйович, а также молодой писатель из партизан Младен Оляча…»
«Немало, немало, – пробормотал Сталин. – Ну что скажете об этих людях?»
«Трудно сказать что-нибудь определенное, Иосиф. Мне кажется им было как-то неловко принимать нас с такой прохладцей, с такой как бы неполной искренностью. Ведь еще вчера, Иосиф, они на нас равнялись».
«А почему, товарищ, вы меня так запросто называете Иосифом? – с нарастающей свирепостью вопросил Сталин. – Мы что, на брудершафт с вами пили?»
Кирилл испытал неожиданное головокружение, хотел было положить телефонную трубку, но потом, сообразив, что одно лишь неверное движение отделяет его от полной катастрофы, бросился головой вперед. «А разве не пили, Иосиф? Разве не мне ты посылал ящик „Греми“? Разве не Кириллом ты меня называешь? Разве мы не два слегка хмельноватых друга, Иосиф?»
На другом конце провода, то есть на расстоянии не более полутора километров по прямой, то есть не более нескольких минут полета на планере (вдруг вкралось – «на планере с бомбой»), там, на другом конце, послышалось что-то вроде кудахтанья.
«Смельч… Смельч… Это ты, Кирилл-дружище… Прости, что-то я зарапортовался… Весь день телефоны, курьеры… сотни курьеров, бессчетные телефоны… Ну давай нальем, генацвале! Будь здоров, герой нашего времени!»
Чокнулись через Зарядье. Сразу восстановилась близкая дружба слегка чуть-чуть хмельноватых друзей.
«Тут возникла мысль, Кирилл, слегка чуть-чуть опередить ревизиониста Тито. У нас есть некоторое преимущество. Мы знаем, что он нам готовит, а он не знает, что мы ему готовим, потому что мы пока не готовим ничего. Понимаешь? А что, если что-нибудь быстренько для него подготовить и таким образом его опередить? Что ты думаешь по этому поводу?»
«Иосиф, ведь ты знаешь, что я всего лишь поэт. Вряд ли я могу быть экспертом в большой политике».
«Послушай, Кирилл, насколько я знаю, ты не только поэт, ты еще и солдат, не так ли?»
«Значит, ты знаешь, Иосиф, что я состою в резерве ГРУ?»
«Как я могу этого не знать, Кирилл? Надеюсь, ты понимаешь, что я не могу этого не знать. Вот именно поэтому и обращаюсь к тебе как к своему самому надежному резерву».
«Слушаю тебя, Иосиф».
«Вот, Кирилл, возникла такая неплохая, как мне кажется, идея атаковать остров Бриони, когда там соберется вся клика выродков революции. Согласен ты возглавить передовой отряд смельчаковцев?»
Сейчас, качаясь вместе с самолетом вверх и вниз, Кирилл отчетливо вспомнил эти слова Сталина. В то же время он подумал: а не звучат ли они во сне? – и понял, что засыпает. Было ли так, что я строевым шагом прошагал по проходу между кресел в хвост самолета, к туалету, то есть в задний проход? Я открываю дверцу чуланчика и вижу там сидящего на унитазе Иосифа. Вижу это во сне или вспоминаю? «Готов выполнить любой приказ родины, Иосиф! – сказал я тогда по телефону. – Как я могу не выполнить приказ Верховного Главкома, Иосиф?» По телефону или во сне? И добавляю: «Прошу, однако, посвятить меня в верховную цель экспедиции». Кажется, не совсем так было сказано по телефону, частично этот запрос произносится во сне. Сталин поднимает указательный палец, похожий на корень женьшень. «Устранив из биологической жизни Тито и его биологическую клику, мы займемся грандиозной задачей переселения народов. Хорватов отправим в Казахстан; уверен, заживут привольно на просторах. Сербов будет приветствовать Украина золотая. Татары казанские потеснят боснийцев. Народам вредно засиживаться на одном месте, Кирилл. Тысячелетие просидел – и достаточно. Отправляйтесь к новым горизонтам! Теряйте слабых, укрепляйтесь сильными! На политической карте мира возникнет новая формация рабочих и крестьян!»
Этот Иосиф, думал Кирилл, да ведь это настоящий темный демиург человечества; демиург, который метит в боги. Теперь они вдвоем вроде бы сидели на крыле самолета, подлетающего сквозь тяжелый циклон к Парижу. «Это что же, Иосиф, продолжение перманентной революции иудушки Троцкого?» – осторожно спросил Кирилл. Сталин заливисто рассмеялся, сущий ленинец. «Это у него она называлась перманентной завитушкой, а мы назовем ее победоносной!»