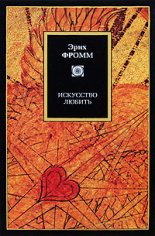Москва Ква-Ква Аксенов Василий

«Доннерветтер! – воскликнул спаситель юношеской чести, а может быть, и всей жизни Юрки (он сразу вспомнил имя) Дондерона. – Послушай, у тебя из штанов кровь течет. Нет ли тут чего-нибудь, чтобы затампонировать повреждение?»
Юрка показал ему на железную тумбу с ящичками. Клонкрускратов обшмонал ящички и бросил пацану искомое – кусок вполне сносной, в смысле санитарии, пакли. Потом, переступая через полутрупы, пошел к задней, запертой на ключ двери и открыл ее. Там светился под луной снежный склон Швивой горки. Клонкрускратов деловито подтащил за ноги бессмысленно хрипящих Фрухта, Жадного и Никанорыча и стал ногами сталкивать их под уклон. Полутрупы покатились в дальний угол зоны, к помойке, и остались там лежать. После этого шофер начальника – а Юра сразу узнал его по росту и по экстравагантной нерусской растительности – запер заднюю дверь, а ключ положил в карман.
Юнец был уже на ногах. «Жалко, что вы их выбросили, я бы их убил».
«Всех до одного?» – поинтересовался Олег Эрастович.
«Всех троих».
«Так, понятно. Теперь слушай меня внимательно. Если ты будешь рыпаться, не доживешь и до утра. Сейчас я погашу весь свет и закрою тебя снаружи. Выруби также приемник, которого нет. Это что у тебя, Танжер? Тем более. Танжера сегодня в мире нет. Не подавай признаков жизни до моего прихода».
Он сделал все, как сказал, и неторопливо пошел в административный сектор, размещавшийся в уцелевшем притворе храма. Там, в красном уголке, полковник Лицевратов материл свою бухгалтерию, которая никак не могла подвести баланс в годовом финансовом отчете. Клонкрускратов с порога ему кивнул и потер ладонями уши, как будто бы с мороза, хотя на дворе было не больше пяти градусов минус. Лицевратов всем приказал оставаться на своих местах и прошел с шофером в свой кабинет. Там он включил радиоточку – шла трансляция патриотического концерта, посвященного приближающемуся XIX съезду, – и спросил, что случилось. Эпизод в «инструменталке» был ему рассказан во всех доступных деталях. Лицевратов, мужик примерно одного возраста с Клонкрустратовым, бывший фронтовой смершевец, что осталось у него на лице в виде спорадического тика, известного как «страх плевка», в данном случае только устало пожал плечами. Да разве Штурман раньше не слышал, как малолеток пускают по шоколадному цеху? Валера, ответил ему Клонкрустратов, вот этот случай ты должен взять на себя, просто ради нашей дружбы. Лицевратов кивнул, достал из письменного стола бутылку коллекционного «Еревана», они выпили и стали обсуждать проблему заядлого «плевела». Прежде всего надо его отсечь от никаноровских. А лучше всего вообще от всех блатных. Вывести его за черту лагеря. Почему бы тебе не отправить его на башню? Послушай, а это идея! Ведь там, на башне, у нас особый персонал, технари высшего полета плюс радиотехническая интеллигенция. Слушай, Штурман, котелок у тебя еще варит не хуже, чем в Боснии когда-то варил! Ну вот видишь, Валера, все, оказывается, в наших руках!
Тут вдруг полковник замолчал и задумался. Пару раз за несколько минут лицо его передернулось в «страхе плевка». В чем дело, друг? А дело, оказывается, было в том, что сверхсекретные работы в башне приближались к концу, а по их завершении может последовать спецраспоряжение вроде того, что было применено после строительства куйбышевского бункера. Мда, мы уже забыли о тех временах. О чем ты говоришь, нынешние времена в этом смысле ничем не отличаются от прежних. Ну давай не будем надолго загадывать. Знаешь что, давай мы отправим пацана на башню временно, ну, скажем, на три месяца как циклевщика полов без допуска к приборам. Ты за это время раскассируешь никаноровскую капеллу и вернешь парня в госпиталь с воспалением, скажем, легких. Ну, Штурман, ты меня, как всегда, поражаешь: у тебя каждая идея сразу выходит на другую, седлает ее и погоняет!
Развеселившись, друзья еще минут десять поереванились, вспоминая прошлое. Между прочим, вспомнили и ту девчонку, которая в 1944-м появилась в партизанском лагере, то есть ту, которую сейчас называют заслуженной артисткой СССР Кристиной Горской. Ты еще заходишь к ней, спросил Лицевратов. Ты у кого спрашиваешь, поинтересовался друг. У пропавшего без вести Моккинакки? Или у испарившегося вместе с войной Штурмана Эштерхази? Или, может быть, у своего шофера Олега Клонкрустратова? Полковник усмехнулся с некоторой победоносностью. А я вот захаживаю. Удивительная женщина! Каждая встреча с ней – это веха в моей жизни! А уж этот ее тигренок, названный в честь спецназовской легенды, весом в пять пудов; не поверишь, он ластится ко мне, как кот! Узнав от шофера, что Штурманочек и Юркин Дюк большие друзья, начлаг воспылал к своему узнику еще большим сочувствием. Слушай, Штурман, мы его после башни сактируем как туберкулезника!
После разговора с другом-начальником Клонкрустратов отправился назад, в «инструменталку». В обширном цеху было темно, только сильный луч луны падал через одно окошко, и в этом луче на полу Юрка Дондерон заклеивал хлебным мякишем какой-то самодельный конверт. Олег сел в тени рядом с ним.
«Через полчаса за тобой придет сержант и проводит с вещами на башню высотки. Там будешь и жить и работать по циклевке полов. Учти, это объект самой высшей секретности. Будь осторожен, никому не рассказывай о нашей встрече».
«Спасибо вам за все, Олег! – очень твердым, поистине мужским, тоном сказал юнец. – Никогда не забуду того, что вы для меня сделали. У меня к вам вопрос. Случайно вы не знаете в этом проклятом доме такую девушку, Глику Новотканную? Не могли бы вы передать ей от меня письмо?»
Шофер начлага, не говоря ни слова, положил письмо в карман своего кожана. Джентльмены, как известно, чужих писем не читают, но мы, пожалуй, уже можем предать его гласности, поскольку знаем, что джентльмен передал его в руки адресату.
Дорогая Глика, darling!
Я нахожусь совсем недалеко от тебя, хотя и сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидимся. Помнишь ли ты песню Фрэнка Синатры «Over and Over»? Настроение примерно такое, на разрыв души. Вокруг меня монстры, посягающие на мою честь, but I am going to fight for that to the bitter end. Fortunetely, there are some miracles in this nusty world, и вот сегодня такое чудо свершилось: я нашел сильного друга.
Я часто вижу в мечтах картинку. Мы трое, ты, я и Такович, сидим у меня, курим, говорим о новом стиле bibop и свингуем, свингуем, свингуем up to the Heaven. Ну а потом Такович как истинный друг оставляет нас вдвоем. Надеюсь, что он избежал моей участи. Если увидишь его, передай ему my kiss and hug.
Кстати, о Небесах. Я видел дважды, как ты пытаешься выйти в пространство. Молю тебя, перестань! Don’t fly away!
Yours ever,
Ю. Д.
Бал Ариадны
В январе 1953-го, в ночь под Старый Новый, то есть юлианский, год двери дома Новотканных были открыты для высшего общества страны. Даже работники могущественной организации Спецбуфета никогда не видели такого блестящего скопления гостей. Подъезжали академики и генералы, титаны охранительной системы, гиганты миролюбивой дипломатии, истолкователи таинств марксизма со Старой площади, победители пространств, увенчанные гирляндами наград инженеры человеческих душ, воздвижители многоэтажного будущего, гении ведущих театров, а также важнейшего – для нас – искусства кино. И все по возможности с супругами. Никогда еще принародно не демонстрировалось превосходство нашей ювелирной системы: какие кулоны, ожерелья и браслеты, какие тиары и диадемы! И все в народном переяславском духе. Одна лишь виновница торжества Ариадна Рюрих-Новотканная была без единого камушка. Стройная и высокая, в длинном шелковом платье с оголенными плечами, она демонстрировала то, чем горделиво обладала, без всякого дополнительного освещения. Ну что за юбилярша! К сорока годам она подходит в полном совершенстве социалистической женщины и нисколько не чурается ближайшего соседства с полнейшим воплощением социалистической юности, своей дочерью Гликерией. Напротив, все время целуются, заставляя даже слегка чуть-чуть замшелых членов Политбюро поправлять что-то в карманах.
Естественно, все гости прибывали с подарками, и в отличие от бытовавшего в государстве обычая тут же засовывать приносимое в темный угол «другой комнаты», здесь все пакеты вскрывались в присутствии дарителя и, конечно же, повергали в немедленный восторг юбиляршу, дочь ея и ея супруга, которого она к некоторому ужасу некоторых гостей называла Ксавкой и который был явно не совсем в фокусе. С подарками, увы, иной раз наблюдались и накладки. Принародная распаковка оных показала, например, наличие семи одинаковых чехословацких чисто хрустальных люстр и даже с почти идентичными инскрипциями: «Сияй, как этот хрусталь!» или «Затми этот хрусталь!» – в общем, в этом роде. И все-таки несмотря на этот небольшой (Ариадна: «милый, забавный») куршлюз продолжались открытие подарков и соответственная реакция на них в присутствии дарителя, что вызвало скопление гостей еще в нижнем огромном холле Яузского чертога.
При открытии подарков в один момент произошло и нечто весьма сокровенное. Одна из более-менее скромно иллюстрированных дам, по всей вероятности, из ЦК профсоюзов, преподнесла юбилярше небольшую коробочку, обернутую в историческую бумагу с орлами и коронами. Осторожно распечатав столь редкий сверток, Ариадна увидела внутри изумительную шкатулочку с красочным портретом Ея Величества Екатерины Великой. Все-таки несмотря на все чудовищные разграбления страна еще богата бесценным антиквариатом, подумала она, и не успела она завершить свою мысль, как шкатулочка раскрылась с двумя тактами какого-то небесного менуэта. Внутри находился крохотный свиток бумаги, еще более плотной и драгоценной, чем оберточная. Раскатав этот свиток, она прочла: «Chere ami! Avec votre fils nous allons a la lumiere. Nous vous prions d…agreer nos salutations distinguees. CII». Юбилярша слегка чуть-чуть качнулась от острейшего исторического чувства. Стала выискивать глазами дарительницу-профсоюзницу и нашла ее неподалеку. В имперской позе Дама стояла, направив на нее милостивое свечение очей. Кивнув, испарилась. Ну, конечно же, это была Она! Не может же быть, что это был просто дружеский розыгрыш какой-нибудь утонченной близкой натуры вроде собственной дочери и ее жениха. К тому же они уже сделали ей чудеснейший подарок в виде очаровательного щенка-добермана, явившегося на свет после вязки дондероновского Дюка с высокопородной Кэтти, баронессой Померанской.
Жених между тем стоял в толпе приятно возбужденных гостей и разговаривал с Лаврентием Берией. В отличие от других лауреатов он не вывесил всех своих семи медалей, а ограничился значком делегата XIX съезда на лацкане скромного костюма, пошитого, между прочим, на Old Bond Street. Почувствовав взгляд Ариадны, он послал ей воздушный поцелуй.
Задумано празднество было с большим размахом: прием на 18-м этаже с открытием всех его площадей, за исключением опечатанной квартиры адмирала Моккинакки, затем переезд в закрытые для широкой публики этажи гостиницы «Москва» и там продолжение приема с переходом за общий стол и последующим балом в сопровождении привезенного из мест не столь отдаленных джаз-бэнда Эдди Рознера. Пока что упивались первоначальной фазой в высотном здании. Все казались друг другу и самим себе донельзя элегантными и светскими и, в принципе, мало отличимыми от гостей подобных сборищ в империалистических кругах, о которых никто и не думал в эти часы. Ну случались, конечно, и тут иные накладки, кто может без этого обойтись! Вот, например, Булганин Николай Иванович позволил себе хлопнуться в обморок при виде довоенной балерины Ольги Лепешинской. Те, что были в окрестностях этой малоприятной сцены, были несколько огорошены, однако увидев, что выздоравливающий на ковре государственный деятель тянется к туфельке Прекрасной Дамы геноссе Риббентропа, чтобы налить в нее массандровского шампанского, просто-напросто зааплодировали.
Некоторое число некоторых faux pas cовершил и наш собственный некоторый геноссе, крупнейший государственный деятель из братской ГДР, глава северного района рабоче-крестьянской республики Тыш Иохим Вольфгангович. Во-первых, явился одетым не по сезону в ослепительно белую пару, украшенную к тому же коллекцией монгольских и китайских орденов, что само по себе представляло некоторую дипломатическую загадку. Во-вторых, слишком долго передвигал свое тяжелое трудовое тело слишком близко от юбилярши, не давая другим подойти. В-третьих, был уже с самого начала слегка почти мертвецки чуть-чуть пьян. Забирая со спецбуфетовских подносов утонченные сандвичи сразу дюжинами, он все время повторял одну и ту же фразу, олицетворяющую одну и ту же длинную мысль:
«Варум, геноссен, мы бес-печ-но полушайте тикки-дрикки кляйне бутерброттерссс? Унзере пролетаришен зондеркомманден саслюшиствуйте бессер ессен, вилькамен нах Росток! Ариадна фон Рюрих, фарен нах хайматлянд, гнедике фрау!»
Как и некоторые другие бывшие гитлеровцы в руководстве ГДР, он был, очевидно уверен в немецком происхождении блистательной дамы социализма. Ариадна, пытаясь урезонить фрица, похлопывала того по загривку, а сама делала знаки Фаддею – немедленно в резиденцию!
Она была донельзя ободрена подарком Императрицы. Уже много недель до этого безоблачного и пока еще ничем не омраченного собрания московского высшего общества она была сама не своя. Ей казалось, что на ее семью, на всех ее любимых, на всю страну и прежде всего на Москву, на эту только сейчас зародившуюся неоплатоновскую утопию, надвигается какой-то неясный, еще не установленный, но уже подмигивающий похабным глазом, ну, скажем, Януарьевича, ужас. Однажды, с утра, ее поразила, ударила прямо под груди невероятная мысль – неизбежен атомный ужас! Взрыв может произойти в любую минуту и, возможно, в самой сердцевине, в Кремле! Она растолкала сладко похрапывающего после командировки на Новую Землю (разумеется, в компании с Нюркой) Ксаверия и спросила его в упор: возможно ли такое, грибовидное, апокалиптическое, немыслимое? Развратник, продрав похабненькие зенки, начал бурно хохотать. Конечно, возможно, если не будет укорочен этот придурковатый Курчатов в его институте на далеком Соколе. Она тут стала его щипать, хватать за разные места, слегка покусывать и неожиданно, впервые за долгие месяцы, совокупилась с ученым негодяем.
Страх между тем не отступал. Она была уверена, что эти чувства в той или иной мере испытывают все более или менее близкие к власти люди. Все живут под этим грузом, все страдают, и все скрывают этот мрак друг от друга. И вот приходит юбилей, и что же мы видим? Веселую и легкомысленную толпу вельмож, стремящихся получить максимальное совместное удовольствие от этого вечера Ариадны. Все устали от постоянного страха, и не только атомного, а – ну завершай мысль – бесконечно сталинского. Ах, если бы еще можно было во всеуслышанье сказать, что это почти античное собрание освящено Великой Екатериной!
Что касается главного ее помощника в организации праздника, Кирилла Смельчакова, то он, едва ли не в унисон с Ариадной, испытывал чувство освобождения от гнетущей тревоги, что довлела над ним все осенние месяцы и только усилилась с наступлением зимы. Атомные грибы, впрочем, не вздымались в его воображении: начнут вздыматься, все тревоги отлетят в одночасье. Гораздо больше его беспокоили промельки каких-то быстрых, словно десант, фигур, перебегающих из тени в тень по ночам на пустынных улицах, особенно в районе от Трубной до Сретенки, когда возвращаешься за рулем домой. Будто тащат что-то, какие-то зарядные ящики, что ли. Сосредоточишь взгляд, и они тут же исчезают. Иногда и днем ни с того ни с сего вдруг в глазах стали проплывать какие-то черные пятнышки, в чем-то сходные с фигурами десанта. Пошел к офтальмологу в поликлинику Минобороны, звено ШОЗ. Опытный специалист ему сказал, что пятнышки в глазах – это не что иное, как так называемые «плывуны», почти микроскопические сгущения стекловидного вещества в глазных яблоках. Они скоро пройдут, вернее, вы их перестанете замечать. А вот насчет мелькающих фигур, это, товарищ полковник, не по нашей части.
В Москве, между прочим, люди стали чаще заглядывать друг другу в глаза с каким-то странным вопросительным выражением. При полной стабильности мимики в зрачках вроде бы дергался какой-то представитель хаоса, будто бы домогался ответа: «Ну что теперь делать-то будем, братья и сестры?» В принципе, народ при полном отсутствии информации очевидно чувствовал, что надвигается пора новых и невероятных злодеяний правительства: то ли уничтожение евреев, то ли вторжение в какую-нибудь неслабую страну, то ли окончательный нажим на природу. Чувствование себя не винтиком, а мощным винтом в этой системе отнюдь не способствовало лучезарности. Чернота черноты сгущалась.
- Тезей, вздымай фашистский парус, —
- Тебе командуют рога. —
- Сожри таинственный папирус,
- Ты в нем не смыслишь ни фига!
И вдруг все изменилось в прозрачный морозный вечер юлианского Нового года. Москва-Ква-Ква под свежим снегом вновь обрела смысл и уют. Съезжаются тупые и страшные бонзы со своими немыслящими женами, и вдруг все собрание превращается в истинный карнавал. Такова магия Ариадны. Она говорит совтеткам: «Девочки, приезжайте в брильянтах!», и все начинает сверкать, как детский праздник, и тетки стараются преобразиться в девочек-телочек, и тяжеловесное мужичье начинает слегка фривольничать, жаждет надраться, но не в обычном мрачном ключе, а в легком, юмористическом, карнавальном, и даже страшный Берия начинает казаться не палачом, не вурдалаком, а просто обычным таким закавказским жуликом, смешным эротоманом.
Берию, как магнитом, тянуло к юбилярше, этому неприкосновенному сокровищу партии, но еще больше к ее дочке, несравненной и неотразимой Гликерии. Он намекнул ей, что знает о ее увлечении классической музыкой, особенно бетховенскими квартетами в исполнении довольно странной компании во главе с аккордеонистом Шостаковичем. Заметив, что она с какой-то неадекватной, понимаете ли, тревогой изменилась в лице, он стал нежнейшим и совершенно, подчеркиваем, джентльменским образом успокаивать юную прелесть, поглаживать ее по продолговатой спортивной спинке и даже слегка чуть-чуть ниже, замирая и вздыхая над вожделенной расселиной. Хотелось бы вместе с вами, душа моя, побывать в Консерватории, а потом и поужинать в компании Шостаковича, поговорить о формалистической интерпретации великого Людвига ван Бетховена, замеченного еще вождем пролетариата Лениным Владимиром Ильичем.
Вдруг он почувствовал чей-то малоприятный взгляд, повернул голову и увидел, что на него смотрит Кирилл Смельчаков, гэрэушник и любимец тиранического вождя. Глика в тот же момент исчезла. Он глянул через плечо на стоящего прямо за спиной Кобулова. Тот, набычившись, смотрел на Смельчакова и даже не заметил исчезновения девушки. Берия фальшиво улыбнулся гэрэушнику – и наверняка любовнику этой прелестной сучонки – и поманил его к себе пальцем. Смельчаков нагло усмехнулся и отвернулся к стоящему рядом с ним артисту Черкасову. Пришлось вместе с Кобуловым к ним подойти и отодвинуть в сторону Черкасова.
К таким боевикам, как Смельчаков, то есть в доску своим, члены Политбюро обычно обращались на «ты». «Давно тебя не видел, Кирилл, как живешь? Ты случайно не знаешь, кто эта девушка, которая только что от меня упорхнула?»
Смельчаков почему-то вместо ответа обратился к Кобулову: «А вы как сюда попали, Амаяк Захарович? Вас разве приглашали?»
Берия слегка дернулся, как бывает в боксе, когда пропускаешь незаконный удар по уху. «Ты что, Кирилл, рехнулся? Амаяк сюда со мной пришел, не понимаешь? Почему на вопросы не отвечаешь? Тебя про девчонку спрашивают: кто такая?»
«Эта девушка – моя невеста», – медленно и четко, как будто кретину, проартикулировал Кирилл.
«Ну вот и прекрасно! – расхохотался Берия. – Тащи ее сюда! Будем вместе веселиться!»
Кирилл придвинул свое лицо к его лицу и сказал так, чтобы никто, кроме монстра, не слышал: «Если ты, Лаврентий, еще раз притронешься к-к-к Глике, я тебя убью».
На этот раз Берия даже не моргнул. В манере тифлисского хулиганья его юности он прошипел в ухо Кириллу: «Не успеешь, гад! Через час мы с Амаяком будем сдирать с тебя шкуру».
«Этого ты не успеешь сделать, Лаврентий», – почти в той же манере отбил Кирилл и положил руку в карман.
Трудно сказать, чем бы кончился этот довольно содержательный спор. Читатель может по своему собственному темпераменту и вкусу поиграть с вариантами, мы лишь скажем, что он был прерван самым неожиданным образом. Через анфиладу комнат из кабинета Ксаверия Ксаверьевича прошел резкий звонок главного телефона страны. Жуткая эта трель была знакома лично наверняка не менее чем половине присутствующих, остальные же жили и трепетали в ожидании подключения к трели.
Ксаверий Ксаверьевич, в этот вечер разыгрывающий графа Ростова, выпал из роли и прогалопировал через анфиладу к аппарату цвета обоссанной слоновой кости. «Да, товарищ Сталин. Сердечно благодарю, товарищ Сталин. Одну минуту, товарищ Сталин». И завопил, как сирена в его синхрофазотроне перед началом разгона частиц: «Кирилл, тебя товарищ Сталин к телефону!»
В наступившей поистине гоголевской тишине Кирилл Илларионович Смельчаков, сын таинственно изчезнувшего с международной арены – впрочем, как и с внутринародной арены – специалиста по заключению многоступенчатых финансово-экономических договоров, четкими шагами мимо расступившихся гоголевских масок прошел в кабинет и, не закрывая двери, поднес трубку сначала к левому (от волнения), а потом точно – к правому уху. В другом конце огромной квартиры в этот момент из радиоточки зазвучал вальс Арама Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад». Он продолжался в течение всего последующего разговора и завершился точно по завершении оного.
Вот что вся потрясенная публика услышала словами Смельчакова вперемешку с недосягаемостью Сталина.
«Здравствуй, Иосиф. Очень рад тебя слышать, Иосиф.
Спасибо, Иосиф. Обязательно передам.
Она машет тебе рукой, Иосиф.
Да, Лаврентий тоже здесь. Он машет тебе рукой, Иосиф.
В ходе праздника, Иосиф, мы с Ариадной выпиваем «Киндзмараули».
С Лаврентием, Иосиф, мы выпиваем несравненного «Греми».
Нет, не ссоримся, Иосиф, чего нам ссориться?
Что звучит, Иосиф? Прошу подождать минутку, навострю ухо. Это вальс Арама Хачатуряна звучит к драме Михаила Лермонтова «Маскарад».
Согласен, батоно: гениальный армянин. Гениальный армянин и человек.
Нет, Иосиф, он не еврей. И Шостакович не еврей. Еврей у нас Карл Маркс, батоно.
(Отдаленно проходят раскаты сталинского смеха.)
Очень жаль, Иосиф, что ты не можешь к нам сюда, в твою любимую высотку, приехать. Повеселились бы по-настоящему!
Я знаю, что у тебя нога слегка чуть-чуть немного болит, Иосиф. Еще раз тебе советую тигриную мазь. Поверь, Иосиф, у нас тут есть специалист по тигриной мази.
Моя невеста Глика машет тебе рукой. Она тебя обожает, Иосиф. Да-да, в прямом смысле – о-бо-жа-ет!
Да, мы готовы с ней к началу «Новой фазы», Иосиф.
Да, вся наша семья готова к началу «Новой фазы». Все машут тебе кто чем: руками, ушами, носами, Иосиф.
Да, малость поддал, Иосиф. Спасибо, Иосиф. Обязательно передам Ариадне твой персональный поцелуй. Так точно, как когда-то, товарищ главком. Все собравшиеся припадают к твоим историческим сапогам, батоно! И поздравляют тебя с этим чертовым Новым годом! Тьфу, тьфу, тьфу! Ура!»
После этого, собственно говоря, можно было и закрывать все празднество. Приятное настроение, нарастающая экзальтация, и вот – еще до ужина, еще до танцев – восторг, триумф, апофеоз! Можете не сомневаться, товарищи, списки приглашенных уже давно у него на столе! Возникает новая элита, товарищи, и мы ее творители. (Не можем не сказать, что в те времена слово «элита» еще не стало, как сейчас, жвачкой толпы; вполне возможно, что оно вошло в обиход именно после этого «Вечера Ариадны».) А вы не в курсе, товарищи, что имел в виду родной наш Иосиф Виссарионович, говоря о «Новой фазе»? Как вы думаете, было бы уместно обратиться с этим вопросом к нашему столь выдающемуся Кириллу Илларионовичу? Я думаю, что это было бы полностью неуместно, даже слегка чуть-чуть несколько бестактно, товарищи. Не нужно забегать вперед, все будет сказано в нужное время и в нужном месте. Одно ясно – мы на пороге великих исторических сдвигов! А вот одно историческое событие уже произошло на наших глазах, или, вернее, в наших ушах, дорогие товарищи мужчины и любезнейшие наши красавицы-женщины! Впервые публично наш выдающийся семижды сталинский лауреат Кирилл Смельчаков назвал Глику Новотканную своей невестой. Осмелюсь заявить, что считаю этот союз значительным событием всей нашей социалистической культуры. Лучший лирический поэт страны соединяется с первой романтической красавицей общества.
Поднимем бокалы, содвинем их разом! Сказал Смельчаку Роттердамский Эразм. Это уже шутят братья по поэтическому цеху, и с каждым бокалом все свободнее развязываются языки, и вот уже поэт «Землянки» Сурков опять заманивает хохочущее общество в свои рифмы-ловушки:
- В саду над старым буераком
- Художник ставил деву в позу.
- Нарисовав большую розу,
- Он покрывал картину лаком.
Герой сегодняшнего вечера, личный друг великого вождя, разговаривал с виновницей торжества, исторической подругой великого вождя. Обмахиваясь веером и рассылая во все стороны улыбки, та тихо ему говорила:
«Ну ты знаешь, я не могла не пригласить Лаврентия: Ксавка, действительно, с ним подружился во время работы над устройством, но вот уж не думала, что тот явится со всей своей кодлой».
«Это был сюрприз не для тебя, Адночка, а для меня. – Зная, что все взгляды направлены на них, Кирилл улыбался ей, как будто уже обсуждал будущую жизнь в лоне семейства Новотканных, а произносил при том довольно страшные вещи. – Я взбесился только, когда он начал оглаживать Гликину попку».
«Что ты ему сказал?»
«Сказал, что убью».
Она подняла брови: «Кого?»
«Его».
Она расхохоталась: «Ах, Кирка, Тезей чертов!»
Тут произошло в некотором смысле силовое перемещение светского общества, и к Кириллу с Ариадной приблизилась вся бериевская компания: сам Лаврентий, братья Кобуловы, Мешик, Рюмин, Абакумов, приезжий Багиров. Все они улыбались с почти нескрываемым восхищением. Берия покачал ладонями перед своей расплывшейся физиономией. «Вот герой, вот это герой! Слушай, Кирилл, да ты просто античный герой! Какое самообладание, понимаешь! Какой такт, какой юмор! Неудивительно, что товарищ Сталин избрал тебя на роль своего личного друга!» Он щелкнул пальцами и строго проследил, как звено отборных спецбуфетовцев под управлением Фаддея и Нюры разносит шампанское. Затем снова воссиял своей великолепнейшей фальшью. «Ариадна, родная, надеюсь ты позволишь нам даже на твоем юбилее поднять тост за личного друга великого Сталина?» Чокаясь с Кириллом, он вроде бы даже сделал поползновение к объятию, но притормозил. Что касается Кирилла, тот как раз не возражал против высшего проявления дружбы. Он крепко обнял Берию и шепнул ему прямо в разящее «Шипром» ухо: «Хорошо, что ты все понял, Лаврентий!»
Объятие получилось таким динамичным, что шампанское в бокале лауреата расплескалось. Извинившись за свою неловкость, он взял с подноса другой бокал и тут же выпил его до дна. Преступная группа разразилась аплодисментами. В принципе, все может сейчас разыграться в духе «Старого Чикаго», подумал он. Вот сейчас, именно в следующий миг, Алькапон с криком «Предатель Смельчаков хотел меня убить!» выхватит свой парабеллум, и они все начнут в меня палить. Миг прошел благополучно. Значит, стрельбы не будет. Они просто не знают, сколько тут моих людей, и не хотят быть убитыми со мной заодно. Они просто не знают, что здесь нет никаких «моих людей», кроме Петра Чаапаева с двумя друзьями.
«Кирилл Смельчаков, товарищи, – это пример для всей советской молодежи. Уверен, что новое поколение будет соревноваться за право называться смельчаковцами!» – провозгласил Берия.
Кирилл не отрывал от него пристального взгляда, как бы говорившего: «А вот это ты зря, Лаврентий! Разгласить на вечеринке самый важный секрет вождя, которого и тебе вроде бы не полагалось знать! Конечно, для большинства это просто высокопарная фигура речи, однако здесь наверняка есть те, которые давно уже почувствовали, что в глубине системы возникла сверхтайная силовая группа. Я понимаю, ты шантажируешь, хочешь мне показать, что ты в курсе всего, но ты зря это делаешь, зря, генацвале, зря».
Краем глаза он заметил, что Чаапаев и его молодые друзья, до этого беседовавшие с Гликой и двумя ее сокурсницами, выдвигаются на более активную позицию. Берия, кажется, понял смысл его взгляда и последовавшего за ним молчания. Давно было замечено, что всемогущий владыка всего тайного в Советском Союзе с его физиономией зловещего и наглого плута в случаях афронта на глазах темнел, все в нем опускалось, и он начинал напоминать некую жалкую тварь. Вот и сейчас он стал похож на длинноносого лысого осла. Впрочем, он нашел силы расшаркаться перед юбиляршей. «Позволь нам откланяться, дорогая Ариадна, звезда наших очей. Чекисты родины, к сожалению, всегда в эту ночь проводят совещание. Желаю всем беззаботного веселья. Мы храним ваш покой!»
Все без исключения гости, а также и хозяева вздохнули с облегчением. По идее, в появлении Берии никто в этом собрании не видел ничего противоестественного. Ведь юбилярша Ариадна, как многие слышали, действительно была еще недавно звездой нашей внешней разведки, а эта отрасль, как известно, числится за органами пролетарской диктатуры. Непонятно только, почему Лаврентий Павлович явился в таком массивном количестве, но уж если явились, извольте: хлеб-соль и скатертью дорога. И все стали снаряжаться в недалекую и развеселую дорогу, в арендованный на эту ночь огромный ресторан и танцевальный пол гостиницы «Москва». В потоках юмора, веселья и пьяноватого уже слегка чуть-чуть песнопения от центрального подъезда Яузской высотки стали отбывать ЗИСы-110, ЗИМы, «Бьюики» и «Линкольны».
Всю ночь в гостинице играл большой состав джаз-оркестра под управлением Эдди Рознера, в большинстве своем собранные из разных лагерей львовские евреи. Их солистка Эстер Блюм, отбывающая десятилетний срок в Сусумане, завораживающим контральто выпевала слова медленного вальса собственного рознеровского сочинения:
Во Львове рэмонт капитальный идет.
Ждем вас во Львове!
Во Львове вэсэнняя липпа цвэтет.
Просим во Львов!
Мы танцевали с Ариадной под этот ритм то вальс-бостон, то что-то вроде слоу-фокса. Она чуть откидывалась назад, на мою руку, и поднимала к вращаюшемуся на потолке многоцветному шару свои мечтательные глаза и сладко улыбающийся рот. Я представлял себе, как она танцует в берлинском ночном клубе с высокопоставленной нацистской сволочью. Здешние красные гады с большим интересом следили за тем, как мы выписывали с ней на паркете довольно сложные па. Воображаю, чего только они не говорили о нас в ту кристально-морозную ночь чертова Нового года.
Посмотрите, какого нового мальчика подцепила наша неувядающая Ариадна! Довольно странный юнец, вы не находите? В нем что-то есть от стиляги, не правда ли? Да они там все переплелись с «плевелами» в этой Яузской высотке. А как его зовут, если не секрет? Вот именно секрет, а если по секрету, его зовут как-то странно, на эстрадный манер – Вася Волжский. Жаль, что чекисты ушли, можно было бы узнать у них его настоящее имя.
Ну что вы болтаете, никакой он не Вася Волжский, его зовут Костя Меркулов, он ее родной племянник по материнской линии. Юноша сложной судьбы, студент-медик. Сложной судьбы, вы говорите? Сейчас это называется «сложной судьбой»? Говорят, что его выгнали из института за то, что скрыл эту сложную судьбу. Я знаю, что он живет в семье Новотканных на правах родственника. Уж кто-кто, но Ариадна Рюрих может это себе позволить. Что позволить? Вы не понимаете что? Она просто заботится о племяннике, опекает его с ног до головы. Вот именно, очень точно – с ног до головы! Ну, знаете, каждый понимает в меру своей испорченности. Да вы посмотрите, какой на нем костюм. Она просто привела его в наше ателье и приказала: сделайте ему костюм в «оксфордском стиле». Вот так!
Черт с ними, пусть болтают, что хотят. Меня больше интересует оркестр, чем эта публика. По сути дела, я впервые вижу и слышу биг-бэнд в полном составе, и это, конечно, – нечто! Взять хотя бы брасс-секшэн – это нечто! – шесть трампетов, четыре тромбона, шесть саксов в ряд плюс отдельно сидящий баритон для пущего эффекта! Теперь возьмите ритмическую секцию: четыре контрабаса, два ударника, один со всеми классическими прибамбасами, второй с африканскими бонгами плюс, к моему полнейшему удивлению, электрическая гитара! Добавьте к этому потрясный концертный рояль, четыре скрипки (для советской сусальности), виброфон, и вы получите лучший арсенал джазового оружия на территории СССР!
Конечно, мне как человеку бывалому, в отличие от московских друзей-«плевел», доводилось видеть на сцене что-то вроде биг-бэнда. В частности, еще в 16-летнем возрасте в Магадане, где развлекала дальстроевские кадры организация под названием «Эстрадный театр МАГЛАГ» (то есть Магаданский лагерь). Также и в Казани: расформированный там шанхайский джаз Лундстрема иногда собирался почти в полном составе на танцах в Доме офицеров. Но вот именно «почти в полном» и никогда не в полном. Полный состав впервые вот сейчас вижу, на юбилее Ариадны. И какие ребята классные играют – это нечто! – настоящие профессионалы! Юбилярша горделиво мне на ухо шепнула: «Со всех лагерей собирали!» Я поинтересовался: наверное, целый месяц репетировали для такого золотого синхрона? Три месяца, уточнила она. С репертуаром, конечно, были большие сложности. Минкульт категорически, ссылаясь на ЦК, запретил «американщину». Пришлось выискивать лихие пьески из довоенного советского джаза. Впрочем, и туда прокралась «американщина» под маскировкой советской песни. Например, вот эта всем известная «На карнавале под сенью ночи», мне музыканты сказали, есть не что иное, как Lady from Manhattan, каково? Взяли также кое-что из старого репертуара Эдди. В частности, например, вот эта вещь, под которую мы сейчас танцуем, «Приглашение во Львов», была им написана в честь вхождения наших войск в 1939-м году. В общем, чего только не сделаешь для любимого племянника. И тут она подмигнула мне в стиле Дины Дурбин.
Я был поражен, чтобы не сказать – потрясен.
«Ты хочешь сказать, Ариадна, что это ты для меня устроила весь этот джаз?»
«А ты как думал?» Она дерзковато тряхнула своей короткой, но великолепной гривкой.
«Ариадна, скажи мне, ты реальная или воображаемая?»
Она притворно надулась.
«Ты прекрасно знаешь, что я реальная».
Один за другим вставали с инструментами и трубили ряды трубачей, тромбонистов и саксофонистов. Приближалась кода. Эстер Блюм, медлительно играя руками и ногами, демонстрировала свою слегка чуть-чуть цинготную улыбку. Каково приходится этим ребятам: приглашают во Львов, а сами возвращаются на Колыму, на Инту, в Казахстан переодеваться из смокингов в лагерные бушлаты.
Как только кончилась эта пьеса, Ариадна немедленно бросила меня и быстро направилась к каким-то массивным генералищам, если не маршалам, с их супругами, впрочем, довольно миловидными тетками. Я остался один в «оксфордском» костюме с новым паспортом и трудовой книжкой в кармане. И тут меня окликнули по-нашему: «Эй, Такович!» Приближалась сталинистка Глика со своим Кириллом, личным другом Сталина.
«Кирилл, познакомься, это вот и есть тот самый, широко известный в узких кругах Так Таковский!»
Он удивил меня совершенно дружеской и какой-то классной улыбкой. «Рад познакомиться. Я слышал, что ты поэт? Как-нибудь заходи, почитаем». И с этими словами он тут же отчалил, явно давая нам возможность поговорить наедине.
«Это что, правда? Ты выходишь замуж за „Семижды“?» – спросил я.
Она рассмеялась. Удивительная метаморфоза: вчера еще девчонка, а сегодня, в длинном платье и с этим смешком, уже светская красавица. Уже как бы не дочь Ариадны, а ее сестра Федра.
«Это он объявил меня невестой, но от невесты до жены дистанция солидного размера. Еще надо окончить университет и переселиться в Абхазию».
«В Абхазию?»
«Вот именно, в Абхазию».
«В прибрежную или в луговую?»
«В поднебесную. Как все на свете».
Тут снова заиграли. Вроде бы советская штучка, а на самом деле довольно известная «американщина» тридцатых годов, Too many tears. Мы пошли с ней танцевать.
«Как тебе этот джаз?» – спросила она. Я давно заметил, что ей нравится наше искусство. Вроде бы противоборствует ему как выдающаяся комсомолка, а на самом деле непроизвольно подтанцовывает, когда ловит заразительный свинг.
«Знаешь, я больше всего жалею, что наша компания здесь не присутствует, эти „плевелы“. – Я стал отвечать и заметил, что она смотрит на меня с какой-то серьезной симпатией. – Они ведь по-настоящему любят джаз, без балды. Взять хотя бы Боба Рова, обо всем забывает, когда слышит Армстронга. И не говоря уже о нашем узнике, Юрке Дондероне».
«Ты знаешь, что он у нас поблизости сидит, на Швивой горке?»
«Знаю. Я ему пару раз передавал кое-что с одним шофером. Однако похоже, что его недавно куда-то перевели».
Она вдруг перешла на еле слышный, как будто бы какой-то вентрологический шепот:
«Такович, у меня к тебе записка от Юрки. Сейчас я вложу ее тебе в ладонь. Здесь не читай, только на улице, не на виду. И сразу сожги».
Снова стали волнами наплывать то трубы, то тромбоны, то саксы Эдди Рознера. «Так много слез, – пела Эстер Блюм. – И совсем не понапрасну…»
Я вышел из гостиницы и по хрустящему под ногами предутреннему снегу прошел подвыпившей походкой на середину Манежной площади. Открытое пространство как бы прикрыло мое желание как можно быстрее прочесть Юркину записку. Она гласила:
«Так, привет! Ты не можешь себе даже представить, где я сейчас нахожусь. Витаю над всеми вами – это нечто! Иногда вижу, как Глика стартует со своей террасы и пытается воспарить до нашего уровня. Очень тебя прошу воздействовать на нее, чтобы прекратила эти безрассудные полеты. Озирая с высоты окрестности, я прихожу к выводу, что планирование отсюда вниз еще возможно, однако попытки набрать высоту чреваты капутом.
Очень тебе благодарен за твои подарки, особенно за фотографии Бени Гудмана и Майлса Девиса, а также за великолепную табачную смесь. Кручу длинные самокрутки и по ночам, можешь себе представить, слушаю прямые трансляции из клуба «Половинная нота». Появился новый интересный парень по имени Джерри Маллиган. Он играет, как Чарли Паркер, то есть в стиле bibop, но также и свингует по-своему.
Работаю я вообще-то по-половому, скребу, скребу день-деньской, но об этом… Стоп, пришли со шмо…»
Написано это было на таком крошечном клочке бумаги, что я еле различал бисерные буковки. Держа послание в глубине ладони, я полез за зажигалкой, чтобы уничтожить его, как это было приказано Гликой, однако вдруг клочок самовозгорелся и тут же исчез в крохотном пламеньке; я даже не почувствовал боли.
Я вроде бы догадывался, что связь с Дондероном поддерживается с помощью того же самого длинного малого, шофера, который однажды окликнул меня во дворе. Надо будет при следующей встрече попытаться его разговорить, может быть, выпить вместе, и узнать, чего больше в этом послании – бреда или иносказаний? Пока что мне пора направить стопы на вокзал: первая электричка отходит в 5.15. В Звенигороде, где я сторожу дом Новотканных, меня ждет блаженная безопасность, двухметровые сугробы и пять моих верных собак дворянской породы.
Шарашка на высотке
На башне Яузской высотки, где Юрка Дондерон нашел убежище от мужеложцев Никанорыча, работало не менее тридцати зэков-мужчин, безнадежно тоскующих по бабам, иными словами, онанистов. Все вместе ночевали в обширном помещении на чердаке и спали не на нарах, а на обычных железных кроватях с панцирными сетками. Для мастурбации использовалась кубовая, там поддерживалась интеллигентная очередность. Пахло, вперемешку с секрецией, табаком, потом, крепчайшим чаем, чтобы не сказать чифиром, иногда пердежом. Если последнее происходило в громком ключе, немедленно начинали считать: «В этой маленькой компанье кто-то громко навонял! Раз-два-три, это будешь ты!» – тут же набрасывались на незадачливого избранника с понтом лупить, ну и расходились в несколько приподнятом настроении. В круглых окнах этой чердачной спальни, или, как ее здесь называли, «зэковки», то есть самого высокого, примерно 35-го этажа высотки, то стояла неподвижная серая мгла, это когда туча седлала шпиль, то вдруг открывалась бездонная звездная пустота с пробегающими кучерявостями, в которых все зэки, включая и Юрку, пытались углядеть очертания вожделенных женщин.
Трудно было понять, что там, в этой гигантской башне, обустраивается: то ли какой-то суперглавный антиатлантический командный блок, то ли дом-дворец, московская резиденция какого-нибудь континентального коммунистического владыки, вроде Мао Цзэдуна. Для командного блока слишком уж все тут обставлялось дорого и шикарно: тут вам и мрамор, тут вам и красное дерево, штофные обои с золотыми и серебряными нитями, гобелены счастья и труда по мотивам социалистического реализма, обеденный зал с созерцающими со стен головами национального зверства, спальни с кроватями непомерной ширины и с самораздвижными балдахинами, каминные салоны с креслами, дающими покой любой самой неспокойной пояснице, кабинет-библиотека с уходящими глубоко под потолок полками, вместилищем всех полных собраний сочинений классиков как отечественной, так и марксистско-ленинской литератур. Привозили великолепные туркменские ковры и штабели штучного кедро-дубового паркета; та самая нива, на которой с бригадой из пяти мастерюг трудился бывший «плевел», а ныне исправляющийся рабочий.
С другой стороны, трудно было понять, для чего такому роскошному жилому дворцу такое огромное количество управляющей и следящей аппаратуры. Везде тянулись и маскировались то в стенах, то под паркетом многочисленные кабели. Практиковалось также управление приборами методом под названием «фотоэлемент». Двери открывались и закрывались сами по себе. Повсюду опробовались экраны непомерной величины. Радиотелефонное обеспечение осуществлялось роботами, напоминающими пауков. В глубине башни вроде бы обитал самый секретный узел связи с выходом на все радары стратегической авиации, а также на зарубежную агентуру через подвешенные в стратосфере шары.
Конечно, для полного укомплектования всех этих устройств требовался штат высококвалифицированных спецов, и он был собран усилиями Государственного управления лагерей при МВД СССР. Общее руководство осуществлялось несколькими полковниками из Военно-технической академии Минобороны, однако сложнейший монтаж проводился вот именно доками из числа заключенных, которым было обещано сокращение сроков наказания, а иным даже реабилитация. Так и было сказано: «Родина не останется в долгу!» Вот такая над крышами Москвы возникла высотная шарашка. Питание было нормальным: белки, жиры, углеводы, комбинация витаминов и минералов для улучшения мозговой деятельности. Гарантировались ежедневные получасовые прогулки по бордюру. Раз в неделю, в целях борьбы с отвлекающим от умственной деятельности геморроем, в автобусе отвозили на стадион «Динамо» для игры в футбол под охраной взвода автоматчиков. Выход за пределы поля мог быть наказан выстрелом на поражение. Разглашение каких-либо секретов Башни безапелляционно каралось смертной казнью.
Юрочка Дондерон проходил тут по штату мкрс, то есть малоквалифицированной рабочей силы. На него не распространялись все указанные привилегии, но зато распространялись все наказания, включая и указанные. И все-таки его внешность «юноши из хорошей семьи» сразу обратила на себя внимание всех высоколобых технарей. Всех поразил тот факт, что он всего лишь два месяца, как с воли. Большинство этих людей уже несколько лет не выходили за зону конвоя. Еще больше поразил всех факт, что он был из МГУ, то есть из самой гущи современной молодежи. Но самым поразительным оказался для них тот факт, что он был жильцом этого дома, на вершине которого они трудились на благо щедрой родины, и что при помощи нехитрой увеличительной оптики можно было увидеть во дворе его папу-академика, его собаку Дюка и даже девушку его мечты.
Больше всех благоволил Юре негласный руководитель всего этого проекта, пожилой зэк со странной фамилией Затуваро-Бончбруевич. Он говорил с легким польско-немецким акцентом. Позднее Юра узнал, что Бонч три года назад был похищен нашими агентами из Западного Берлина, где он как раз занимался чем-то вроде нынешней работы, то есть подслушиванием секретных коммуникаций в советском секторе.
На Башне плешивый и тощий Бонч сидел в своей собственной мастерской, которая чем-то напоминала «инструменталку» на Швивой горке, настолько она была заставлена всякими приборами, станками и прочей техникой. Юру, который занимался настилом паркета и в этом помещении, поразило, что у специалиста почти всегда тихонько играет оригинальный американский джаз. Не в силах удержаться, он начал подпевать, ну, скажем, I’m walking, I’m talking, чуть-чуть подплясывать в такт и даже имитировать брейк на ударных инструментах. Похищенный гражданин неизвестно какой страны Затуваро-Бончбруевич, всегда погруженный в сборку-разборку каких-то электронных схем, юмористически на него посматривал и однажды спросил:
«Я вижу, Юра, вы имеете вшисткий интерес до джазу, цэ правда?»
Юра тогда сразу выложил на ученого целую кучу информации из жизни московского джазового подполья. Также поинтересовался, на какую радиостанцию постоянно настраивается пан Бонч, чтобы круглосуточно звучал джаз.
«Цэ радьё за телефонами с Мюниха, РИАС, для американских жолнежей». Подняв палец к потолку, пан Бонч с большим уважением объяснил Юре, что с «нашей антенной» они могут поймать любую радиостанцию на планете Земля и даже, в случае надобности, за ее пределами.
После этого разговора они стали иногда вместе в наушниках слушать сильно продвинутые джазовые концерты с фестивалей, ну, скажем, из Ньюпорта или Сан-Себастьяна. Пускали на полную мощность и иногда в полнейшей тишине с восторгом показывали друг другу большие пальцы: Джонни Ходжес – это нечто!
Пан Бонч научил Юру микросварке и попросил полковников отрядить ему этого циклевщика, а на самом деле опытного физтеха (немного наврал) для ускорения проникновения в глубины электронных схем. Он давно уже заметил, что начальство нервничает, что кто-то на них висит, погоняет к ускоренному завершению всех «башенных» работ. Короче говоря, начальство дало добро на более квалифицированное использование циклевщика.
Однажды они сидели вдвоем, будучи, конечно, в наушниках, перед окном и внедрялись в недра какого-то только что поступившего следящего за телефонами устройства. Какое мирное блаженство, думал Юра под гитару Джанго Рейнхарда. Краем глаза он также наблюдал не лишенное некоторой грации кружение вокруг башни двух влюбленных ворон. Если бы мы с Гликой могли так вокруг друг друга кружить, ей не пришлось бы выбиваться из сил с этими ее попытками подъема. Он снял наушники и показал на ворон пану Бончу. Ну почему люди не могут так кружить? Тот внимательно посмотрел на юношу и тоже снял наушники. Взял лист отменной чертежной бумаги и быстрыми уверенными движениями нарисовал махолет Леонардо да Винчи. Молодому пану известна эта конструкция? Юра кивнул. Люди всегда думали о живых полетах. Вы слышали когда-нибудь о русском футуристе Татлине? Юра опять кивнул, хотя никогда этого имени не слышал. Бонч понял, что юнец привирает, и нарисовал на том же листе педальную конструкцию, напоминающую птеродактиля. Эту штуку Татлин назвал «Летатлин». Он был уверен, что к 1950 году москвичи будут перелетать из одного небоскреба в другой на подобных крыльях. «Летатлин» – это не механическое изобретение, а скорее эстетическая метафора полета, он ни разу не отрывался от земли, но, в принципе, в нем заложена некоторая кардинальная идея. А теперь смотрите, шановны пан! Он взял еще лист и стал с некоторым даже вдохновением набрасывать еще одно летательное устройство. А это, наверное, ваше собственное изобретение, пан Бонч, догадался Юра.
Затуваро-Бончбруевич кивнул со сдержанным торжеством. Потом он рассказал, как у него возникла идея разработать свой вариант летатлина. В Швейцарии давно уже испытывают так называемый «дельтаплан» для использования в Альпах. Однажды он увидел его чертежи в одном из технических журналов, которыми его под расписку о высочайшей секретности снабжают академические полковники. По идее, это не что иное, как обычный планер для скольжения вниз. Ему оставалось только усилить его элероны, чтобы можно было маневрировать в воздухе, выбирать место для посадки и даже менять высоту.
Вдруг он вцепился своей тощей рукой, чем-то напоминающей воронью лапу, в Юркино неслабое плечо, развернул его к себе и уставился в глаза юнцу, будто стараясь проникнуть как можно глубже в его «электронную схему». После этого он при помощи скрытого «фотоэлемента» зафиксировал дверь в мастерскую и поведал Юрке свою тайну. В чуланах мастерской находятся в разобранном виде все детали аппарата. Собрать его можно за полчаса. Он знает, как без охраны выйти на бордюр, собрать аппарат, как следует пристегнуться и… Что дальше? Как что, прыгнуть в струю – вот что. Это единственный для него способ, как у вас говорят, «смотаться на волю». Его технические познания спасли ему жизнь в Гулаге, однако они же приковали его навеки. Они никогда его не выпустят. Кто они, спросил Юрка, наши? Ваши, Юрочка, ваши. Они и тебя вряд ли выпустят, тем более что… Но сначала скажи мне, пшепрашем, откуда у тебя это бардзе чудне имя, Дондерон? Ты что, нерусский?
«Конечно, русский, – ответил Юра. – По происхождению, правда, из французов. Как папа всегда подчеркивает, из французских роялистов. Дон-де-рон, это что-то вроде „господин-с-Роны“, или „подарок Роны“, в смысле, реки».
«Дзенкую бардзо, хорошо, что ты нерусский».
«А при чем тут это, русский-нерусский, в чем дело, пан Бонч?»
«Я не люблю русских. Дело в том, что я решил отдать этот аппарат тебе. Я его делал в чёнгу двух лят и не хотел бы, чтобы русский на нем полетел».
У Юрки дыхание перехватило: прыгать с 35-го этажа?! «Да что вы, пан Бонч, вы же для себя его готовили, чтобы смотаться на волю. Мне все-таки меньше трех лет осталось, а вас они, ну то есть наши, действительно, никогда не выпустят как ценный для родины кадр».
«Я имею опасение, Юрочка, что ты теж живым отсюда не выйдешь».
Он пустил погромче музыку и поведал молодому другу самую страшную тайну. Оказалось, что он при помощи своих устройств время от времени мониторит секретную линию связи и вот недавно слышал там дискуссию, от которой без всякого аппарата можно спрыгнуть с башни. Кто-то там, на самом верху, предлагает по завершении проекта устранить всех задействованных без исключения. Кто-то там подчеркивал, что это не жестокость, а акт исторической необходимости. Этому человеку кто-то возражал, но на него стали страшно кричать и пригрозили, что и от него могут избавиться. Вот поэтому он решил, что Юре, которому еще нет двадцати, все-таки надо еще пожить, то есть попробовать счастья на крыльях. А ему, которому скоро восемьдесят, пора и честь знать».
«Пан Бонч! – воскликнул пораженный Юрка. – Неужели вам уже восемьдесят? А я думал, что вам сорок».
«У тебя есть, где заховаться?» – деловито осведомился доктор Ягеллонского университета Затуваро-Бончбруевич.
Юрка, подумав, сказал, что есть друг, который может помочь спрятаться.
«Ну вот, заховайся и сиди, чем дольше, тем лучше. А потом, может быть, будешь жить. – Он мягко улыбнулся. – И слушать джаз со своей кобетой».
О, этот вьюноша летучий!
В середине февраля 1953-го года в Москве, как обычно в эту пору, заладили вьюги. Улицы по вечерам пустели, словно где-то поблизости шла война. О мире напоминали только редкие неоновые рекламы со странным призывом: «Печень трески, вкусно, питательно!» Граждане старались по выходе из метро как можно быстрее разобраться по домам. В газетах печатали большие статьи о злодеяниях еврейских врачей. Томительное беспокойство усугублялось постоянным подвыванием пурги.
В эти дни Кирилл Смельчаков собирался в очередное заграничное путешествие, на этот раз в Стокгольм, на сессию Всемирного совета мира.
«Куда на самом деле?» – спросила его Глика. Она разгуливала по его кабинету и беспрерывно курила.
«Ты же знаешь, что я не могу ответить». Он укладывал в чемодан совершенно ненужный вечерний костюм, к нему сорочки и галстуки. На базе в Дураццо в ход пойдет камуфляж и можно будет ни от кого не скрывать пункт назначения. Потому что все туда же отправятся.
Она все ходит, нервная, нервная. Гасит сигарету, берет другую. Открывает газету, тут же ее бросает. Не без отвращения, что неудивительно. От нынешних газет разит.
«Ну?» – произнесла она и остановилась в дальнем углу комнаты.
«Что ну?» – спросил он из ближнего угла комнаты. Собственно говоря, у каждого ближнего угла комнаты есть дальний угол комнаты. Вернее, так: каждый угол комнаты, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, а тот, в свою очередь, являясь ближним углом комнаты, смотрит на дальний угол комнаты, который только что был ближним углом комнаты; и вся эта игра углов комнаты зависит от перемещений находящихся в комнате объектов взаимной любви.
«Ну, что же, товарищ Семижды, глядя на вас как на объект моей любви, я жду, когда вы приступите к раздеванию объекта вашей любви, то есть меня».
Тут они стали сближаться, теряя и ближний и дальний углы комнаты. «Не надо, однако, терять слово „взаимный“, применительно к любви», – вдумчиво произнес он, приступая к желанному делу. «Это слово всегда со мной», – хохотнула она, чуть-чуть затягивая и тут же освобождая пояс его брюк.
Предаваясь любовным утехам, он думал о том, как разительно изменилась Глика за этот год. Трепетная девственница с мечтой о «небесной любви» умудрилась в девятнадцать лет обзавестись двумя 37-летними мужланами-любовниками и пытается сейчас командовать и тем и другим одновременно. Прежде так много в молчании говорили ее «небесные» глаза, теперь она не упускает возможности, чтобы продемонстрировать резкость своих суждений. Похоже, что даже культ товарища Сталина в ее душе начинает слабеть по мере увеличения эротического опыта.
В момент приближения взаимного восторга в точке, равноудаленной от четырех дальних углов комнаты, Глика совершенно неожиданным образом опровергла его предположения.
«Знаешь, иногда перед этим моментом ты мне кажешься молодым Иосифом Виссарионовичем. – И добавила: – Еще батумского мятежного периода».
Чтобы наказать нахальную девчонку, он как-то умудрился еще дальше и дольше ее протащить по едва ли не разрушенному двойному койко-месту. Наконец, угомонились и перешли от страсти к нежности. Девушка в такие минуты была даже склонна к шаловливости, в частности, к подергиваниям. И вдруг безмятежно заснула всей своей дивной головенкой на атлетической груди собравшегося в N-ском направлении героя. Спала ровно семь минут. Проснувшись, встряхнулась.
«Ой, Кирилльчик, я чуть не забыла важнейшее дело. Сейчас к нам должен зайти Таковский».
Еще не уточнив, при чем тут Таковский, он начал быстро, едва ли не в десантном темпе, одеваться. Она попыталась не отставать.
«Надеюсь, ты помнишь этого Таковича? Нет? Ну как не стыдно забыть члена нашей семьи, маминого, можно сказать, племянника? Ты нам нужен этой ночью. Снег и ветер на всем белом свете. Нет, ничего особенного. Ты нам просто нужен в качестве шофера на твоем „Хорьхе“. Попробуй только сказать нет!»
Кирилл поинтересовался, почему именно он нужен на «Хорьхе», как будто нет под рукой другого шофера на ЗИСе-101? По ее версии оказалось, что тот, другой, действительно был под рукой, но вдруг исчез без всяких объяснений. Ведь ты же знаешь, что у него есть свойство время от времени пропадать без всяких объяснений. Ну давай без колебаний, мой дорогой, мой самый любимый из двух, ведь это для тебя еще один повод проявить свои геройские качества. Кирилл уступал последнюю линию обороны. Послушай, олимпийская дурочка, для меня в этом не было бы ни малейшей проблемы, если бы завтра утром мне не надо было лететь в Стокгольм. Он уже начинал понимать, к чему клонится дело. Ну вот и прекрасно, она захлопала в ладоши, вот в самолете и отоспишься!
Когда я пришел, они оба были уже почти готовы на выход. По всей вероятности, только что вылезли из постели, иначе чем можно было объяснить эти супернежные взгляды, которыми они обменивались то из дальнего угла, то из ближнего угла комнаты. Несколько минут у меня еще было для того, чтобы оглядеться: ведь я первый раз в жизни был в квартире настоящего богатого писателя! Больше всего, признаться, мне понравилась конторка с высоким стулом. Говорили, что Хемингуэй любит писать именно на такой конторке, расположив грешный зад на табуретке, одной ногой упираясь в пол, а другою покачивая в воздухе.
Когда мы вышли втроем из дома, вьюга набрала поистине сатанинскую силу. Где-то она, видимо, оборвала провод, яркие обычно фонари вокруг парадного подъезда раскачивались теперь в охеревшем воздухе, словно никчемные ночные горшки. Тревога начинала продирать меня пуще мороза при каждом взгляде в высоту: все это могло кончиться трагедией.
Опустив уши у малахаев и подвязав их под подбородками, мы двинулись по еле заметной тропинке в поисках трофейного чудовища. Нашли его в виде огромного сугроба возле одной из двух ростральных колонн, которые в приличную погоду призваны были украшать это чертово капище. Никаких шансов откопать аппарат голыми руками не проглядывало, как вдруг по направлению к нам сквозь снежную завесу стала двигаться громоздкая фигура с пучком лопат в руках. Это был не кто иной, как дядя Егор, который, собственно говоря, и познакомил меня с шофером Клонкрустратовым. В четыре руки или, точнее, в восемь рук дело пошло споро. Очистив машину от снега, мы расшатали двери и проникли внутрь. Писатель без проблем завел мотор, а вместе с ним и радио: Eine Kleine Nacht Muzik, дирижер Герберт Кароян.
Отправились по Яузской набережной в северном направлении. Иные места шоссе были настолько завалены снегом, что приходилось ползти в качестве гитлеровского вездехода, в то время как с других, достаточно продолжительных мест ветер сдул все наносное, и мы ехали с приличной скоростью по чистому асфальту. Глика сидела впереди рядом с Кириллом и командовала. Тот временами поглядывал на нее и улыбался. Мы ехали довольно долго, пока не миновали Лефортовский парк. За парком мы по горбатому мостику переехали на другой берег Яузы и поехали обратно в сторону высотки. Осталось меньше километра до небоскреба, когда мы достигли условного места, свалки металлолома, которую местные бичи величают «Сталинградом».
За все это время нам попалось не больше двух-трех попутных и встречных машин. Мы съехали с дороги и пришвартовались к заброшенному куску бетонной стены. Здесь и остановились. Начали курить. Ночная музычка закончилась. Лучше вообще выключи, попросила Глика. Тишина. Подвывание снежных ведьм. Все, очевидно, очень нервничали. Меня, во всяком случае, просто трясло.
«Откуда он должен появиться?» – спросил Смельчаков.
«Кто?» – быстро и как-то жутко переспросила Глика.
«Дондерон».
«Откуда ты знаешь, что это Дондерон?»
«Ну перестань, я ничего не знаю. Тот, кого мы ждем, откуда он явится?»
«Вон оттуда!» – Она ткнула пальцем в небеса.
И тут ее прорвало. Сбивчиво и почти непонятно даже для посвященных она понесла что-то о самом чистом мальчике нашего поколения, о своих отношениях с Юркой, самым чистым мальчиком нашего поколения, который не создан для этого мира, для этого слегка чуть-чуть несколько жутковатого пандемониума, в котором люди ползают, как полудохлые и слегка чуть-чуть злобноватые мухи, в котором даже такой монстр, как Берия, может показаться слегка каким-то более-менее живым гуманоидом, да-да, гуманоидом, а не просто жуком навозным. Мой Юрка, мой Юрка, мой мальчик! Ему все время видится, как я выхожу из нашего красавца-дома, прямо из 18-го этажа, в небо и пытаюсь в нем плыть, как будто баттерфляем, пытаюсь набрать высоту. Но ведь это же то, что я все время вижу во сне, вижу, как наяву, плыву, плыву, невесомая в небесах! Юрка, мой Юрка, если бы Сталин узнал о твоей чистоте, он бы немедля пришел на помощь! Мы все легли бы у ног богоподобного вождя, Юрка, Так, я, Смельчаков, Моккинакки и вы, дядя Егор, легли бы с каким-нибудь оружием в руках для фотоснимка, как комсомольцы Гражданской войны. А он вместо этого выходит в небо с самого последнего, 35-го этажа!
- О, этот вьюноша летучий!
- Он старой сказке волю дал!
- Он пролетал, как сыч, сквозь тучи
- И человеков удивлял!
Кирилл, ты знаешь этот стих? Он из анонимных источников XVII века! Из анонимных, Кирилл! Из семнадцатого!
Кирилл обхватил ее за плечи, гладил по голове, пытаясь остановить истерику. Наконец, она затихла. За это время с небосводом над высоткой произошли неожиданные изменения. Появились прорехи в чудовищной шубе пурги. Проявились клочки чистого темно-синего неба. Снег еще шел вовсю, но все-таки не в таких сатанинских масштабах, как час назад. Ветер, однако, по-прежнему выл, и в вое его появился даже какой-то железный оттенок. Он как бы обтекал проявившийся во всю высоту и нависший над нами чертог и потом летел на нас, на свалку «Сталинград», со скоростью свист-экспресса. И вдруг все мы отчетливо увидели, как на бордюре башни появились, или проявились, темные и достаточно обширные для переноса одного человека крылья. Миг – и они отделились от башни, еще миг – и их швырнуло вниз, еще один миг – и они вроде бы выровнялись и плавно заскользили вниз, но не к нам, а в сторону Яузской больницы. Уже было видно, что с них свисают две длинных ноги, похожих на конечности нашего друга. «О, этот вьюноша летучий!» – вдруг странным, не своим голосом запела Глика. Летун исчез. Мы замерли. Прошло не больше минуты, а нам показалось – час. Из-за круглого купола полуразрушенной церкви Симеона Столпника-за-Яузой плавно появились, или проявились, эти внушительные крылья с подвешенным к ним человеком. Они снижались прямо к «Сталинграду». Над Яузой их еще раз сильно тряхнуло, однако мы видели, что летун – он, он, наш Юрка, самый чистый мальчик нашего поколения! – активно управляет стропами и какими-то рычажками. Мы все выскочили из машины и побежали к реке.
Он не дотянул всего лишь метров тридцать до свалки и повис на парапете набережной. А крылья свалились ему за спину и застыли искалеченной формой над льдом и паром реки. Там, под поверхностью, был, очевидно, слив какого-то завода, оттуда и возникали пар и булькотение талой воды. Мы перетащили Юрку через парапет и освободили его от строп. Крылья на удачу упали прямо в парное месиво слива и там исчезли, как будто растаяли. Спасибо вам, крылья великого узника холодной войны Адама Затуваро-Бончбруевича! Юрка стонал и, кажется, не очень-то отчетливо фиксировал окружающий мрак, в котором мерцали наши лица. Лишь изредка он улыбался этим мерцаниям, как будто приветствовал желанную паузу в кошмаре.
Мы положили его на задний диван, а сами с Гликой кое-как устроились на полу машины. Она держала руку безумного летуна и все напевала что-то летучее в русской крестьянской манере. Дядя Егор занял ее место впереди. Его присутствие придавало этому предприятию некоторую целесообразность. Так началось наше, длиною в ночь, путешествие в Звенигород, которое было бы невозможным без Кирилла Смельчакова. Во-первых, он подъехал к дежурной аптеке возле Курского вокзала и купил там обезболивающих таблеток. Во-вторых, в ночном гастрономе на Охотном ряду он закупил водки и большой пакет с продовольствием. В-третьих, на выезде из города, когда нас остановил мотопатруль (два мильтона и автоматчик МВД), он предъявил им документ, который заставил всех троих вытянуться по стойке «смирно» и даже заботливо предупредить знаменитого писателя: «Будьте осторожны, товарищ Смельчаков: какой-то мазурик сбежал из тюрьмы, идет облава». К счастью, Дондерон уже спал под девичьими руками. Ну и наконец, в-четвертых: без Смельчакова мы бы, конечно, даже и на воображаемом такси никогда бы не доехали в пургу по тем завалам, которые называются у нас автомобильными дорогами. Вообще, между прочим, какого бы говна ни накидывали на этого семижды лауреата, в нем все-таки всегда жил храбрый солдат.
Тучи над городом встали
Первого марта 1953-го года ночью (далее и почти до конца этой повести события будут окрашены в основном ноктюрными тонами) начался штурм дачи Сталина силами скопившейся в столице СССР сербско-македонско-словенско-боснийско-хорватской диаспоры. Отчаявшись вытянуть вождя за круги его охраны, гайдуки решили идти в лоб. Председатель вновь появился в Москве, он следил за происходящим из штаб-квартиры в мясном ряду Центрального рынка, в то время как его правая рука, известный еще с военных времен Штурман Эштерхази непосредственно возглавлял штурм. Передавали его слегка крылатую фразу: «Мне надоело прятаться, пусть прячется Коба!»
Интересно отметить, что основная схватка развернулась не на Ближней и не на Дальней дачах, куда были посланы только отвлекающие отряды, а, наоборот, на даче, которую в народе назвали бы Самой Ближней, если бы кто-нибудь в народе знал о ее существовании. В народе, однако, совершеннейшим образом проспали появление этой новой дачи (известно, что вождь создал немалое число дач, в большинстве которых никогда и не бывал, но которые неизбежно назывались в народе «сталинскими»), и только благодаря своим связям в структуре Спецбуфета Жоре Моккинакки (он же Штурман Эштерхази) удалось узнать, что в последнее время Он (мишень) облюбовал для ночевок именно вот эту, как бы не существующую дачу, так называемый «Летний домик XVIII века», бывшее поместье Трубецких, которую, будь она замечена народом, неизбежно назвали бы Самой Ближней.
Ее отгрохали для ИВС в самом центре Москвы, в Нескучном саду, то есть по соседству с ЦПКиО им. Горького, и кто отгрохал, никогда не станет известно любопытному народу, то есть в том смысле, что ни сказок о строителях не расскажут, ни песен о них не споют. Ну вот, а вот инсургентам, да к тому же еще и иностранцам, стало доподлинно известно, что атаку надо начинать с другого берега одетой в гранит реки, путем запуска трех крылатых гранат (гранаты гранита – каково?), уже тогда находившихся на вооружении Советской Армии. Что и было сделано. Три взрыва в буколической роще озарили особняк с дворянскими колоннами на склоне холма. Спрашивается: а куда смотрели наши правоохранительные органы? Ну что ж, вот так и возникают русские «проклятые вопросы», на которые Русь никогда не дает ответа. В принципе, такие темы подлежат засекречиванию, столь мгновенному, что народу остается только хлопать ушами в течение десятилетий, а то и веков. Впрочем, не мы одни такие лопоухие: южные наши братья, славянские народы, тоже горазды свои секреты в землю упрятать, так что события той ночи так и остались бы за семью печатями, не откопай случайно садовник одного дорожного баула на острове Бриони.
Итак, три выстрела с Фрунзенской набережной по Нескучному саду сыграли фактически ту же историческую роль, что сыграл один выстрел с крейсера по дворцу в ноябре 1917 года, то есть вызвали панику на объекте. Чекисты, к тому времени уже вроде бы надежно перемешанные со смельчаковцами, заметались. Отовсюду меж стволов обозначались умело перебегающие и ведущие огонь тени титоистов. А ведь еще недавно в охране находились люди, которые только ухмылялись за спиной Вождя, когда тот начинал говорить о гайдуках; дескать, паранойя. Ну вот, и вот теперь извольте наблюдать, как на ваших глазах взрывается проходная, и сад получается действительно нескучным.
Сталин бежал, вернее, быстро двигался по подземному ходу к спасительному потоку. Вместе с ним поспешали его верные гидальго Поскребышев, Власик и Товстуха, без которых, в общем-то, Сталин, говоря не очень-то известным в те времена языком, даже не позиционировал себя как вождя. Отступление прикрывал небольшой, но сплоченный отряд смельчаковцев. Быстро двигались спинами вперед, стволами назад. А где, черт побери, Смельчаков, спрашивал Вождь, за поспешностью скрывая сущую панику. Ему отвечали, что верный Кирилл отбыл в командировку. Куда же его нелегкая понесла в этот раз? Все в этом отряде людей промолчали. Он потребовал ответа. Нельзя разглашать, товарищ Сталин, ответили люди отряда: государственная тайна.
Вдруг металлический пол тоннеля начал вибрировать во внештатном режиме. Оглянулись и окаменели: в просвете тоннеля уже появились преследователи, тяжеловесное гайдучье племя. Доносились гортанные хрипы: «Чекати, содруг Сталин, или стрельянье быти!» Стрельба уже готова была разразиться, когда в тоннеле опустилась непробиваемая перегородка, отделившая отступление от наступления. В последний, собственно говоря, момент Сталин с охраной вошли в спасательное средство и повалились на диваны.
Это спасательное средство было не чем иным, как подводной лодкой, приспособленной для передвижения в русле Москвы-реки. Она была построена по личному предложению товарища Сталина как своего рода последний понтон на случай нападения титоистов. Как видите, пригодилась! В принципе, корабль мог двигаться, не обнаруживая себя, везде, где было достаточно воды, однако причалить он мог только в трех местах: на Самой Ближней даче, под Кремлем и в устье Яузы, под жилым гигантом. Только в этих трех местах имелись соответствующие тоннели и эллинги для стоянок и высадки пассажиров, причем самым надежным портом был последний упомянутый, поскольку слияние двух столичных потоков обеспечивало надежную массу воды для незаметных подплытий и отплытий. Нечего и говорить, что никому в Москве эти пути отхода не были известны, а если нечего и говорить, тогда не стоит даже упоминать структуру Спецбуфета, которая была в курсе.
Только оказавшись в надежном плавсредстве среди вроде бы вполне серьезных парней охраны, Сталин вспомнил, что Кирилл Смельчаков тому уже дней десять назад отбыл по сверхсекретному заданию в международную зону АЮКТ-3159/БО. Кажется, именно сегодня, сейчас, в ночь с 1-го на 2-е марта он со своей группой должен осуществить важнейшую миссию пролетарского интернационализма. Людям, посвященным в акцию, было запрещено открывать эту информацию кому бы то ни было из живущих. Таким образом, отказавшись ответить даже ему, люди выполняли дух и букву приказа. Этот героический буквализм немного поднял его ужасное настроение. Все-таки хотя бы на эту сволочь еще можно положиться.
С другой стороны, как могло так получиться, что титоисты нас опередили? Как могли они собрать достаточно информации и сил для наглейшей вооруженной атаки в самом центре Москвы на самый секретный объект, содержащий у себя внутри основное ядро мировой революции, товарища Сталина (Джугашвили) Иосифа Виссарионовича, 1879 года рождения, да еще и орать что-то прямо ему на похабном хорватском? Неужели можно предположить, что их разведка оказалась сильнее и изворотливей нашей соответствующей сволочи? Ну ничего, ничего, вот только доберемся до Вершины и сразу начнем тотальную чистку (или, как потом будут говорить, «зачистку»). Приказ по армии и флоту: все войска МВО должны быть втянуты внутрь, все гидропланы с картин Дейнеки будут контролировать небосвод по периметру. С евреями придется подождать, пока не очистимся от титоистской заразы. Евреи сами подождут, среди них все-таки есть патриоты. Немедленно соединиться с Василием, он должен наконец понять, что он не просто сын Вождя, победитель буржуазной Олимпиады, что он еще и наследник данного Вождя, профессионального революционера! Где Берия, черт его побери? Этому гаду придется самому проводить всю эту историческую чистку, самому придется с пассатижами в руках проводить дознание, самому командовать расстрелами. Молотов, где этот лицемерный негодяй? Пусть немедленно звонит главам антигитлеровской коалиции, пусть собирают сессию ООН! Сейчас, прямо с Вершины, товарищ Сталин будет лично звонить уважаемому Ксаверию Ксаверьевичу Новотканному, как интеллигент интеллигенту, пусть вылетает на авиаматку готовить свое устройство для применения над Белградом. Дочери, настоящей юной жрице истинного сталинизма, предложить собрать грандиозную демонстрацию молодежи для защиты Вождя. Проще всего, конечно, было бы позвонить нашей вечной героине Ариадне и попросить убежища в ее гардеробной, но это уж на крайний случай.
В таком довольно сумбурном внутреннем монологе барахтался Сталин, проплывая подо льдом Москвы-реки в сторону Яузской высотки, когда командир-радист, парень с достаточно отчетливым, но несколько раздобревшим лицом, передал ему пару наушников.
«Товарищ Сталин, на линии Берия». Уловил радист, даже «товарищем» не удостоил шельму! В наушниках звучал псевдоделовой голос псевдовсемогущего куратора всех силовых структур, говоря на каком-то не очень знакомом языке. «Товарищ Сталин, разрешите уточнить с вами ваше местонахождение».
«Прежде всего, достопочтеннейший, сообщите, где вы находитесь!» Не было в лексиконе Вождя слова более убийственного, чем «достопочтеннейший». Названный этим словом был уже, можно сказать, нанизан на булавку, как никчемная бабочка. Голос беспощадного сатрапа дрогнул: «Мы сейчас разбираемся с виновниками падения Кремля, товарищ Сталин. Налицо огромное предательство, товарищ Сталин! Поэтому необходимо знать ваше точное местонахождение, товарищ Сталин!»
Что за гадина, подумал Сталин, если он звонит мне сюда, под лед, используя неслыханное по своей стоимости связное оборудование, значит, он знает мое точное местонахождение. «А мне нужно знать ваше точное местонахождение, достопочтеннейший!» Берия залепетал: «Я сейчас нахожусь напротив павшего Кремля, в здании ГУМа, товарищ Сталин! – и добавил на языке будущего: – Руковожу операцией зачистки». Связь прервалась и как будто бы с той, достопочтеннейшей, стороны.
Через несколько минут «Павлик» (так назывался уникальный корабль) вошел в полноводное устье Яузы. Включили все прожекторы. В кристально чистой среде Н2О появился стыковочный узел эллинга. Сталин волновался до некоторого головокружения, похожего на состояние перед XVI съездом ВКП(б), на котором маячил вопрос о его устранении, хотя ничто вокруг вроде бы не давало повода для экстремального волнения – ни слаженные, четкие действия экипажа, ни твердость перемешанной со смельчаковцами чекистской охраны, ни преданные без лести ряшки Власика, Товстухи и Поскребышева, которых он с их фамилиями привык позиционировать, говоря на не очень знакомом языке, как истинных представителей русского народа.
После состыковки вся толпа – впереди люди со взятыми на изготовку автоматами – вошла в обширный холл и без малейшей задержки проследовала к лифту. Полностью засекреченный, то есть вроде бы и не существующий в высотке, лифт с удивительной скоростью взмыл в поднебесье. Сталин еще ни разу не был здесь, на Вершине, которую уже несколько лет соответствующие структуры (н.о.з.я.) готовили для него, как апофеоз местопребывания. Роскошь и величие Башни поразили даже его, бывалого. Как раз к моменту его прибытия чекисты принялись выводить из помещений череду весьма недурных на вид граждан. Довольно чистые и вроде бы вполне ухоженные лица явно высокого технологического образования двигались к грузовому лифту, с недоумением отмахиваясь от чекистских погоняльщиков. Сталин сразу сообразил, что перед ним в свой последний путь идут те, кто в течение трех лет готовил для него это верховное заседалище, Вершину. Мало кто из них, очевидно, догадывался, что их ждет, напротив, те, кто узнавал его в группе военных, начинал пылать жутковатым счастьем – Сталин, Сталин, это лично он! – и только один из них, высокий старик с несоветской внешностью, проходя мимо, плюнул ему прямо в лицо. С тех пор и до самого конца в его чертах стал проявляться симптом, известный в психиатрии, как «боязнь плевка»; впрочем, до самого конца у этой странной контрактуры лицевых мышц оставалось всего несколько часов, в отличие от точно такой же контрактуры у начлага полковника Лицевратова, которая просуществовала еще по крайней мере пару десятилетий почетной отставки носителя.
Сталина провели в «рубку», круговое помещение с панорамными окнами, аппаратуре которой позавидовал бы самый современный океанский лайнер. Здесь его ждал не кто иной, как Лаврентий Павлович Берия собственной персоной. Эта гадина опять меня запутывает, как в дни воркутинского восстания, подумал Сталин. Каким образом он раньше меня добрался до Вершины? По всей вероятности, мингрелец сидит здесь уже давно, а к павшему Кремлю даже и не подбирался. Если уцелею, устрою ему судилище в рамках Пленума Центрального Комитета.
«Товарищ Сталин, разрешите доложить, Таманская и Кантемировская дивизии уже на подходе. Не пройдет и двух часов, как мы, образно говоря на языке будущего, размажем этих мадьяр по стенке».
Вождя перекорежило. «Каких еще мадьяр? Ты что, Лаврентий, до сих пор не сообразил, что в городе действуют сербо-хорватские гайдуки? Ну-ка включи обзор ближайших окрестностей. Уверен, что они готовят штурм высотки».