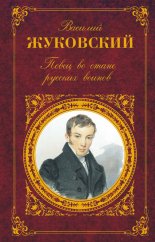Лев Толстой Шкловский Виктор

Великая трагедия крестьянских революций, трагедия, которая не кончилась ни в Азии, ни в Северной Африке, ни в Южной Африке, ни в Южной Америке, понятна Толстому; мужик сражается рядом с баем, или раджою, или с другим предводителем, носящим пышное имя, и снова становится рабом.
Опытнейший художник, Толстой ввел в свой роман о непокорном горце любовь четко и поэтично. У старого коменданта, который хотя и офицер, но тоже простой человек, – у коменданта, который связан со старым капитаном Хлоповым из «Набега», – жена, ее прозвали в крепости «капитанской дочкой». Толстой не хочет сказать про нее плохого слова. Марья Дмитриевна любит своего прокуренного табаком, всегда после двенадцати часов пахнущего вином, рябого, курносого Ивана Матвеевича. Марья Дмитриевна, вероятно, в молодости не была строгих нравов. Толстой об этом говорит мягко и любовно: «Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним как нянька…»
Марья Дмитриевна покровительствует Бутлеру – молодому офицеру, который проиграл все свои деньги в карты. Они гуляют у крепости.
«Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы».
Марья Дмитриевна, ласково и чисто жалея, любит Хаджи Мурата.
Марья Дмитриевна человечески привлекательна, она нравится и Бутлеру и Хаджи Мурату.
«Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему».
Здесь в лунном сиянии Марья Дмитриевна встречает верховых: офицера Каменева и донского казака с переметными сумками за седлом.
«Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку».
Голова Хаджи Мурата была показана Марье Дмитриевне, «Вот она, – сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца. – Узнаете?
Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе выражение».
Марья Дмитриевна уходит от этой милой отрубленной головы, от этого знака войны.
В рукописных вариантах она уводит своего мужа, заставив его взять отставку. Так отводят ребенка от места, где произошло преступление.
Повесть Толстого основана не на интересном происшествии, а на анализе жизнеотношений.
Мы знаем заранее, что Хаджи Мурат будет убит; когда описывается героическое сопротивление его и его наибов, мы помним, что его отрубленную голову уже показали Марье Дмитриевне. Но все равно мы вместе с ним сопротивляемся насилию. Это не борьба русских с горцами. С Хаджи Муратом сражаются горцы-милиционеры, его враги, люди, иначе решившие свою судьбу. Это сражается правда с неправдой, и Лев Николаевич умеет показать великую красоту правды и утверждать эту правду своим искусством.
Он долго подготовляет поэтическое торжество Хаджи Мурата.
«Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню. Хаджи Мурат остановился и стал слушать».
Гамзат умирает: «Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: „Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны“.
Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла!» – и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмокание и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери».
Все предсказано песней и соловьиным пением; соловьиное пение слито со звуком оружия, которое точат перед боем, соловьиная песнь сопровождает его дальше. Будет бой – бой безнадежный.
Хаджи Мурат остается последним; обороняющийся, поднимается он, держась за дерево. Он и сейчас страшен врагу. «Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался».
Толстой охраняет тело героя, окружая его поэзией: «Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко, а потом другие на дальнем конце».
Мальчики в яснополянском лесу спрашивали Толстого, для чего существует песня. В «Хаджи Мурате» Толстой отвечает, что песня существует для того, чтобы серьезно жить, не сдаваться, сражаться до последнего, сражаться, хотя бы ты остался один.
Он кончает свою повесть словами: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».
Революция
I. Начало нового времени
Заканчивая «Хаджи Мурата», Толстой колебался, стоит ли печатать при жизни эту повесть. Он боялся споров о литературной собственности, боялся гнева Софьи Андреевны, ревниво считающей, что деньги, получаемые с художественных произведений, должны попадать в семью на содержание детей, которые всё казались ей малышами. Она видела лысину Льва Львовича и считала ее трогательной. И неудачливый Лев Львович, и беспокойный Андрюша, и мрачный Сергей Львович казались ей еще детьми.
Жизнь менялась за пределами Ясной Поляны, но Лев Николаевич, зная жизнь, получая письма на двадцати шести языках, читая газеты, считал, что жизнь не меняется или меняется неправильно и скоро начнется другая жизнь, хорошая и добрая – справедливая.
Исчезнет государство, люди перестанут воевать, потому что никто не будет приходить на призывные пункты, люди не будут судиться, потому что суд сам по себе нелепость: почему присяжные могут обвинять или прощать человека, когда он против них ничего не сделал? Обидчики и обиженные должны сами сговариваться и мириться, потому что и те и другие виноваты.
Записи в дневнике становятся все более категоричными.
«Я сначала думал, что возможно установление доброй жизни между людьми при удержании тех технических приспособлений и тех форм жизни, в которых теперь живет человечество, но теперь я убедился, что это невозможно, что добрая жизнь и теперешние технические усовершенствования и формы жизни несовместимы. Без рабов не только не будет наших театров, кондитерских, экипажей, вообще предметов роскоши, но едва ли будут все железные дороги, телеграфы. А кроме того, теперь люди поколениями так привыкли к искусственной жизни, что все городские жители не годятся уже для справедливой жизни, не понимают, не хотят ее».
Городов, вероятно, не будет, не будет железных дорог, не будет того, что называют современной техникой, она создана по принуждению – не для себя. Города распадутся так, как рассасываются опухоли при счастливом выздоровлении. И будут спокойные, счастливые деревни, владеющие всей землей России. Но это не может быть достигнуто при помощи политической борьбы, потому что политическая борьба – это насилие. Лев Николаевич был уверен, что русский народ созрел для того, чтобы жить без правительства. Всякое правительство, например, парламент, не лучше того, что есть, потому что и это новое правительство будет обслуживать богатых – адвокатов, фабрикантов.
Праздных людей, интересующихся политикой как средством сохранения праздности, – либералов – Лев Николаевич презирал.
Правительство не нужно, но освобождение земли, которое должно произойти, как будто бы легче всего может произойти путем царского приказа. Молодой, боящийся родственников, запутавшийся царь все же может издать закон об освобождении земли при помощи введения единого налога на землю; при таком налоге частное владение землей, крупная земельная собственность станет невыгодна и невозможна.
Получалась логическая ошибка: правительство не нужно, но нужен правительственный акт – земельная революция, которой будут противодействовать, с противодействием надо бороться, но насилие не способ борьбы. Способ борьбы – убеждение.
Царь, министры, губернаторы, палачи – все тоже вызывают жалость, они жертвы строя. Но как спасти их? Неизвестно.
Лев Николаевич не был чудаком.
Лев Николаевич был утопистом. Утопия его была направлена в прошлое. Это утопия отживающего. Стоят избы, хотя нижние венцы их подгнили; пашутся поля, хотя пашутся плохо – сохами; существует община с переделами земли, но все это только кажется, потому что внутри самой общины существуют безземельные крестьяне, и крестьяне с ничтожным наделом, и кулаки, которые имеют своих батраков и арендуют землю.
Россия изживала свои иллюзии.
Само правительство, жестокое, кажущееся могучим, становилось иллюзией, историческим пережитком; иллюзией было военное могущество России.
Иллюзией, которую разделяло уже меньшинство интеллигенции, было то, что Россия может обновиться как чисто земледельческая страна.
II. Лев Николаевич жил в прошлом
Когда-то Лев Николаевич рассказал о старом князе Болконском, который не понимает, что происходит в России во время нашествия Наполеона. Князь стар, но не безумен, конечно, но у него есть старческий склероз; он одновременно утверждает нереальное и смутно понимает, что реальное существует.
Лев Николаевич хорошо знал психологию старости еще тогда, когда цвел здоровьем, он понял эту психологию, и он бы не поддался старости, если бы его сознание не было определено сознанием миллионов крестьян-хозяев – недовольных, разоренных, но думающих, что старое еще продолжается, что старое можно поправить.
Лев Николаевич не понимает взаимоотношения сил, как многие не понимали тогда. Рабочие, поднятые провокатором Гапоном, пошли 9 января к царю требовать управы на заводчиков, жаловаться на угнетение.
В них стреляли. Мостовая покрылась кровавыми пятнами; Россия взволновалась. Взволнован был и Лев Николаевич, но он не понимал, почему царь должен был принять депутацию петербургских рабочих: «Что же значит для государства голос петербургских рабочих?..» Рабочие пьют каждый день чай, ходят в кожаных сапогах, живут не хуже деревенского старосты. Почему они протестуют, а не крестьяне?
Кроме того, ведь их же мало, они случайность, их не будет в той новой России крестьянства, бесправительственной.
А их было много, они были рядом со Львом Николаевичем. Пламя домен с Косой горы было видно из окон яснополянской усадьбы. Время, неправильно предсказанное, продолжало свой ход, не считаясь с предсказаниями. Били часы, а Лев Николаевич не мог сосчитать количество ударов боя, как иногда это бывает в сновидении.
Заснешь вечером, есть дела, часы бьют шесть, слышишь и думаешь – шесть утра, вставать рано.
Шел век империализма. 27 января 1904 года началась русско-японская война. С 22 января по 27-е записей в дневнике Толстого нет.
27 января записано: «Сейчас ходил гулять и думал: 1) Война и сотни рассуждений о том, почему она, что она означает, что из нее будет и тому подобное… И всем предстоит, кроме рассуждения о том, что будет от войны для всего мира, еще рассуждение о том, как мне, мне, мне отнестись к войне».
Три раза написано слово «мне» и последний раз трижды подчеркнуто.
Мне – это означает не Толстому, а каждому, но каждому в отдельности под влиянием нравственных своих убеждений. Важно одно для каждого: «Не воевать, не помогать другим воевать, если уж не удерживать их».
Удерживать можно только рассуждениями.
На следующий день Толстой поправляет свой рассказ «Фальшивый купон». «Фальшивый купон» написан на тему о том, как незначительный проступок гимназиста, подделавшего цифру на купоне, повлек за собою ряд несчастий. Это цепь новелл о преступлениях, вызванных «купоном» – деньгами. Все должно было кончаться всепрощением.
2 февраля: «Работаю над Купоном, а о войне не пишется».
Потом он пишет о войне большую статью «Одумайтесь!».
Лев Николаевич в старости собирал изречения великих людей, создавал сборники «Круг чтения» и «На каждый день». Ему казалось, что отдельно взятая мысль цельнее, округленней, что мысли, взятые вместе, сминают друг друга, как ягоды виноградной кисти: плотные, но уже не совсем круглые. Толстой считал, что на людей надо действовать нравственными убеждениями и, значит, мысль – это самое важное, самое действительное. В его статьях изречения такого рода становились эпиграфами.
Статья «Одумайтесь!» разделена на главы: к первой главе даны четыре эпиграфа, начинается она эпиграфами из Евангелия, Библии, потом переходит на эпиграф из Молинари и Мопассана.
Вторая глава начинается четырьмя эпиграфами из Вольтера, Анатоля Франса, Летурно и Свифта. Глав двенадцать. К 11-й главе четыре эпиграфа; 12-я глава эпиграфов не имеет.
Война разгорается, люди идут на бой, как пешая саранча, которая переходит воду, идя по трупам потонувших. Идет война за чужую землю, за землю «арендованную», за концессию. В статью включены письма – рассказы о том, как провожают на войну запасных, призванных для убийства. В конце дата – 8 мая 1904 года.
Эпиграфы – мысли мудрых людей – как будто говорили все об одном и том же: война может быть побеждена, если люди осознают ее зло. Но история шла своим путем, и от нее нельзя было загородиться старыми книгами, даже самыми мудрыми.
Старая толстовская теория о сопротивлении несопротивлением колебалась теперь даже в собственных его глазах. Он видел, как идут японцы, сминая не подготовленную к войне русскую армию.
В его сказке про Ивана-дурака солдаты и мужики поняли друг друга – они говорили на одном языке. Но если не сопротивляться, не завоюют ли Россию японцы или германцы?
У Толстого возникают патриотические воспоминания и патриотическая горечь – особенно тогда, когда пал Порт-Артур.
30 января 1905 года Толстой говорил: «Маша напала на меня за то, что я сказал, что лучше бы взорвали Порт-Артур, нежели отдали японцам… Те, кто радуется поражениям, должны действовать прямо против правительства, а не через потери народа».
В феврале Татьяна Кузминская спросила Толстого: «Как же, по-твоему, не следовало сдавать Порт-Артур?
– Я сам был военный. В наше время этого не было бы. Умереть всем, но не сдать».
Так же он говорил с Ильей Львовичем.
« – Дурно… С военной точки зрения нельзя так делать».
Старой России уже тоже не было. Лев Николаевич волонтером воевал на Кавказе, мечтал о Георгиевском кресте, сын его Андрей поехал на японскую войну вольноопределяющимся. Для сына знаменитого человека нашлось место в штабном вагоне: он ехал не как солдат, а как офицер. Андрею Львовичу дали «Георгия» и отпустили с войны, потому что его ушибла лошадь.
Он на войне не был нужен: нужно было его имя.
Толстой в дневниках клялся в патриотизме. Но его патриотизм был народен и искренен.
Приезд Андрея с войны был капитуляцией, знаком слабости и поражения.
Старой России не стало.
III. 1905 год
Толстой считал городскую революцию не только ненужной, но и невозможной, он думал о невозможности всякой революции, опираясь на предшествующий исторический опыт.
В предисловии к статье В. Г. Черткова «О революции» Толстой писал о «разрушении насильственного строя» следующее:
«Но ведь для того, чтобы разрушить этот насильственный строй, нужно прежде всего иметь средства; для этого нужно, чтобы было хоть какое-нибудь вероятие в успехе такого разрушения.
Такого же вероятия нет ни малейшего».
Дальше Толстой начинает анализ: «Попытка революции 14-го декабря происходила в самых выгодных условиях случайного междуцарствия и принадлежности к военному сословию большинства членов, и что же? И в Петербурге и в Тульчине восстание без малейшего усилия было задавлено покорными правительству войсками, и наступило грубое, глупое, развратившее людей тридцатилетнее царствование Николая».
Дальше идут анализы недворянских революций; показано, что они были тоже неудачными. Толстой предлагает бороться «разумным убеждением».
Для Льва Николаевича картина Петербурга 1904 года соответствует тому Петербургу, который он знал пятьдесят лет тому назад.
Между тем и в начале нашего века Петербург уже был разрезан не только Невой, но и непрерывным красным рядом заводов. Они прерывались дворцами и особняками только на небольшом участке от Николаевского до Литейного моста.
У взморья был порт; за Литейным мостом заводы тянулись по обеим сторонам на десятки километров, дельта Невы тоже была занята заводами. Пригороды Петербурга были заводские. Но эта новая сила была Толстому почти не известна.
Цвет, воздух и народ столицы изменились.
В яснополянских записках Душана Маковицкого отмечено, что Толстой доказывал 12 января 1905 года следующее: «Требовать от правительства, чтобы оно уступило свою власть, нельзя: оно не уступит. Остается одно из двух: или уничтожение правительственных лиц, убийства, террор, так, чтобы правительство разбежалось, и тогда наступит анархия; или самосовершенствование каждого отдельного человека. И только второе средство действительно».
Лев Николаевич указывал, что и в конституционных государствах, и в государствах республиканских земельный вопрос не решен, а вопрос этот – самый главный. «Народ ждет, что царь, как отнял от помещиков крепостных, так отнимет у них и землю».
В революцию Толстой не верил, ее не зная; верил он в декабристов: «Декабристы были религиозные, самоотверженные люди, я их все более и более уважаю», – говорил он, обращаясь к Бирюкову.
Чем дальше шла революция, чем больше было видно, что толстовский путь не принят народом, тем настойчивее становился Толстой. Он заглушал сомнения, повторяя одно и то же в дневниках, говоря все время о том, что считал вечным: о боге, сознании.
Время убыстрялось, а Лев Николаевич жил прошлым, восхищаясь им, укоряя им настоящее. 24 января 1905 года он говорит о декабристах: «Это были люди все на подбор, как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул. Мужицкого слоя магнит этот не дотрагивался». И дальше Толстой говорит о декабристах как об «организованной силе», подсознательно противопоставляя их новой революции.
Но Пестеля не было; декабристы умерли давно. Толстой разговаривал с призраками.
Он перестал читать газеты: «Я думал, трудно будет отвыкнуть. Решив, однако, не читать, как раньше – не курить, стало даже приятно».
Годы революции для Толстого связаны с перечитыванием Герцена, с возвращением к мыслям написать роман о декабристах.
Но вот забастовали железные дороги, шли восстания.
Лев Николаевич хотя и видел, что революция происходит, все же говорил, что ее не может быть.
Корреспондент парижской газеты «Matin» передает слова Толстого. Мы, конечно, не можем верить до конца переводу, но все же перевод сделан Маковицким, который хорошо знал Толстого:
«Русский народ не думает ни о какой революции. Впрочем, революции были возможны в конце XVIII и в первой половине XIX века. В настоящее же время правительства обладают слишком многочисленными средствами для репрессии, чтобы была возможность их вообще ниспровергнуть. Посмотрите, в столицах даже мостовые заменены асфальтом; как же вы хотите возобновить баррикады».
Между тем революция была и баррикады были воздвигнуты.
Толстого потрясло восстание броненосца «Потемкин».
Колебания Толстого – это не старческое чудачество, это еще не взломанная окалина старого доверия народа к царю, которого народ считает находящимся не в плену определенной группы людей – имущих классов, а свободно решающим.
Толстой разочаровался скоро, разочаровался горько. Его беспощадная критика жизни и отсутствие опоры для того, чтобы ее переделать, – все это отразило, как в зеркале, крестьянский характер русской революции.
Окружающие его были людьми обыкновенными, робкими, либеральными из боязни. Александра Львовна Толстая, поклонница Черткова, гуляя по аллеям Ясной Поляны, сказала Маковицкому: «На этих березах нас будут вешать».
Чертков умело отмалчивался. Он понимал революцию, вероятно, как трудный путь приближения к судьбе английского общества.
Но то, что говорил Толстой дома, но то, что записывали, вероятнее всего неточно, толстовцы, недовольные тем, что жизнь проходит мимо и меньше стало людей приходить в Ясную Поляну, – не это определяло значение Толстого в русской революции.
Не определяло или мало определяло и то, что он сам говорил невнимательным, торопливым иностранным корреспондентам, жаждущим сенсации, жаждущим услышать что-то необыкновенное.
Определяло то, что он годами приучал народ видеть сущность жизни. Он не только определил и доказал, что король голый. Он долго и внятно говорил о народе – законном владельце земли.
Его планы земельной реформы по Генри Джорджу не были приняты. Они не были нужны крестьянам, тем более что выкупные платежи кончались.
Как ни дорого была оценена земля, но все же и эта ростовщическая цена была выплачена.
Шел другой разговор: о всей земле во всей великой России. Идеал возвращения всей земли в руки трудящихся Толстой указал. Поняли его и либеральные, смыкающиеся с кадетами трудовики и даже сельские попики. Он стал осознанной верой.
IV. Толстовцы
Еще в 1904 году по амнистии, объявленной в знак ликования о рождении наследника престола, Павел Бирюков вернулся из женевской эмиграции в Россию.
После революции 1905 года манифестом 17 октября была дана некоторая религиозная свобода и разрешена регистрация сектантских общин при условии не менее пятидесяти подписей на заявлении.
Бирюков решил вместе с небольшим кругом сочувствующих подать заявление о регистрации общины толстовцев. Перехожу на цитату, так как передать строй мысли толстовца мне трудно:
«Мне было предложено составить это заявление по установленной форме, что я и поспешил сделать. Трудность и ответственность такого документа состояли в том, что нужно было удовлетворить сразу краткости и ясности изложения и вместе с тем высказать те важные основы, которые раз навсегда определяли наше отношение к властям.
Ввиду важности этого дела я решился обратиться за советом ко Льву Николаевичу. Он со свойственною ему мудростью и благостью понял огромное значение этого акта и собственноручно его редактировал. Подлинный автограф этой редакции сдан мною на хранение в Толстовский музей в Петрограде, здесь же я привожу копию главной части его. В начале этого заявления следовали формальные ответы на вопросы о месте, составе, названии общины и проч., а затем следовало краткое изложение основных взглядов. В этой-то части и были исправления Л. Н-ча.
Он почти заново переделал мое изложение, и после его поправок оно приняло такой вид:
«Мы, нижеподписавшиеся, члены общины „Свободных христиан“, объединяемся на общих основах христианского учения, признавая сущностью его учение о любви не только к любящим нас, но и к врагам. Чуждое политических целей, общество наше, объединяясь в единстве верований, оставляет на совести каждого из ее членов его отношение к существующему порядку и предержащим властям, хотя вытекающее из нашего верования отношение к правительству есть полное подчинение всем его распоряжениям, не противоречащим основным требованиям христианского учения о любви к богу и ближнему».
Регистрация не состоялась, потому что собрать пятьдесят подписей не удалось. Толстовство, как массовое явление, с революцией кончилось.
Вернулся постаревший Чертков – на руках у него черные перчатки, которые он не снимал. У него была экзема рук. Черные перчатки не портили Владимира Григорьевича – он становился еще более похожим на пастора. Может быть, пристальное внимание Толстого к Черткову, его непрерывное общение с ним после революции связано с тем, что Чертков был остатком толстовства, спокойно утверждающим уже не существующее.
Реакция впоследствии научила Толстого новому отношению к тому, что произошло в России.
Он вступил с реакцией в бой. Результатом был уход из усадьбы компромисса, из любимой и ненавидимой Ясной Поляны.
«Русские мужики». «Не могу молчать!»
В 1908 году товарищество Голике и Вильберг, тогдашнее лучшее художественное издательство, прекрасно делавшее репродукции, издало альбом «Русские мужики» Н. Орлова.
Н. Орлов был малоизвестным художником, которого очень поддерживал как близкого себе по воззрению человека Толстой.
Н. Орлов со своей женой и девятью детьми каждое лето жил в деревне Ясная Поляна – это был веселый, ласковый и хорошо знающий деревню человек. Предисловие к альбому написал Лев Николаевич. Об этом предисловии Ленин говорил, что в нем выражены худшие черты толстовщины. Вот как оно начинается:
«Прекрасное дело – издание альбома картин Орлова. Орлов мой любимый художник, а любимый он мой художник потому, что предмет его картин – мой любимый предмет. Предмет этот – это русский народ, – настоящий русский мужицкий народ, не тот народ, который побеждал Наполеона, завоевывал и подчинял себе другие народы, не тот, который, к несчастью, так скоро научился делать и машины, и железные дороги, и революции, и парламенты со всеми возможными подразделениями партий и направлений, а тот смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ, который вырастил и держит на своих плечах все то, что теперь так мучает и старательно развращает его».
В предисловии Толстой не только противопоставляет русский народ, который делает «и машины, и железные дороги, и революции», этой самой революции, но он противопоставляет его тому народу, «который побеждал Наполеона».
Получается так, что народ, изображенный на картинках Н. Орлова, настоящий русский мужицкий народ, а тот народ, который изображен в «Войне и мире», не настоящий народ и народ, Толстым не любимый.
Толстой дошел в отрицании революции до самоотрицания. Но в этот же год Лев Николаевич по поводу массовых казней написал великую статью «Не могу молчать!». Она начинается так:
«Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе.
И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.
Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни».
Лев Николаевич писал в этой статье о терроре контрреволюции. Он писал о том, что все знали из газет, каждый день получая подтверждение, но эта статья потрясла мир.
Работа над статьей продолжалась с 13 мая по 15 июня 1908 года, в отрывках она была напечатана в ряде газет, которые были сейчас же оштрафованы. По словам «Русского слова», один севастопольский издатель расклеил по городу номер своей газеты с отрывками из «Не могу молчать!». Статья вышла сразу на латышском языке и в августе полностью напечата в нелегальной типографии в Туле. Она была перепечатана во всем мире и в Германии сразу вышла в двухстах газетах.
Что поразило в этой статье мир?
Это публицистика, осуществленная со всей силой гениального художника-реалиста. Толстой не просто пишет о казнях, – он изображает казнь, ее подробности, как человек, смотрящий широко открытыми и как будто впервые все увидавшими глазами. Он рассказывает, как вешали двенадцать человек:
«Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы. Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается. Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, – их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, – разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли».
Рассказывается дальше, как развращается казнями вся Россия. В восьмидесятых годах по всей России был только один палач; в 1908 году торговец-лавочник, расстроивший свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств и, получая по сто рублей с повешенного, поправил свои дела. Палачи потом начали конкурировать друг с другом, сбивая цену. Один палач вешал за пятьдесят рублей.
«Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:
«Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму и, будьте спокойны, сделаю как должно».
В этой статье Лев Николаевич не говорит, что борющиеся, то есть правительство и революционеры, равно виноваты; он говорит правительству, что революционеры рискуют, что они верят в свою правоту. Показав палаческое дело правительства как ремесло, Толстой разоблачает преступления правительства. Он пишет:
«Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду.
Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».
Он заявляет правительству:
«Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожение земельной собственности, а напротив, утверждая ее и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни стараетесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидать, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь».
Могучая статья эта поразила мир, имела неисчислимые последствия.
Индийский революционер Таракнатх Дас написал Льву Николаевичу из Америки 24 мая 1908 года:
«Ваша моральная сила ослабила даже самодержавную власть русского правительства, всегда преследовавшего все передовое, – оно запугано Вашей деятельностью и вынуждено мириться с Вами и молчать.
Действительно, русский народ порабощен, но он не самый угнетенный народ, если сравнить условия его существования с положением народов Индии. Вам известна история народов всего мира, и Вы знаете, в каком порабощении мы живем. В книге сэра Уильяма Диглея «Процветающая Британская Индия» неопровержимо устанавливается, что за десять лет, с 1891 по 1900 г., от голода в Индии погибло 19 миллионов человек, в то время как за последние 107 лет, с 1793 по 1900 г., от войн во всем мире погибло всего 5 миллионов человек. Вы ненавидите войну, но голод в Индии страшнее всякой войны. Он происходит там не из-за недостатка продовольствия, а вызван ограблением народа и опустошением страны британским правительством. Разве это не позор, что миллионы людей в Индии голодают, а английские торговцы вывозят оттуда тысячи тонн риса и других продуктов питания?!
Население Индии тяжело страдает. Политика Британии в Индии представляет собой угрозу всей христианской цивилизации.
Своими публицистическими выступлениями Вы принесли огромное благо России. Мы умоляем, если только у Вас будет время, написать статью и высказать свое мнение о горестном положении Индии».
Лев Николаевич начал составлять ответ, и ответ этот занял у него полгода работы. Сохранились четыреста тринадцать листов черновиков автографов и исправленных машинописных копий.
Пока Лев Николаевич писал, он получил еще письмо от одного индийского интеллигента, учителя Г.-Д. Кумара, который эмигрировал в Канаду. Привожу отрывок из этого письма:
«Вы родились русским, но Вам принадлежит весь мир. Вы великий человек, и Ваше величие проявляется в заботе об обездоленных. Верьте, народы Индии еще более угнетены, чем русский народ. С надеждой на Вашу помощь я присоединяю к поздравлениям других людей и свое сердечное поздравление по поводу Вашего 80-летия и умоляю Вас от имени моих соотечественников помочь им, насколько это будет возможно».
Лев Николаевич написал свое знаменитое «Письмо к индусу», которое, хотя в нем говорилось о том, что насилие не может освободить народ, было немедленно запрещено английскими властями в Индии.
На «Письмо к индусу» откликнулся своим письмом к Толстому Мохандас Кармчанд Ганди.
«Беру на себя смелость, – так начинает Ганди свое письмо, – обратить Ваше внимание на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три года. В этой колонии живет около 13 тысяч британских индийцев. Эти люди уже многие годы страдали от различных правовых ограничений. Предубеждение против цветных, а в некоторых отношениях и против азиатов вообще, очень сильно в этой стране. Поскольку это касается азиатов, оно объясняется соперничеством в торговле. Это предубеждение достигло своей высшей степени три года назад, когда был проведен закон, специально предназначенный для азиатов, рассчитанный, как думаю я и многие другие, на то, чтобы унизить и лишить человеческого достоинства тех, против которых он применялся».
Лев Николаевич отметил в своем днезнике 24 сентября 1909 года: «…получил приятное письмо от индуса из Трансвааля».
Писем Ганди было несколько. Ганди прислал Толстому свою книгу «Самоуправление Индии». Книга эта сохранилась в яснополянской библиотеке. Ганди издал «Письмо к индусу» Толстого со своим предисловием.
«Письмо к индусу» отличается от других статей Толстого, между прочим, и тем, что Лев Николаевич не доказывает в этой статье, что индийцы, которых угнетают англичане, и угнетатели-англичане равно виноваты, а между тем в письме к польской женщине он как раз доказывал, что немцы, угнетающие поляков в исконных польских землях, и поляки, ненавидящие немцев, равно возбуждают его сострадание.
В «Письме к индусу» Лев Николаевич говорит об иной вине народа – двухсотмиллионный высокоодаренный народ позволяет себя угнетать небольшому кружку людей, который стоит ниже его по своему развитию, по своим физическим и нравственным силам. Лев Николаевич говорит, что нужно освободиться в сознании своем «от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину».
Надо выбросить религиозные и научные суеверия, и надо понять, что не англичане, а сами индийцы поработили себя, выполняя приказания англичан. Толстой говорит: «Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас».
Толстой развернул программу гражданского неповиновения. В патриархальной Индии с еще не вполне распавшимися общинами, с населением, которое противопоставляло себя завоевателям, он помог народу выиграть битву – освободиться.
«Лев Толстой как зеркало русской революций»
Восьмидесятилетний юбилей Толстого официальная Россия отметила треском лицемерных фраз. Человека, много страдавшего, много пережившего, пытались представить человеком, не знающим колебаний и внутренних противоречий.
Самыми вредными восхвалениями были восхваления либералов.
В газете «Пролетарий» В. И. Ленин возражал М. Неведомскому, который писал, рассказывая про европейских поклонников Толстого, о том, «какой величавой, какой мощной, вылитой из единого чистого металла, фигурой стоит перед нами этот Толстой, это живое воплощение единого принципа».
Ленин говорил на это с негодованием:
«Уф! Говорит красно – и все, ведь, это неправда. Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого. И „все эти“ буржуазные поклонники как раз не за «цельность», как раз за отступление от цельности «почтили вставанием» его память».
Ленин не мог знать дневников Толстого, но увидел противоречия Толстого в его художественных произведениях и публицистике, увидел их историческое происхождение, их конкретность, увидел в них зеркало русской революции и предсказание ее победы. Даже резкие выражения Ленина, примененные к Толстому, такие выражения, как «помещик, юродствующий во Христе», сейчас для нас звучат иначе, потому что слово «юродство» неоднократно встречается в дневниковых записях самого Толстого. Он знал о порочности того положения, в котором находился, искал иных слов, чем те, которые он произносил, но старался замазать противоречия верой в своего абстрактного, толстовского бога, верой, не всегда сохраняемой.
Ленин писал:
«Но противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, – и поэтому совсем мизерны заграничные и русские „толстовцы“, пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, – действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции».
Ненависть к старому сказалась во всех предреволюционных вещах Толстого, но еще молодым человеком, на Кавказе, Лев Николаевич увидел в терских казаках свободных крестьян без помещика, хотел сам стать таким, как они, хотел жениться на казачке, потом, вернувшись в Ясную Поляну, хотел жениться тоже на крестьянке, хотел создать в Ясной Поляне заповедник старого, патриархального крестьянства – и не смог этого сделать.
Ленин писал:
«Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов.
Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер такого социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду с оценкой других видов социализма.
Далее. Критические элементы свойственны утопическому учению Л. Толстого, так же, как они свойственны многим утопическим системам. Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более определенный характер принимает деятельность тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее критически-утопический социализм «лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания».
Он хотел войти в жизнь, которая исчезала. Он хотел идти вперед, возвращаясь назад. Но это хотел сделать не он один. Крестьянство боялось будущего. Оно видело, какое горе и какое разорение приносит им господин купон, капитал, город. Город выворачивался, раскрывался перед крестьянами Хитровым рынком, нищенством, бесправием. Но крестьянство увидело ясно несправедливость своего положения, училось ненависти и протесту. Революция показала русскому народу, что царь, как в сказке Андерсена, «голый». Эту сказку любил вспоминать Толстой.
О дневниках и письмах; нечто вроде предисловия к последним главам книги
I
Революция прошла не так, как гроза, про которую неизвестно, когда она повторится, а как день: известно, что вернется.
Лев Николаевич ждал, что будет вторая революция, которая решит земельный вопрос: ту, которая прошла, он считал еще не настоящей.
Умер Сергей Николаевич Толстой – брат Льва Николаевича, умер, мрачно сдерживая отчаяние. У него был рак лица. Лев Николаевич ездил к нему и был тронут, когда брат сказал ему:
– Друг мой…
Братья Толстые были дружны, но относились друг к другу сурово. «Друг мой» – это были между ними самые ласковые слова.
Умерла Марья Львовна: она лечила в Ясной Поляне, заболела сама. Когда она умирала, Лев Николаевич сидел рядом с ней, держал ее руку до последнего момента. Умерла Маша – женщина, полная обаяния, хорошо певшая, иногда становящаяся красивой, верный друг отца, самоотверженный человек.
Человек, не увидавший счастья.
Как будто в доме уже подводились счеты. Людей было много, но все знакомые. Своих нет.
Может быть, свой – Чертков в черных перчатках.
Человек с холодным разумом и твердой рукой.
Софья Андреевна пережила тяжелую операцию; во время операции Лев Николаевич ушел в лес, сказав, что если все будет благополучно, пусть позвонят в колокол два раза.
Колокол висел рядом с балконом яснополянского дома на старом вязе, в него звонили перед обедом.
Тогда колокол позвонил: Софья Андреевна пережила операцию. Она постарела, но все еще занималась хозяйством, составляла меню, волновалась из-за детей, думала о внуках, говорила про прошлое и не обижалась, что ее не слушают.
Она стерегла достояние детей и здоровье мужа.
Иногда она просыпалась с неожиданной энергией, и тогда казалось, что старость прошла, но это была агония истерики.
Чертков собирал толстовский архив и требовал, чтобы дневники, «клеенчатые тетради», в которых Толстой записывал всю жизнь, были в архиве Черткова. Тетради Толстого полны сомнений, упреков, извинений.
Эти дневники были созданы не только волею Толстого; в дни его молодости люди приучались анализировать себя, говорили друзьям о самом сокровенном. В кружке Станкевича люди все время проверяли себя, готовясь к чему-то новому.
Так же исповедуются друг перед другом герои «Юности», повести Льва Николаевича Толстого, упрекают друг друга, напоминая о признаниях.
Все несчастливые дома несчастливы по-своему. Дом Льва Николаевича был полон прозрачным несчастьем; обитатели его говорили, что живут в стеклянном доме.